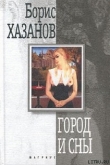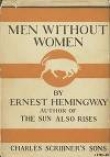Текст книги "Властелин дождя"
Автор книги: Фзнуш Нягу
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 19 страниц)
Лилика, как увидела сестру, принялась плакать и причитать.
– Замолчи! – прикрикнул на нее Мэрэчине. – Замолчи, не доводи меня до греха, не то лежать тебе рядом с ней.
Но девочка зарыдала еще пуще, и Мэрэчине дал ей такую пощечину, что она упала, а он принялся избивать ее, будто намереваясь выполнить угрозу.
– Отведите ее в дом и успокойте, – крикнул дедушка жене Мэрэчине. – Хорошо бы бедняжке поспать, забыться.
С той ночи Григоре никогда больше не возвращался в деревню: жив ли он, или кости его белеют в каком-нибудь овраге – кто знает. А через неделю исчезла из дома Мэрэчине и Лилика; и вот я встретил ее спустя двенадцать лет в Тихом Озере и наговорил ей грубостей.
Открытие это меня взволновало. Я считал драму крестьянина Михулеца, конокрада, убитого жандармами, завершенной, но, видать, я измерял жизнь негодным мерилом. Теперь воображение мое разыгралось, и я принялся фантазировать. Что же могло произойти за истекшие двадцать лет? Из дома Теофила Мэрэчине Лилика вместе со своим приемным отцом отправилась на Западный фронт. Они прошли с боями Трансильванию и перешли через Тису. Стоит зима. В степи неистовствует белая мгла. Румынский эскадрон ведет кровопролитные бои. После атаки Андрей Доброджану, уставший до полусмерти, возвращается в обоз, где ждет его дочурка, укутанная в промерзший полушубок; в руках у нее заяц из папье-маше, и она грызет сухари, размоченные в снегу…
Я находил, что для меня, молодого журналиста, полного честолюбивых замыслов, эта тема – просто находка. Повесть, которую я собирался написать, – «Дочь конокрада»– должна была произвести фурор. Чтобы написать ее, стоит, сказал я себе, пожить с годок в Тихом Озере.
Андрея Доброджану, прозванного в селе Бормотун, я вскоре разыскал. От былого его здоровья и силы мало что осталось. Он постарел, скособочился из-за раны в плече и стал припадать на ногу. Лицо у него худое, серое, голова круглая, напоминает арбуз, вены на шее выступают и натянуты, точно струны контрабаса – хоть смычком на них играй.
По субботам после полудня в его дворе, что через дорогу от гумна, позади мельницы и жома, толпятся мужчины, желающие навести красоту: очень уж легкая у Доброджану рука по части бритья.
Я отправился к нему с Тэмэрашу и Букуром. На дворе людей – что зерен на мельнице. Кто расположился на колченогих стульях, вынесенных из кухни, кто примостился на завалинке, покрытой дорожкой, пришедшие позже сидят на корточках в тени дома. Покуривают, рассказывают всякие небылицы, а в это время на печке играет патефон, принесенный хозяйским крестником. Он играет давнишнее, старомодное танго, я помню только его припев:
На Танголите
Меня ищите,
На Танголите,
Где любовь моя…
Андрей Доброджану работает не один. Там же вертятся еще два доморощенных парикмахера, в руках у них кисточки, бритвы и ремни для правки бритв.
Нас, учителей, тут же пропустили без очереди. Доброджану устроил Тэмэрашу и Букура к своим помощникам, а меня, нового клиента, усадил к себе и принялся намыливать мне физиономию. У него и в самом деле была легкая рука, не зря о нем ходила слава, и я сказал ему об этом.
– Знаю, – ответил он, – так все говорят. Вот сколько я в армии был, потом на фронте, хоть кого бы поцарапал бритвой – нет, ни разу. А ведь бывает – все лицо в прыщах, глаза бы мои не смотрели.
– А где вы были на Западном фронте?
– Да нигде не был, меня в сорок четвертом демобилизовали. Один раз, правда, я все-таки бился с немцами. Здесь, под Брэилой, это было, в одном селе несладко им пришлось, задал я им жару…
Домой я вернулся разочарованный. Ничего общего с тем, что я воображал, жизнь Андрея Доброджану не имела, казалось, я знал о фронте больше, чем он. Тогда какого черта мне торчать целый год в Тихом Озере? Я твердо решил, что в конце месяца, получив зарплату (чтобы расплатиться за подъемные), отправлюсь в путь-дорогу.
А пока, дабы развеять скуку, я хотел завоевать симпатии телефонисток. Все без толку. Мои рыжие волосы и веснушчатое лицо никому не нравились. Но счастье улыбнулось мне как раз там, где я не ожидал. Колхозный счетовод, худенькая девица, да такая длинная, словно ее надставили, влюбилась в меня по уши. Жила она по соседству и, несмотря на это, каждый день присылала мне по письму в красивом конверте вместе с пакетиком конфет. Однажды она подарила мне даже трубку из розового дерева.
– Теперь, должно быть, она пришлет мне фигурки из пластилина, – сказал я Тэмэрашу как-то вечером, ложась спать, – а потом позовет меня играть на дороге в классики.
– Ты ошибаешься, прыгать на одной ножке – занятие не для нее. Она обольстит тебя подарками и, глядишь, к концу недели вложит тебе в руку коробку конфетти для веселого гулянья. И придется тебе посыпать ей волосы в день, когда играют вальс для самой красивой девушки села. Вот в чем дело.
Я вернул девице все ее письма и целых три дня не выходил из дому: спал, читал и время от времени со скуки тупо разглядывал ярмарочные картинки, которыми Тэмэрашу разукрасил стены. Были здесь пейзажи, гравюры и композиции – так по крайней мере возвещали подписи, – и все они были нарисованы одной и той же рукой, но рукой, очевидно, увечной, потому что пастух, стоящий посреди стада, походил скорее на людоеда, завернувшегося в тулуп, а овцы вокруг него – на разбросанные в беспорядке куски мяса. Девушки, расположившиеся на берегу реки под деревьями, напоминали пугала, которые крестьяне ставят на огородах, чтобы отогнать ворон. Что же касается гнезд куропаток, схоронившихся на пшеничном поле, то можно было поклясться, что это свиные рыла, разбойничьи башлыки, капуста кольраби, мыски изношенных сапог – все что угодно, только не гнезда куропаток. Сюжеты были разные, но все картинки, я бы сказал, угрожали, подстерегали и преследовали по пятам.
– Знаешь что, – попросил я Тэмэрашу, – разреши мне сложить их на чердаке. Я от них с ума сойду…
– Так ведь я для того их и повесил, – ответствовал Тэмэрашу. – Их нарисовал мой двоюродный брат, ученик шестого класса, который в прошлом году получил переэкзаменовку. Смотрю я на них и вспоминаю, как мой старик орал на меня, когда я приехал домой на каникулы: «Я тебя, племянничек, на руках носил, а ты проваливаешь моего ребенка! Ты один хочешь выйти в люди. Чтобы одному тебе хорошо было!» Эти картинки заставляют меня помнить, что, когда попаду на кафедру истории, моему племяннику надо будет ставить десять с плюсом. И еще одно следует знать тебе, дорогой Чернат: нетрудно вообще сойти с ума, когда гниешь в четырех стенах. Сделай одолжение, высуни нос на улицу – иначе ты здесь быстро рехнешься. У нас осенью нельзя пожаловаться на скуку. Самый богатый сезон: сбор винограда, смена директоров и тут же – склоки по поводу классного руководства и дополнительных часов…
Но ему так и не удалось вытащить меня из комнаты.
К вечеру, когда тень от белых акаций дотянулась до глубины двора, пришли Лилика, Нуца и Букур. Немного поболтали на балконе. Дикий виноград, который я полил из лейки, сверкал как на утренней заре и скрывал нас от солнца. Дан Тэмэрашу сидел с краю, рядом со мной, скособочившись, и ничего не говорил, только слушал. Улучив минуту, когда все замолчали, он повернулся ко мне и спросил, глядя прямо в глаза:
– Вы когда-нибудь любили, Флорин? Сколько раз в жизни вы любили?
– Что с вами?! – удивился я. – Плохо спали, что ли?
– Он поссорился с Петриной, – объяснил Букур. – Сегодня утром она сказала, что сотрет его в порошок. Представляешь себе, Чернат, что это за обормот, – продолжал подтрунивать Букур. – Остановил на мостках счетоводшу. Говорит, что остановил ее, чтобы спросить, правда ли, будто в кооператив привезут рыбу. Черт знает, что уж там между ними было, только, прощаясь, он поцеловал ей руку раз пять. Ясное дело, что эти поцелуи вышли ему боком!
– Плюньте на него, он просто болван! – презрительно произнес Тэмэрашу и снова повернулся ко мне, настаивая, чтобы я сказал ему прямо, любил ли когда-нибудь.
– Конечно, любил.
– Тогда расскажите о вашей первой любви. Очень вас прошу.
Бьую в его голосе что-то такое, что не позволяло противиться его просьбе.
– Моя первая любовь? Если хотите, могу рассказать. Мне было лет двенадцать, когда однажды на рождество в Доме моего дяди я встретил девочку – не знаю уж, зачем она туда пришла. «Здравствуйте!» – сказал я. «Здравствуйте!»– ответила она. Еще два слова, и я онемел. Глаз от нее отвести не мог. Дни стояли морозные, как бывает зимою в горах, шел снег, и у девочки щеки раскраснелись, она без конца смеялась. От ее смеха все у меня внутри переворачивалось. На ней были полушубок и брюки, намокшие черные волосы разметались по плечам, и мне так и хотелось протянуть руку и погладить их. Я тупо смотрел на нее, и вдруг меня осенило. «Поехали на санках», – предложил я своему двоюродному брату, надеясь, что пойдет и она. И она в самом деле пошла с нами и очень радовалась, чуть не прыгала на одной ножке от радости.
За домом был холм, поросший елями. Мы взобрались на него, сели на санки: я впереди, девочка посередине – она крепко держалась за меня, – а сзади мой двоюродный брат, и мы ринулись вниз. Дух захватывало, как мы летели по снегу. Вдруг перед нами сугроб, пытаюсь его обогнуть, делаю неверное движение – и мы кубарем летим в снег. Падая, девочка цепляется за меня. Она крепко держит меня за шею и смеется. Она поцарапала себе колено, но смеется и окунает меня головой в сугроб. «Какого черта! – кричит мой кузен, поднимаясь на ноги. – Коли не умеешь, зачем садишься вперед? Сидел бы сзади!»
Скажи он мне такое прежде, я бы полез в драку, но теперь мне было все равно. Я ощущал руки девочки на своей шее, на плечах, и меня пронзала непривычная дрожь. Потом все каникулы мы с этой девочкой только и делали, что катались на санках. И я был счастлив, когда она от страха обвивала мою шею руками. Вот это моя первая любовь. Потом многие годы я помнил ее невинные объятия. О чем только мы не говорили в эти каникулы! Такая у меня была первая любовь.
– Что же было потом с этой девочкой? Вы больше о ней ничего не знаете?
– Ничего.
– Жаль, – вздохнул Тэмэрашу. – Надо бы разыскать ее…
– Нет, поглядите на него, каким он кислым тоном говорит! – воскликнул Букур. – Ты меня послушай! Ну, просто у тебя сейчас черная полоса. Петрина склочничает, а ты уж ютов головой в петлю.
Девушки встали первыми.
– Мы нашли вам комнату, – сказала мне Лилика. – Хозяева – люди пожилые, детей у них нет. Не хотите взглянуть?
– Спасибо. Напрасно утруждали себя. Мне хорошо и здесь.
– Это приятно слышать, – обрадовалась она. – Но если потом вы передумаете или поссоритесь с Тэмэрашу, скажите мне.
– Потом, через месяц, меня уже здесь не будет.
Лилика закрыла глаза и кивнула.
– А, вот в чем дело! – произнесла она, растягивая слова. – Попробовал, оказалось несладко, и тут же бежать. Дело ваше, как хотите. Но завтра и послезавтра, – она подчеркнула эти слова, – должна приехать агитмашина. Утемисты[1]1
Утемисты – члены УТМ, Союза коммунистической молодежи Румынии. – Здесь и далее примечания переводчиков.
[Закрыть] готовят праздник, и нужна ваша помощь. Я слышала, вы пописываете. Может быть, вы понимаете и в режиссуре?
– Завтра и послезавтра, – врал я с видом человека, принужденного раскрывать тайну, – я должен быть в Брэиле. Если бы не назначенная там встреча, я бы остался. Так что… очень жаль…
– И мне тоже, – сказала она с притворным огорчением, выпятив губки, – но в, ы не поедете. Вот уже более недели вы получаете жалованье в нашей школе, и независимо от того, уедете вы или нет через месяц из Тихого Озера, пока вы здесь, вы должны принимать активное участие в культработе. Пошли, ребята, – обернулась она к Букуру и Тэмэрашу, полагая дискуссию со мной оконченной, – пошли в правление, поможем учетчику подсчитать трудодни.
И, взяв обоих парней за руки, она направилась к выходу.
«Подумаешь, тоже птица! Не удастся тебе меня задержать!» – мысленно бросил я ей, и, чтобы показать, что не намерен плясать под дудку дочери конокрада Михулеца и ничуть не боюсь ее, я, взяв с собой самый лучший пиджак, двинулся через поле к станции.
Я пробыл в Брэиле пять дней. Когда я вернулся в Тихое Озеро, секретарша вручила мне официальную бумагу.
«Настоящим доводится до Вашего сведения, что по приказу дирекции школы из Вашего жалованья будет удержана сумма за те дни, которые Вы отсутствовали».
Ах ты, пташка моя дорогая, подумал я, ведь сама ты мутишь воду. И выйдет тебе это боком. И отправился на виноградник, куда она повела группу пионеров собирать и сортировать виноград для продажи. Об этом попросил ее председатель, так как все бригады были заняты на полях сбором подсолнухов и табака.
Я нашел ее под навесом. Она подсчитывала ящики с виноградом, прикрытые листьями. День был пасмурный. Солнце глядело сквозь туман. На западе у горизонта уже встала луна. Пахло полынью и базиликом. На лужайке лежали горы груш, ожидая, когда их разложат по корзинам.
Лилика встретила меня так, будто мы расстались сегодня утром. Она кончила считать и пригласила меня на виноградник отведать винограда.
– Каждая виноградина в этом году что молочный поросенок. Никогда здесь не было такого урожая, как нынче.
Боится, подумал я, вот и не говорит в открытую. И я решил сперва подыграть ей, чтобы потом разом излить всю свою злость.
Мы остановились у старого орехового дерева, с вершины которого было видно за тридевять земель, и сели в его тени.
– Знаете, я хотел написать о вас повесть, – сказал я ей.
– И раздумали? – засмеялась она. – Да, не стоит из-за меня трудиться.
– Нет, от этой идеи я не отказался окончательно. Правда, сейчас я ею не занимаюсь, но позднее непременно займусь. Когда я прочел несколько дней назад вашу записку, мое воображение взыграло, и я отправил вас на фронт. Но потом я узнал, что на фронте вы не были. Я перепутал. Дело в том, что я совсем вас не знаю, не знаю даже, любили ли вы кого-нибудь… Вот видите, я пошел по стопам Тэмэрашу.
– Ничего, – успокоила она меня. – Это бывает. Однако если вы в самом деле хотите знать, то любила. Этой зимой я даже чуть не вышла замуж. Здесь у нас жил инженер-стажер Дору Вишан, с которым я была вроде бы как помолвлена. Он ходил на лыжах, катался на коньках и любил прогулки на санях. Но чудовищно боялся змей. К концу весны приехал к нам бригадир, большой шутник; когда инженер как-то раз попросил у него сигаретку, он вынул портсигар и говорит: «Берите побольше, чтоб надолго хватило».
Дору Вишан раскрыл портсигар, но тут же отбросил его и кинулся бежать – только пятки сверкали. Что же случилось? Бригадир положил в портсигар двух змеек, величиной с палец. Он изловил их на болоте и положил в портсигар… Но перейдем к тому, что вас интересует. После рождества Дору нашел у одного парня две пары коньков, сделанных из конской кости, и мы вместе отправились на реку. Мы ушли далеко вверх по реке, начался снегопад. Ветер гнал и крутил снег. Я не надела полушубок и, когда начался снегопад, так продрогла, что едва держалась на ногах. Я жалась поближе к Дору, с трудом шла, и временами– очевидно, потому, что я уже заболевала, – мне казалось, что вокруг него кружится хоровод русалок. Венки и гирлянды светились, белые девушки плясали и на холмах, подпрыгивали и кричали нам что-то. Все они были тоненькие и прекрасные, и у каждой на устах было имя Дору[2]2
Игра слов: по-румынски дор – любовь, любовное томление.
[Закрыть]. Утопленницы звали его за собой – ведь для того они и выходят на белый свет, чтобы найти себе любимого. Косы их расплелись, и длинные волосы плескались на ветру. «Иди с нами, – кричали русалки, – иди с нами».
«Молчи, – сказала я Дору, – не отвечай им».
«Кому?»
«Русалкам. Разве ты не видишь?»
«Ты заболела, Лилика, – испугался он. – Ты заболела».
«Молчи… молчи!»
Дору замолчал и, чтобы уберечь меня от ветра, спрятал за своей спиной. Тогда русалки запели так грустно, что сердце защемило. Они плакали и пели. Они уходили, исчезали и пели песню о том, как больно так и не узнать любви. Когда их не стало видно, я расплакалась.
«О, как я хотела, чтобы они взяли тебя, ведь я уже не девушка! Но они исчезли, их больше нет».
Эти слова, вырвавшиеся у меня помимо воли, испугали Дору. Я почувствовала, что его рука на мгновение напряглась, потом расслабилась и упала. В страхе я остановилась и повернулась к нему. Я ждала, что он ударит меня. Я хотела, чтобы он меня ударил, и даже потерла щеку в том месте, где он должен был меня ударить. Но этого не произошло. Дору спрятал лицо в мягкий воротник своей куртки и продолжал идти вперед. Коньки висели у него на руке и бились друг о друга. Я остановилась и смотрела, как его поглощает снег. Вокруг меня бесилась метель. Заледеневшая шаль на моей голове звенела как жестянка. С того дня Дору к нам – ни ногой. А через две недели уехал из села. Если бы он спросил меня, что со мной случилось, может, и сейчас был бы он здесь. Но так лучше. Иногда даже я говорю себе, что его на самом деле украли русалки.
Признание Лилики поразило меня. Странно – в душе не осталось ни капли злости. Я попытался ее успокоить.
– Забудьте про инженера. Что было, то прошло. Страдания губят даже самого сильного человека.
– А я его и позабыла. Я рассказала вам все это, чтобы вы знали, что злые люди тоже способны любить.
– Я никогда не считал вас злой, – запротестовал я.
Но не считали и симпатичной, как ту медсестру в поезде. Скажите, это с ней вы были на заводях в Брэиле? Красиво, наверное, сейчас на заводях.
– Не было у меня никакого свидания. Я все наврал. Я не собирался видеться с этой медсестрой, я даже не разыскивал ее.
– Так, значит, вы столько дней скитались по городу один-одинешенек? Как жаль!
Она встала и отряхнула с подола травинки. Печальная улыбка скользнула по ее губам и остановилась в черных, широко расставленных, как у японки, глазах.
– Послушайте, – продолжала она со смехом, – я тут несла всякую околесицу и упустила из виду самое главное. Сегодня в семь часов начинает работать радиотрансляционная сеть в Доме культуры. Партийная организация просила нас, учителей, составить программу местных передач на неделю. Букур и еще трое назначены в качестве редакторов последних известий, я делаю доклад об агротехнике. Тэмэрашу и учитель математики должны разучить с хором пионеров четыре песни, а вы напишите сатирическую статью. Здесь есть один парень, Дину Димаке, грубиян и пьяница. Протащите его. Ну как, согласны? Его бедная мать не знает, что с ним делать.
И четверть часа она рассказывала мне все, что знает про Димаке.
– Имейте в виду, – сказала она в заключение, – что вы значитесь в программе на сегодняшний вечер. Я не думала, что вы так задержитесь в Брэиле.
– Попробую, – ответил я, – Парень стоит того, чтоб его прославить.
– Если так, принимайтесь за дело. А я пойду посмотрю, какие подвиги совершили мои ученики, пока меня не было.
Она протянула мне руку. На мгновение я почувствовал в своей ладони ее ладонь – она была мягкая, теплая и будто беспомощная. Я наклонился и припал к ней.
На западе, у горизонта, луна вышла из тумана и казалась мордой теленка, пасущегося на небесных полях.
Поздно вечером, справившись с заметкой, я пошел вместе с Даном Тэмэрашу в клуб. У входа толкались люди, рассматривая техническую схему станции, которую электрик приколол двумя кнопками к стенду. Говорили громко, охрипшими, простуженными голосами, от одежды несло махоркой и травами, потому что многие спали в поле, на бахчах и винограднике не раздеваясь. Дневная дымка сменилась туманом. Густой и удушливый, он повис на акациях, и фонари на углу улицы не могли его рассеять. Можно было бы сказать, что именно отсюда отправилась в путь осень. Впрочем, это был лишь мгновенный приступ осени.
Лилика, Букур и Нуца уже ждали нас в клубе, но Тэмэрашу, который, кажется, мог бы заговорить и мертвого, схватил меня за руку, как раз когда я подошел к дверям, и потащил назад.
– Дорогой Чернат, подожди минутку – хочу познакомить тебя с заготовителем нашего кооператива. Надеюсь, тебе доставит удовольствие это знакомство.
И он подвел меня к крепкому парню с лицом, изъеденным оспой. Парень был в шерстяной расшитой безрукавке, грубошерстных штанах, засунутых в высокие носки, на которые были надеты галоши.
– Когда я приехал в Тихое Озеро – лет пять назад, – он был секретаремо народного совета, – пояснил Тэмэрашу. – Он просил меня тогда нарисовать в красках на листе жести политическую карту мира, которую намеревался вывесить на перекрестке. Я сделал ее, повесил, где полагалось, мы выпили в честь этого события по рюмочке, только на другой день на рассвете глядь – он опять ко мне. – Послушай, товарищ, – говорит, – подумай хорошенько, не забыл ли ты нанести на нее какую-нибудь страну народной демократии?» Я рассмеялся. Но он не шутил. «Посчитаем, – говорит, – по географической карте и посмотрим. И когда у тебя пройдет хмель, приходи разъясни мне, если сумеешь, почему на твоей карте криво написано – Болгария, которая является нашей, демократической страной?»
– Это правда, – признался парень улыбаясь, – тогда я маловато знал, вот сын бывшего нотариуса и подшутил надо мной, а я ему и поверил, потому что с малолетства все время при овцах боярина Вэрэску состоял и не пришлось мне переступить порог школы. Но я с лихвой отплатил ему, этой твари. Однажды ночью я застал его, когда он малевал мазутом крест на доске почета, где были записаны передовики по сдаче поставок государству, и тут уж я ему выдал по первое число.
В этот момент репродуктор, установленный над нашей головой, издал короткий хрип. Потом какой-то бас произнес раскатисто:
– Граждане и гражданки, добрый вечер!
Кто-то из толпы крестьян ответил ему – как на свадьбе– веселым гиканьем.
– Вот, дорогие товарищи, – продолжал тот же голос, и я узнал его, то был председатель кооператива, – вот и воплотилась наша мечта, у нас есть в каждом доме радио, и зимними вечерами мы не будем, как совы, без толку сидеть в темноте. В нашей комнате будет музыка, мы будем слушать доклады – все, что нам захочется. И отныне будем все здоровы. В заключение скажем все вместе: «Да здравствует Румынская рабочая партия! Она вывела нас из темноты»… После этого моего краткого слова прослушайте вальсы.
Мы покинули нашего собеседника и вошли в клуб. Председатель в сопровождении учителей прошел из трансляционного зала в библиотеку.
– Черт подери! – кричал он, раскидывая руки в стороны, как пловец, испуганный силой глубинного течения, – Я все перепутал, просто голову потерял, бормотал что-то, мямлил…
Он сердился, потому что перед микрофоном, зная, что его слушает все село, пришел в замешательство и вдруг забыл все красивые слова, которые так старательно подбирал, и объявил вальсы, тогда как было заранее решено, что вначале передадут местные последние известия.
Лилика попыталась его убедить, что он говорил хорошо, что волнуется напрасно, но он и слышать ничего не хотел.
– Нет уж, я пошел. Мне надоело. Думал, я более головастый. Надо было мне все написать на бумажке. До свидания.
И он исчез за дверью.
Маленькую помятую зеленую шляпу с фазаньим пером, воткнутым за ленту (из-за этого все чужие считали его лесником), он забыл на столе.
Оставшись одни, мы открыли окно, чтобы курить, и в паузах между мелодиями до нас с гумна доносился вой веялки, а из соседнего двора какое-то металлическое позвя– киванье – это кто-то бил ногой по колесам телеги, просто так, чтобы продемонстрировать, что и у него есть телега.
Через полчаса концерт вальсов окончился, и электрик пригласил меня к микрофону читать заметку о Дину Димаке. Лилика просительно взглянула на меня: мол, возьми меня с собой, – и я пропустил ее первой.
– Читайте медленно, – посоветовала Лилика, – не бормочите, четко произносите слова.
И в течение десяти минут я старался читать без запинок.
– Мне понравилось, – радостно сказала Лилика, когда я закончил. – Спасибо.
На улице меня ждали другие комплименты.
– Вы хорошо читали, товарищ преподаватель, – крикнул мне кто-то из слушателей, собравшихся под громкоговорителем. – Может, так он и выучится уму-разуму, бездельник!
На мгновение я задержался, чтобы лучше разглядеть лицо говорившего, и тут он подошел ко мне. Это был маленький человечек с длинными, как кошачий хвост, усами; фуфайка на нем была с поясом, украшенным оловянными пуговицами.
– Разрешите, – произнес он. – Давайте познакомимся. Я здешний конюх. Меня все товарищи учителя знают. Я, если захочу, загоню человека, как загоняет волк свою добычу, – шкуру сдеру, душу выну. Вы, я слышал, из Бухареста приехали? Я тоже бывал там – давненько, правда, – я там служил в армии, на улице Михая Храброго, а по воскресеньям получал увольнительную – и на вокзал. Так все, кто из провинции, делают. Только вышел из казармы, и сразу на вокзал: может, найду кого из нашего села, так поговорю хотя бы. Да вот беда, если встретишь кого, еще хуже, еще пуще разбирает тоска по дому. Так вот, значит, что: там, за вокзалом, была улица, она называлась улицей генерала Чериата. Этот генерал вам не родственник будет? Чернат… Чернат… Он где служил-то? У нас в пехоте такого не было.
– Не знаю. У меня не было родственника генерала.
– Это неважно. Я все равно пришлю вам завтра литр абрикосовой цуйки – прямо мне маслом по сердцу, как вы пропесочили этого бездельника, моего племянника. Цуйка вам понравится. Я ее крепкую сделал, стаканчик пропустишь – аж горло дерет.
Я вернулся домой успокоенный. С тех пор как я приехал в Тихое Озеро, я впервые сделал что-то полезное, и, даже если в конце месяца я уеду из села, все равно я принес пользу, и это меня радовало.
Но радость моя быстро рассеялась. На следующий день на рассвете Дину Димаке пришел к учительскому общежитию и стал дубасить кулаком в окно, требуя, чтобы его впустили.
– Ну все! – сказал Тэмэрашу, увидев его. – Чернат, пришел твой клиент, дело запутывается. Ты, брат, ожидал бутылку абрикосовой цуйки, а тут – глянь! – придется тебе кой о чем поговорить. Мамочка родная!
Сказав это, он вскочил с кровати и открыл дверь. Вошел скуластый плотный парень, руки в карманах.
– Я Димаке, – произнес он громким голосом и остановился у порога. Из-под черных густых бровей пристально глядели блестящие глаза.
– Ага, вот ты где! – продолжал он все так же громко, по-прежнему пронзая меня взглядом. – Лисья морда, мерза вец эдакий!
Я сдержал себя, чтобы не схватить его за шиворот и не выставить вон. Более того, я повернулся к Тэмэрашу и со смехом спросил:
– Послушай, Дан, а этот где служил в армии? Тоже на улице Михая Храброго?
Мое вызывающее поведение сбило парня с толку.
– Я не служил в армии, – ответил он уже спокойнее. – Я освобожден. Когда я был маленьким, я порезал косой голень, и у меня кость высохла. С тех пор я хромаю на левую ногу. Эй ты, – опамятовался он, – меня не проведешь! Скажи-ка лучше, кто натрепал тебе обо мне и моей матери? Ты ведь пришлый, откуда тебе знать про это! Госпожа Лилика? Она, это уж точно! Она живет рядом, даже забора между нами нету, наш двор с ихнего как на ладони. Да, бойся соседа пуще огня. Будешь падать, он тебя еще и подтолкнет.
– Послушай, если ты хоть слово еще скажешь о Лилике, я выгоню тебя взашей. Учти.
– Меня? – засмеялся он. – Скорее ты сам вылетишь из села. Да еще как!
Так знай, – продолжал я. – Я доставлю тебе это удовольствие. Через некоторое время ты меня здесь не увидишь.
– Никто не заплачет. Ты надо мной насмехался, а здесь все знают, что мой дед спас село от гибели. Это правда, так записано и в старых книгах, что лежат у священника[3]3
Однажды, изучая церковный архив, где хранилась и историография села, оставленная священниками, побывавшими в Тихом Озере, я наткнулся на легенду, записанную первым из них. Случай этот произошел, как говорилось там, примерно в середине прошлого века, когда на территории румынских княжеств часто происходили сражения между войсками русского царя и турецкого султана. Однажды летом турецкие орды расположились табором в Тихом Озере: они раскинули палатки, выставили ночной дозор. Их главарь отдал приказ, согласно которому со вторыми петухами турки должны были вырезать все село, сжечь его дотла и направиться к Бузэу, где стояли русские. Об этих приготовлениях узнал один прихожанин. Ион Димаке, понимавший по-турецки. Он тут же предупредил жителей села, чтобы они свернули шеи всем петухам, а сам тем временем отправился просить помощи у русских. Так и осталась орда неверных спать вечным сном в нашем краю, писал священник, а Иона Димаке мы поминаем здесь для потомков его именем и прозвищем – Пяткин, которое дало ему потом село, – так много земли отмерил он шагами: от нас до Бузэу, и все своими ноженьками, – Прим. автора.
[Закрыть]. Вот как. А теперь можешь дальше дрыхнуть, я только это хотел сказать! – И, повернувшись на каблуках, он вышел, забыв попрощаться (впрочем, он и не поздоровался).
Но я не мог уже сомкнуть глаз. Одевшись, я вышел на улицу. Туман, с вечера обволакивавший село, стек на землю. Будто его и не было. Хризантемы и кусты смородины отяжелели от росы. На востоке над пастбищем небо засветилось первыми лучами солнца. В траве билась перепелка, а из соседского сарая доносилось тявканье голодной собаки.
Я зажег сигарету и, влекомый утренним маревом, отправился через поле куда глаза глядят. Вдалеке в ложбине маячила крыша вокзала. Лысый холм с распятьем на вершине нес печальную стражу у дороги. От западного его подножия начиналась роща акаций. Молочный пар поднимался от влажной земли на целую сажень, разрезая молодые гибкие деревца пополам: верхушки, отягченные вороньими гнездами, плавали каким-то чудом в пространстве сами по себе, а обрезанные стволы уходили вглубь, подобно рядам кольев, поддерживающих виноградные лозы, покрытые толстым слоем инея. Так прошел я без цели не один километр и наконец оказался у пруда. Оттуда, перекинувшись словом со сторожем, сгорбленным старикашкой с раздвоенной, как у зайца, губой, я вернулся в школу и встретил там Лилику. Она пришла, чтобы отпереть классы женщинам, которые должны были мыть полы.
– Доброе утро! – поздоровалась она весело. – Я слышала, что вас ни свет ни заря посетил Димаке.
– Да, – сказал я нехотя. – Он был здесь.
– И это вас огорчает? – Она испытующе глянула на меня. – Не надо обращать на него внимания. Мало ли что человек мелет, когда сердится. Давайте посидим, побеседуем в садике. Тэмэрашу сказал, что вы рассердились и повторили ему, что уедете из Тихого Озера. Этого тоже не надо делать. Вы останетесь здесь и будете говорить о нем по радио и другое, потому что от природы он парень неплохой. Маленьким мальчишкой он не скрутил шею ни одному воробью, ни одной ласточке. Вороньи гнезда, правда, он разорял, но от вороны, говорил он, только один вред, так ей и надо. Мы были с ним большими друзьями. Облазили вместе все дырки на речном склоне до самого устья – искали ласточкины гнезда. Он учил меня собирать грибы – он их все знает: какой хороший, какой плохой. Мы были закадычными друзьями. Однажды зимой – давно это было – мы узнали, что у нас в заводи остались лебеди и что ночью, когда вьюга, они плывут туда, где поглубже, и до утра бьют крыльями, чтобы вода вокруг них не замерзла. Нам стало жаль бедных птиц, мы собрали ребят, набили им карманы камнями и отправились на реку: пока были силы, мы бросали камни в воду подальше от берегов, чтобы разбить лед и дать простор лебедям.
Там действительно были лебеди? – спросил я удивленно.
– Не знаю, – сказала Лилика. – Я их не видела. Но Димаке клялся, что там целые стаи. Если хотите, можем зимой обследовать нашу заводь. Вот так-то. А теперь у меня к вам просьба: почитайте что-нибудь сегодня вечером нашим женщинам. Я веду кружок чтения, это будет им сюрприз.
В тот же день в красном уголке, украшенном коврами, я читал пятнадцати женщинам рассказ о цыганке, потерявшей мужа на войне.
Лилика тоже пришла послушать.
– Такая молодая и такая несчастная, – пожалела мою героиню какая-то женщина, – искалечила ей жизнь война. Чтоб ему было пусто – тому, кто войну придумал.