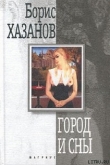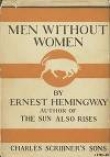Текст книги "Властелин дождя"
Автор книги: Фзнуш Нягу
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц)
– Вот уж неправда, – запротестовал Кавалеру, – ко мне всякий народ ходит продавать. Я ж не себе, для государства.
– Ой, так ли? – насмешливо спросил старик. – А то я тебя не знаю. А Раду Гини гусак тоже государству понадобился? Ты мне баки-то брось заливать!
А дело было так. Старший сынок Раду Гини – мальчишка лет тринадцати – мечтал на трубе играть. А денег на трубу не хватало, мало накопил. Вот он и поймал гусака в мешок, набитый травой, и снес Кавалеру. Вечером, запирая птичник, мать хватилась – гусака нет. Туда– сюда– на Дунай, на выгон, – ну как сквозь землю провалился!
«Видать, к стаду чьему чужому прибился, – предположил Раду Гиня, – да на лапе у него тряпица, крылья подрезаны, живо сыщем».
«А я думаю, что наш сопляк пришиб его камнем, очень уж он его боялся», – свалил вину на младшего брата старший.
Услышав такую чудовищную напраслину, «сопляк» встрепенулся:
«Это не я, а он, – и ткнул пальцем в старшего, – перевязал гусаку клюв, чтоб не гоготал, и продал. А деньги под балку спрятал».
Хочешь не хочешь, пришлось сознаться, что гусака он продал, продал Жану Кавалеру, и получил девятнадцать леев. Ни секунды не раздумывая, Раду отправился к заготовителю. Вошел тихонечко, не стучась. Видит, сидит Кавалеру за столом и ужинает. Увидел Раду, чуть костью не подавился, потому что ел он как раз гусиную ножку, а в тарелке дожидалась своей очереди грудка, нашпигованная маслинами.
«А ну, ложь гуся обратно!» – грозно приказал Гиня.
И велел хозяйке немедля нести жир, шкварки, потроха – словом, все, что от гуся осталось.
«Пух не неси! – продолжал командовать Гиня. – Запух твоим муженьком сполна заплачено».
Сложил Гиня свое добро в горшки и машет Кавалеру рукой: мол, за мной следуй.
«Бутылку вина еще прихвати и хлебца, – распорядился он. – Да шевелись пошибче, а то у меня жена с детками голодные сидят, ужина дожидаются».
Что тут делать горе-заготовителю? Не подчиниться? Как бы не так! Раду Гиня здоров как бык – хрястнет разок по хребтине, будешь свой век калекой доживать.
Привел Раду заготовителя к себе в дом и приказывает:
«Повторяй за мной слово в слово все, что сказывать буду. – И так начинает: – Кушайте на здоровье, детки».
«Кушайте на здоровье, детки…» – повторяет Кавалеру дрожащим голосом.
«А мясца вам захочется – пожалуйте ко мне».
«А мясца вам захочется – пожалуйте ко мне».
«А винца папеньке захочется – тоже ко мне».
«А винца папеньке захочется – тоже ко мне»…
– Эх, дядюшка Флоря, да разве Раду человек? Нет, форменное дерьмо! Только силой и берет. Дубина неотесанная. Но я с ним еще поквитаюсь. Только бы с ним встретиться, крутой разговор будет!
– Встретишься, встретишься, а ежели невтерпеж, купи У младшего Гини еще и гуску. Вот ты теперь со своей бабой затеял моего Саву объегорить, и не вышло. Ты ведь как думал: раз ярманка, то детки обязательно станут на карусель проситься. А карусель – она денег стоит, не всякий родитель раскошелится. Тут ты на подмогу: дескать, нам гусочку, вам денежку. И все вроде по закону: государство же закупает. Да только ты, хапуга, не все деньги отдаешь, часть прикарманиваешь! А с каруселью-то и не вышло. Починили карусель на казенный счет, и кататься детки будут бесплатно. Вот тебе и кукиш с маслом!
Жан Кавалеру даже глаза выпучил от удивления и недоверчиво замотал головой:
– Задаром? Задаром весь день на лошадках кататься? Непорядок!
Самый порядок и есть. Не скрипи стулом-то! За твои порядки тебя скоро из кооператива вытурят.
– Меня? Меня никто и пальцем не тронет. Сам товарищ начальник районного управления ко мне как к сыну родному – души не чает… Во, глянь! Семерка, пятерка – в сумме двенадцать, так? А двенадцать – это выигрыш, так? Возьми карандаш, подведи черту.
– Стой! – закричал старик. – А откуда у тебя валет? Сам говорил: нету вальта… Откуда пятерка, откуда семерка? Ты же говорил – нету! Ну-ка, ну-ка, покажь карты…
– Я думал, договоримся, а ты уперся! – прервал его Кавалеру, – Проигрыш полный! А наказание тебе такое – десять раз стукнуться об стенку задом. Мой выигрыш – я командую.
– Ты же смухлевал! – взъярился старик. – Переиграем!
– Не дети, дядюшка Флоря. Проиграл – рассчитайся! В игре свои правила, надо эти правила уважать.
Флоря аж посинел от злости. Швырнул карты на стол и ринулся к двери.
– Праведник нашелся! – прогремел он. – Честнягу корчишь? Только что я мог по твоей поганой роже раз десять кулаком пройтись. И ты бы только спасибо сказал. Руку бы целовать стал: учи, мол, учи меня, дядюшка Флоря, молоти, как фасоль на току, пособи только, замолен Саве словечко. А как понял, что я твоей афере не пособник, праведником стал?! Ну-ка, становись к стенке и бейся об нее задом!
Бросьте, дядюшка Флоря, ну чего разволновались? Я же так, пошутил…
Кому сказано: иди! – угрожающе повторил старик. – А то целым домой не вернешься.
Кавалеру встал задом к стенке.
– Раз, – принялся считать Флоря Пелин. – Больше, больше души вкладывай, недоносок чертов, не твои стены. Лупи так, чтоб крыша ходуном ходила! Шесть… семь… восемь… Девять! Десять! Будет, а то зад треснет! А теперь чеши отсюдова!
Кавалеру схватил пиджак с гвоздя и пулей выскочил за дверь.
Эх! Совсем я никудышный стал, подумал старик с досадой. Надо было его, гада, заставить на закорках меня тащить. Сломал бы я ему шею – и спать бы мне спокойней стало.
Он погасил лампу и залез в постель: было уже поздно.
Сава Пелин ночевал на сеновале. Под утро промерз до костей и спустился во двор, ежась от холода. Старика уже не было. Видно, проснулся чуть свет и уже куда-то умотал… Не иначе к Бурке! – перепугался парень. Сейчас они быстренько в Совет – и распишутся. Вчера вечером он договорился с Нику Бочоаке: русалкой, что девичий хоровод ведет, будет Танца, потому как Нику с Тинкой и так поженятся. И вот боялся теперь, как бы отец не испортил его хитрой затеи.
Сава умылся колодезной водой, нарядился по-праздничному и собрался на берег Дуная, где через час-другой должна была открыться ярмарка.
Но прежде постоял еще во дворе, любуясь поднимающимся и разгорающимся солнцем. Утро пьянило запахом покропленных росой густых трав. Над Дунаем молниями носились стрижи и ласточки, чуть ниже, ближе к воде, плавно и мягко кружили лысухи, на болоте рыдали чибисы, шумливые утки торопили свой выводок на простор, чтобы скорей насладиться бескрайним лазурным небом, отраженным в глубинах вод. По обоим берегам трепетали на ветру белостволые, будто привидевшиеся во сне, тополя. Высокий камыш тихонько кланялся, как бы избавляясь от оцепенения. Каждая камышинка становилась дудочкой, которой поигрывал нежный утренний ветерок.
На выгоне Сава увидел множество телег и стреноженных коней. Сразу было видно, что понаехали из других деревень гости. Приезжие мужики толковали за кружкой вина с приятелями, бабы болтали с подружками, охорашиваясь перед зеркалом и наряжаясь в праздничные наряды, которые бережно везли в сундуках, чтобы не пристала к ним дорожная пыль. Не меньше суеты было и на самой ярмарке. Под навесом закусочной буфетчик в белом халате и тюбетейке проверял вертела и решетки, отлаживал коптящие горелки. Над закусочной, вход в которую увивали связки сосисок, благоухающие чесноком, красовалась вывеска: подвыпивший гуляка тянул вино прямо из бочки. Палатки ломились от товаров, неподалеку стоял грузовик из Брэилы, набитый рулонами ситца, сукна и сельскохозяйственным инвентарем. Словом, тем, что раскупали нарасхват.
Жан Кавалеру, а с ним еще четверо мужиков разгружали машину, принимая мешки из рук шофера и ставя их в ряд, чтобы можно было пересчитать. Проходящие норовили ткнуть мешок ногой или пощупать руками, чтобы узнать, что в них, а Кавалеру отгонял любопытных. Тут же был и Флоря Пелин, и при виде его у Савы отлегло от души. Старик сидел возле стойки и время от времени поддевал Кавалеру, вызывая смех у окружающих.
– Жануля, сынок, смотри, как бы у тебя чего к рукам не прилипло.
Или:
– Жан, поклон твоему районному папочке, товарищу управляющему кооперативами.
Кавалеру переносил насмешки мужественно, но, встретившись глазами с подошедшим Савой, неожиданно вышел из себя и закричал:
– Скажи своему отцу, зам, чтобы отвязался. Прилип как банный лист. С самого утра ходит за мной по пятам, на посмешище выставляет, мешает работе.
– Но-но! Полегче! Мы с тобой одну титьку не сосали! – осадил его Флоря. – Ишь распетушился! Знаем мы, чего ты спину гнешь. Скажешь, задарма, для обчества? Не такой ты человек, чтоб задарма трудиться. Ишь, тихоней прикинулся!
– Видал, Сава? – со вздохом произнес Кавалеру. – Вот чего терплю. За что же вы так на меня, дядюшка Флоря? Я ведь вас за отца родного, да упокой его господь…
Батя, – доверительно промолвил Сава. – Отойдем в сторонку.
Они отошли. Сава достал кисет, свернул цигарку, протянул отцу.
– Это ты хорошо придумал: за Жаном приглядывать. За ним глаз да глаз нужен, а то не ровен час гусями займется.
– Да я об том и забочусь, – подтвердил старик. – С самого утречка его караулю. Со мной, сам знаешь, шутки плохи.
– Добьюсь обязательно, чтоб из кооператива его шуганули, а пока надо покараулить, ты уж не подведи.
Одним ударом Сава убил двух зайцев: обезопасил себя от Кавалеру и устранил старика, чтобы беспрепятственно осуществить то, что задумал.
– Давно пора! – горячо и радостно одобрил старик. – Гнать его в шею! Ты не бойсь, он у меня никуда не денется. Я самого управляющего имениями господина Минку при разделе земли в узде держал, а уж эту пигалицу и подавно… Чего ж опять на сеновал полез? – переменил Флоря разговор. – А вчера хвастал – Танцу приведу! Не вышло?! То-то и оно. Думаешь, я вечером врал? Нет, дружочек, в том доме – заруби себе на носу – теперь только для меня дверь открыта.
Беседу их прервало лихое гиканье и заливистый плач разудалой гармони, послышавшиеся со стороны села, – девушки, видно, собирали русалочий хоровод. Сава оставил отца и заторопился навстречу парням. Было их человек двадцать, сразу скажешь, что рыбаки – так уверенно они шли, так весело приплясывали, будто волна перекатывалась по земле. Впереди всех шел Нику Бочоаке, товарищ Савы, кружился, притопывал, махал руками, будто целую свору собак отваживал. Следом шагал Вили Маняке, уже охрипший от крика, и, чтобы немного остыть, обмахивался атласной шапкой.
– Вили! – остановил его Сава. – Ну как дела?
– Насчет Танцы? Все чин по чину, дружище! Она с девками на улице. Бурка сперва не хотела ее из дому отпускать, но мы как нагрянули под окна всем скопом, она тут же сдалась.
– А батя твой где? – спросил Сава, – Пора бы ему уже прийти.
Отец у Вили был партийным секретарем.
– В деревне. Гостям животноводческий комплекс показывает, рисовое поле, огороды. Скоро прибудет. А ты становись к гармонисту поближе да ухо держи востро!
Сава замешался в толпу. Сердце у него учащенно билось: ох и разъярится Бурка – год потом разговоров не оберешься!..
Парни остановились у холма возле карусели и стали дожидаться вереницы танцующих девушек. Гости держались в сторонке, не решаясь присоединиться к участникам игры и глядя во все глаза.
Сава пошептался с музыкантами, и цимбалисты, гармонист и скрипач отправились к толпе гостей.
– Э-эх, милашечки мои! – закричал гармонист сбившимся стайкой молодым женщинам. – Подходи, не бойся, красавицы! Или цимбалов страшно – укусят? Так у них зубов нет. Начнется праздник – меня зовите, красавицы, буду петь, сколько скажете.
Гости и зрители расселись на склоне холма. Кто-то громко требовал, чтобы буфетчик принес вина и мяса.
– Потерпите малость, попляшут русалки, заморочат парню голову, получит девица мужа – и вы получите все, что душеньке угодно.
Несколько мужиков – своих ли, чужих, неведомо – успели изрядно выпить и, сидя за столом закусочной, горланили песни, то и дело принимаясь ссориться.
– Знал бы он еще кое-что, кума бы перед ним на коленках ползала…
– Помолчи! – закричали все разом. – Девки идут!
Тихо-тихо, будто по команде, из толпы выступили вперед несколько парней и остановились.
– Ах, касаточки мои! – завел было гармонист, растянув мехи, но Сава тычком в бок заставил и его примолкнуть.
Девушки приближались, танцуя, разнаряженные в самые лучшие свои платья. С желтыми цветами подмаренника в руках, того самого подмаренника, что служит, по поверью, ворожбе и присухе. Приблизившись, девушки запели песню:
Плачь, кукушка, милая кукушка, Нас покинет добрая подружка.
Флоря Пелин стоял позади всех – взгромоздившись на здоровенный чурбак и приставив к глазам козырьком руку, он наблюдал за происходящим, но солнце било ему прямо в глаза, и Флоря был недоволен.
– Слышь, – обратился он к мужику справа, – не выгорит мое дело – напьюсь! Вот те крест!
– Какое дело-то?
– Любопытен больно. Тебе какая нужда? Ишь с расспросами пристал, – сердито заворчал старик. – А ну, вали отсюдова!
Стоя в толпе парней, Сава беспокойно переминался с ноги на ногу. Вдруг ему показалось, что Танцы среди девушек нет, он растревожился, в такое отчаяние впал, что даже спросить у Вили, зачем тот его обманывал, не мог. И тут увидел свою Танцу. Она шла первая – маленькая, стыдливая, робко сторонясь устремленных на нее взглядов. Матери небось боится, подумал Сава. А чего ей теперь бояться, коли я здесь? Ежели чего, враз добегу.
Девушки были уже совсем рядом. Сава услышал, как кто-то не то с удивлением, не то огорченно произнес имя Танцы; но какое ему было до всех дело – его Танца бегом бежала к нему, и вот он уже держит ее в своих объятиях. Все произошло в один миг.
– Целуй же ее! – крикнул гармонист. – Смелей!
Вокруг толпился народ, поздравлял, желал счастья.
Флоря слез с чурбака и заторопился к сыну, но дорогу ему загородила Бурка с Жаном Кавалеру.
– Флоря! – кинулась она старику на шею. – Скажи! Скажи им, что не отдаю я Танцу! А то нашей свадьбе не бывать! Что ж это они такое наделали? А?
– Кума! – спокойно произнес старик. – А кума! – повторил он. – Сава-то, видно, прав: брехал народ, будто я женюсь, это не я, это он женится. Ну, слава богу, что время нашел, а то все недосуг да недосуг – свековала бы твоя Танца в девках. Теперь уж ты не скажешь, будто сдурел я на старости лет? Не похоже, правда?
– Тьфу на тебя! 4– сказала в сердцах Бурка. – Развалина негодная! Черт тебя унеси!
– Ты с чертями полегче, – предупредил старик. – А то не ровен час тебя и того… С чертями шутки плохи… Вот привалит зятю счастье… без тещи останется… А ты чего скалишься? – накинулся он на Кавалеру.
– Помстилось тебе, дядюшка Флоря.
– Помстилось – дело другое. Помнишь отца твоего любимую песню?
– Как не помнить.
– Вот и запевай! – скомандовал старик. – Направление на бочку – и шагом арш! Мы с тобой одного поля ягоды – что по честности, что по глупости!..
Жан Кавалеру поднес руку к козырьку кепки и, чеканя шаг, запел:
Эй, вали на Пьятра-Край, Я отправил немца в рай! Но домой я в свой черед Прибыл ножками вперед…
Солнце поднималось, близился полдень. 1960
Крик
Шел девятый час вечера, близилась новогодняя ночь. Ене Леля, гибкий и стройный парень, весело расхаживал вокруг своей хаты и втыкал в распахнутые ставни мохнатые еловые ветки. Из окон сквозь неплотно задернутые занавески пробивался свет, ложась яркими оранжевыми пятнами на разбегающуюся поземку. Потихоньку задувал кривец. Вдруг откуда ни возьмись вынырнула вьюга и с разбойничьим посвистом разбила вдребезги до звона выстуженную недельным морозом тишину. Ветер набрался силы – загудел на разные голоса, завыл. Вздрогнула, застонала в саду старая липа, громыхнула железом кровля, затопотали в хлеву перепуганные овцы. Ветер подхватил снежный сугроб и поволок его вдоль улицы. Но вся эта нежданная снежная кутерьма ничуть не помешала предпраздничной кутерьме в домах, что выстроились рядком вдоль берега, в них по-прежнему горел яркий свет и хлопотали хозяйки, готовясь как можно лучше и торжественней встретить Новый год.
Год кончается, красота! – с радостным возбуждением думал Ене Леля. Гульнем на славу! На саночках прокатимся!
Последнюю еловую лапу он прицепил к козырьку крыльца и спрыгнул прямо в пухлый сугроб у стены. Напротив, через дорогу, возле памятника героям молоденькая девчонка набирала в кувшины воду из колодца, сверкая туго перетянутыми толстыми ляжками.
– Ну и бабенка! Здорова! – восхищенно протянул Ене Леля и пошел к калитке.
Ветер взметнул концы его шарфа и швырнул парню в затылок пригоршню сухого колючего снега, а заодно выхватил рукавицу у появившегося на углу улицы папы Леона.
– Ах ты, сукин кот! – выругался старик, едва устояв на ногах.
Он был уже сильно навеселе и, пыхтя и покряхтывая, беседовал сам с собой, размахивая руками, как ветряная мельница.
– Дуешь, чтоб тебе пусто было! – проворчал он и презрительно плюнул. – Ничтожество ты этакое! А ты чего? – вскинулся он, шагая по мосткам к своей калитке и обращаясь к Ене Леле: – В начальство вышел, так и над собой держи власть! – Тут старик поднял руку и обозвал всепрощающего Христа отсталым реакционером. – Не желаешь?! А я вот перед лицом своего собственного дома возьму да и скажу напрямик: пиковой даме – смерть! Знай, не баба она вовсе! Каша у ней в подоле, младенец на столе. А ты поберегись, сейчас всякая нечисть бродит, я и сам могу вурдалаком стать, перегрызу поросеночку горло и всю кровь выпью…
– Совсем рехнулся, черт чудной! – в сердцах проговорил Ене Леля и, громыхая по деревянному настилу сапогами, пошел к себе в дом.
На улице он сильно озяб и теперь, осушив кружечку вина, завалился, не раздеваясь, на кровать и стал музыку по радио слушать. В тепле отошел, разомлел. В воздухе тонкой паутинкой плавал тревожный запах елки, будоражил и бередил душу, словно опутывал ее потихоньку, сливался с ней, смешивался…
Тишина. Только вьюга скребла когтями по деревянным ставням. Петли поскрипывали. Приемник уставился на стенку зеленым глазом, и под его пристальным колдовским взором ожила на коврике хризантема. Она клонила тяжелую растрепанную головку – вот-вот угодит прямо в раскрытую пасть мешка с орехами, что привалился плечом к стенке и замер. Плавно текла, разливалась песня, а Ене Леля пересчитывал в саду упавшие наземь переспелые абрикосы. Раз, два, три! – считал он. Три абрикоса, капля цуйки. Музыка ему помогает: раз, два, три – ягодки на шиповнике, сыта ласточка. Раз, два, три – отхлестал по щекам папа Леон Иона Лалаю Гогодитэ…
Пронзительный, душераздирающий, словно бы нечеловеческий вопль ужаса заполонил комнату. Рот у Ене Лели приоткрылся, брови поползли вверх. Он хотел вскочить с кровати, но размаривающее тепло, выпитая кружка вина, пригревшийся у плеча котенок не отпустили его, и он остался лежать как лежал. Ну и вьюга! Ну и воет! – утешал он себя. Взбил подушку повыше и закурил, огненная точка впотьмах росла, дрожала, ширилась, становясь похожей на желтую дыню, нет-нет, на луну, пожалуй… Ишь, хмыкнул Ене Леля, луна-то у меня в хате схоронилась, кого ж нынче ночью девки будут в зеркало ловить? Он взял луну, повесил на гвоздик. Нет, не пристало ей на гвоздике висеть. Положил на стол, хотел заманить в стакан, да передумал. Поместил на вешалке, пусть посеребрит ее, показал петуху, вышитому на полотенце, покачал на сабле, что висела на ковре, и наконец оставил меж двух мохнатых еловых лап – тут тебе и место, сияй на здоровье!..
– Луна, а луна, ну хоть ты согласись, не за что мне Джию ненавидеть. Бросила она меня, ушла – и что? Нет у меня к ней ненависти. Ты пойди, луна, загляни к ней в зеркальце, меня покажи. Попроси, чтобы не серчала. Папа Леон – он чудной какой-то, он сегодня ветер бранил, и никого больше. Может, надумала, так я снова его сватом зашлю, с подарками. Только не стоит такого свата привечать и цуйкой поить, захмелеет, язык без костей – понесет всякую околесицу. На рождество, когда ты в небесах дремала, он все пил да пил с Ионом Лалаей Гагодитэ, потом в драку полез, оплеух надавал. Не сладить бы ему с Гогодитэ. Гогодитэ с ружьем ходит, да выпили они крепко, Леон и уговори Гогодитэ ружье за стреху засунуть, а как слез Гогодитэ со стула, папа Леон его тут же и треснул. Коротышка Гогодитэ хочет обратно ружье заполучить, подпрыгнет, а Леон по макушке его хлоп! Пойди сходи к Джии, луна зеленая, поколдуй, поворожи под елочкой!..
Луна ушла, Ене Леля остался один. Поднялся с кровати, зуб на зуб у него не попадает – вопль давешний кровь отравил, раскаленной иглой в сердце впился. Губы запеклись, во рту горечь, будто рыбья желчь на языке растеклась. Что за черт? – думает. Удушьем горло сдавило – дыханье перехватывает, сердце жаром обдает, в крови словно лихорадка. Не дотронется Джия до еловой ветки. Так и засохнет она, не дождавшись Джии.
Ене Леля толкнул дверь и шагнул в темноту за порог, не накинув и кожуха, как был, в одной рубахе. Вьюга залепила глаза. Колким, словно сухой песок, снегом исколола лицо, иссекла шею. Кинула под ноги снежных шуршащих змей. Светя перед собой фонарем, шагал Ене Леля им наперерез. Торчащие из-под соломы стропила старого, ветхого дома глухо постукивали о вилы, подпиравшие стены.
Где-то вдали звонил колокол. И от этого размеренного медного звона на душе становилось одиноко и бесприютно. Звон, казалось, зацепил и ветер, раскрутил его, раскачал и заставил вторить себе плачем, стонами акаций и всхлипами разноцветных бумажных гирлянд, что развешаны на каждой елке. Загребая сапогами снег, Ене Леля прошелся вдоль канавы, обошел пустырь, заглянул во дворы по соседству – нигде ни души. Крик, застрявший в нем, будто ведро в колодце, колотился в груди, причиняя боль. Ене Леля спустился к реке, минуя бурые заплаты чертополоха на снежном склоне. Там меж обледенелых берегов мчался со свистом ветер и яростно трепал сухой камыш, торопясь вырваться на простор широкого поля. Вмиг исхлестал ветер Ене Лелю, и он поспешил подняться обратно на улицу. На улице ни души. А в душе нет и тени былой радости.
Мертвым сном спали каменные кубики домов. Как земля, спят, подумал Ене Леля. Кружила, ворожила метель. Невнятный шепот, всхлипы, рыданья поднимались к слепым окнам.
Ловили их еловые ветки на ставнях и не отпускали, передавали потихоньку Джии, что стояла, прижавшись горячим лбом к холодному стеклу, и смотрела на мутную белую замять. С колядками идут! – вздрогнула она.
Со всех концов деревни зазвенели детские голоса:
Над холмом и над долиной Солнце поднимается, Вместе с Новым годом Елка в путь пускается…
Ене Леля шел, грохоча сапогами, задевая плечом изгороди. Глянув ему в лицо – потемневшее, заострившееся, с глубоко запавшими горящими желтыми глазами, – Джия чуть было не закричала, да только крепко-накрепко зажала обеими руками рот.
Ене Леля не услышал.
Отчаянно, не умолкая, звенел в нем душераздирающий крик, сжигая, словно ядом, и плоть, и кровь, старя не на годы, на тысячелетия…
И назавтра не настало покоя, и никогда…
1962