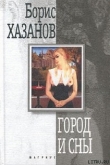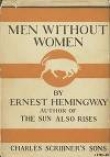Текст книги "Властелин дождя"
Автор книги: Фзнуш Нягу
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 19 страниц)
Под новый год
– Тихо падает снег, как замерзшие слезы,
Не тревожь мое сердце, ямщик!..—
пела мама, замешивая тесто, в доме сладко пахло ванилью, корицей, а за окном синел вечер и падал пушистыми хлопьями снег.
Слова старинной песни были непонятны Бэнике, и он завороженно смотрел, как кружились в воздухе снежинки, застилая белым ковром двор, и сани, и ветвистые акации, в стволы которых дед вбил железные кольца, чтобы можно было привязывать лошадей.
– Тихо падает снег, – прошептал мальчик и засмеялся, потому что снег показался ему синим-синим, а в жизни так не бывает.
Он отвернулся от окна и посмотрел на мать, и она на него посмотрела ласково и, протянув руку, погладила по голове. Руки у мамы пахли ванилью.
– Ложись, поспи немного, – предложила мама, – ты ведь собрался колядовать с Джордже и Раду.
Мальчику очень хотелось дождаться отца, что ушел к дедушке за вином, но долил сон, и, укрывшись одеялом, Бэнике стал засыпать, мечтая о голубке, который мама испечет для него, для него одного, для своего Бэнике. Он чувствовал дыхание снежного поля, что колыхалось за стеной, покорное воле ветра, слышал треск сухого чертополоха, ломаемого веселой вьюгой, и думал: до чего же оно широкое, поле, до чего просторное. Есть где ветру разгуляться!
Он что-то пробормотал во сне и улыбнулся. Привиделось что-то, подумала мама, погасила свет и ушла в другую комнату, оставив мальчика блуждать среди видений: на столе перед Бэнике высится гора румяных калачей, под столом два мешка золоченых орехов, а на дворе козочка и четыре зайца громко поют колядку.
Мы пришли колядовать,
Счастья дому пожелать…
На улице холодно, снег из голубого становится белым– белым и чистым-чистым, а зайцы стучат лапками в окошко и поют, а тот, что самый маленький, глупыш, перепутал слова колядки, все поет про какой-то пенек, что стоит возле теплой печки. Конечно, зайчишки замерзли. Бэнике отворяет дверь и зовет их в дом. Козочка вбегает первой, покачивая ожерельем из еловых шишек, и по комнате сразу растекается запах смолы. Взгромоздившись на стулья, зайцы рассаживаются вокруг стола, шеи у них замотаны теплыми пушистыми шарфами. Бэнике оделяет каждого румяным калачом и угощает стаканчиком вина. От вина гостям сразу становится тепло.
– А не дашь ли ты нам и орешков? – спрашивают они.
И Бэнике, развязав мешок, разрешает зайцам взять каждому по четыре ореха, а козочке дарит пестрые шерстяные кисточки, чтобы украсила ими рога, хотя приготовил эти кисточки для пса Бужора. Ничего, думает мальчик, Бужор и бублику будет рад.
– Бэнике, – это говорит лопоухий зайчонок, тот самый, что перепутал слова колядки, – дай нам еще по одному орешку, и мы пойдем дальше, поздравлять Джордже и Раду.
– С удовольствием, – говорит Бэнике.
Козочка топает ножкой, ударяет копытцем, и зайцы, набрав побольше воздуха, запевают новую колядку:
Есть зеленый базилик на столе и сладости,
Крепкого здоровья вам и великой радости…
И они уходят, уходят в метель, приплясывая и напевая.
Зайцы и не замечают, что шарфы у них развязались и волочатся по снегу, а козочка боится на них наступить. Посреди двора они все останавливаются, пересчитывают орехи и идут дальше, к воротам.
– С новым годом, Бэнике!
Бэнике узнает мамин голос и приподнимает голову с по душки.
– Раду и Джордже пришли, вставай, пора идти…
– Знаешь, мама, – радостно говорит мальчик, – ко мне приходили козочка и четыре зайца, только они уже ушли.
Мама наклоняется и целует сынишку.
А во дворе под окном Раду и Джордже, пробуя голоса, запевают:
Наступает Новый год…
1971
Поздно утром, когда снег голубой
Мальчика звали Бэнике, а щенок, поскольку его два раза застали мордой в кастрюле, получил прозвище Токэнел[4]4
Токэнел – любитель токаны, мясного блюда.
[Закрыть].
Дело было в феврале, день и ночь валил снег, и окошко замело чуть ли не доверху, а они сидели в комнате: Бэнике на кровати, а Токэнел – у двери, кутаясь в шерстяной чулок, у которого мальчик распустил пятку, так что получился костюм на выход, в нем щенку было не стыдно и на люди показаться. Топилась печурка, еловые дрова пахли хвоей, и где-то в щели пел сверчок, как будто насмехался над ветром, который гонял под стрехой, взвихривал снег и швырял его в гривы акаций.
– Токэнел, – позвал Бэнике, не открывая глаз, разморенный теплом. – Скажи этому нахалу, чтоб замолчал.
– Если бы я знал, где его искать! – откликнулся Токз нел.
Мимо окна пролетела птица, задев его крылом.
– Как будто кто-то постучал. – Токэнел навострил уши.
– Воробей. Его послал деревянный петух с ворот. Он замерзает, его совсем засыпало.
А ведь он наш друг, – сказал Токэнел. – Этой осенью, когда собирали виноград, он взял тебя на спину и повез по орехи.
– Не совсем так, я тебе соврал, – признался Бэнике. – Я действительно влез к нему на спину, но повез он меня не по орехи, а на луг, куда слетелись все деревянные петухи из нашего села. Было полнолуние, и они расселись в кружок вокруг акации, где мы с тобой как-то подстерегали зайцев Они привели с собой и два десятка цыплят – учить их летать. Эта мелюзга страшно глупая: взмахнут разок крыльями и падают на землю. А наш петух мне и говорит: «Бэнике, я привез тебя сюда и, если хочешь, подниму тебя под облака, где всегда идет дождь, только ты поклянись, что никому не расскажешь то, что здесь увидишь». Я поклялся. Он говорит: «Вот и ладно». И тут подходит ко мне старый петух, этот, знаешь, с ворот дяди Лаке Петку, у него еще красные крылья и синий хвост, подходит, крылья раскрывает и говорит: «Бэнике, возьми наших цыплят за пазуху, залезь на акацию и там выпусти». Я залез на акацию и стал их вытаскивать по одному из-за пазухи, вытащу, подержу на ладони и тихонько подбрасываю. Старые петухи натянули внизу, на кустах терновника, полог, насыпали на него зерен, и цыплята так хотели туда попасть, что больше не падали камнем, а летели. Светила луна, и они были живые, они всегда при луне, когда все спят, оживают и начинают летать от ворот к воротам, в гости друг к другу.
– А под облака-то вы поднялись? – полюбопытствовал Токэнел.
– Не вышло. Небо было совершенно чистое – ни облачка. Я полечу в другой раз, с пчелами из нашего сада, у них есть большой короб для меда, и они иногда тоже прихватывают с собой какого-нибудь мальчика и носят его с цветка на цветок, а потом – в облака, они там воду пьют.
– Не полетите вы никуда, – съехидничал Токэнел. – Ни без меня, ни со мной. Их тоже замуровало под снегом.
Послушай, ты, – вспылил Бэнике, – сейчас как тебе врежу!
– Ишь какой. А я с тобой разговаривать не буду, буду разговаривать только со щенками.
А я тебя выволоку за ошейник на мороз, и ты замерзнешь.
А пока суд да дело, замерзнет петух. Да и пчелам несдобровать. Ты бы лучше придумал, как их спасти.
– А я придумал, – сказал Бэнике. – Залезь под кровать и достань колеса от тележки.
Токэнел забрался под кровать и выкатил колеса на середину комнаты.
– Сверчок здесь, – послышался его голос. – Что делать, прищелкнуть его?
– Не надо, – сказал Бэнике, – мы с ним потом рассчитаемся.
– Ну, хотя бы разок ему влеплю, – нудил Токэнел.
– Раз я говорю «не надо», значит, не надо, и вылезай оттуда!
Токэнел послушался.
– Бери колеса, – скомандовал Бэнике. – Я подниму печку, а ты пристрой под нее колеса. Раз-два – взяли! Смотри, чтобы тебе уголек не прожег шкуру.
Бэнике держал печь на весу, а Токэнел подставлял под нее колеса. Когда они кончили, мальчик был красный от натуги, а Токэнел прислонился к стенке и высунул язык.
Бэнике взял кочергу и махнул рукой, чтобы Токэнел открыл ему дверь. Уже выкатывая печурку, он задержался на минуту и крикнул:
– Эй, где там нахал, который все время скрипит и не дает мне спать, идем с нами, а то худо будет!
Видя, что ему и в самом деле придется несладко, если он не выйдет, сверчок вприпрыжку подбежал к мальчику и вскочил к нему в карман.
– Поехали! – крикнул тот и кочергой протолкнул печку в сени, а оттуда – во двор, прямо в глубокий снег.
Сугроб, заледеневший от мороза и ветра, стал потрескивать и оседать.
Бэнике, словно ему нипочем была пурга, которая с воем металась над ними, толкал печку в сад, а за ним оставалась глубокая борозда, по которой шествовал, помахивая хвостом, Токэнел. Они добрались до ульев – их было десять– и отогрели их, а у последнего, стоявшего у самой ограды из колючих кустов, Бэнике остановился и сказал Токэнелу:
– Здесь они держат короб, в котором я полечу к облакам. Если ты будешь слушаться, я тебя тоже возьму с собой. Только не связывайся больше с воробьями. А когда увидишь, что кот на них нацелился, прыгай к нему на закорки и тычь его носом в землю.
Они миновали овчарню и направились к воротам. От деревянного петуха только гребешок торчал из-под снега. Мальчик встал на колени и поворочал угли в печурке. Волной жара растопило лед на столбе. Петух, выпущенный из тисков, распахнул крылья, захлопал ими и закукарекал. С другого конца улицы отозвался хриплым, стариковским голосом петух Лаке Петку. И в ту же минуту застрекотал сверчок в кармане у Бэнике.
– Послушай, петушок, можно я тебе кое-что скажу? – спросил Бэнике.
Но петух не ответил, и Бэнике понял, что он при Токэнеле не заговорит, и вернулся в дом, волоча за собой печку.
Дома он снял ее с колес и, усталый, заснул.
Поздно утром, когда он проснулся, Токэнел еще дремал в сенях за веником, а сверчок пел под кроватью. Бэнике посмотрел в окно и увидел, что уже совсем светло. Шел снег – густой, с голубым отливом, и под навесом снежинок он увидел тропинку, проложенную им до ворот, и деревянного петуха, вертевшегося на одной ноге.
Ого-го! – подумал Бэнике. То-то мы с ним полетаем, как луна станет полной!
Он приподнялся на локтях и крикнул щенку:
– Токэнел! Просыпайся, пора идти кататься на санках.
Прямо сейчас?
– Прямо сейчас. И не говори маме, что я вытаскивал печку на мороз. Если проболтаешься, будешь иметь дело со мной. Эй, там, под кроватью, ты тоже намотай это себе на ус!
1971
Белые кони города бухареста
– Дедушка, – сказал мальчик, – я тоже хочу знать: снегопад сколько места занимает? Как город Бухарест?
Они сидели во дворе, на краю оврага – дедушка зарезал овцу и ободрал ее, – за оврагом было поле и снег, земля и белый покров, и на всем этом белом, не знающем конца пространстве бушевал, поддуваемый ветром, снегопад. Они сидели вдвоем, зарезанная овца висела на развилке толстой акации, под ней крутилась собака, раздразненная пятнами красной крови и запахом мяса.
– Да, – ответил дедушка, – я думаю, что как город Бухарест. Пододвинь-ка ко мне колоду, – попросил он, – я хочу разделать тушу.
– А я никогда не видел города Бухареста, – сказал мальчик. – А если честно, дедушка, – добавил он с горечью, – я вообще не видел никакого города, вы меня с собой не брали. Не очень-то вы со мной считаетесь, вот что я тебе скажу. Вы все думаете, что я маленький, и заставляете меня рано ложиться спать. Вчера вечером я знал, что начнется вьюга, я хотел на нее посмотреть, нельзя пропускать ни одной вьюги, чтобы потом не жалеть…
– Было поздно, – оправдывался дедушка. – И потом у тебя промокли сапоги.
Это моя ошибка, тут ты прав, я вчера целый день проторчал на улице и к тому же забыл с утра смазать сапоги жиром. Я забывчивый, что и говорить, и, может быть, злой: не надо было мазать углем стены. Но мне просто захотелось нарисовать волков и посмеяться над ними, уж больно они хищные. За это-то вы больше всего на меня обиделись и послали меня спать. Жалко, что я не увидел вьюгу. Я, конечно, мог бы ее все-таки увидеть, потому что я сплю головой к окну и глаза у меня зоркие, но, когда гасят свет, я ничего не могу с собой поделать, у меня веки сами собой слипаются, и потом по мне можно на санях ездить – я ни» чего не почувствую. Горе, да и только, ведь когда-нибудь я стану большим и захочу пойти к фотографу с какой-нибудь девушкой, чтобы сняться на память, – и представляешь, он потушит свет, и я засну.
– Черт возьми! – сказал дедушка. – Это уж никуда не годится.
– Вот именно! – Мальчик погрустнел. – Этого я боюсь больше всего на свете. Даже пьяницей быть не так страшно, как это. Выпивать мне не нравится, я капли в рот не беру и очень хорошо себя чувствую. А вот тебе надо поостеречься, в последнее время – я замечал – ты то и дело норовишь пропустить стаканчик винца. Это добром не кончается.
– Я буду остерегаться, – пообещал дедушка. – Нет, ты, конечно, не закоренелый, но жизнь надо прожить красиво. Я бы тебе ничего не сказал, честное слово, это снег мне язык развязал. Когда я встал и увидел, что идет снег, и мама сказала, что ты пошел зарезать овцу, я чуть не захохотал от радости. Шагаю, руки в карманы, снег загребаю сапогами – я из них весной сделаю подстилку для щенят, – ловлю языком снежинки и думаю: снегопад такой большой, как город Бухарест. Знаешь, если на тебя смотреть через снег, издалека, и ты еще наклонишься, как сегодня, когда я глядел с порога, тебя трудно принять за человека. Как бы тебе сказать: ты как будто был заодно с овцой и вы что-то обсуждали. Чепуха, конечно, вчера я думал, как было бы замечательно превратиться в лошадь и поскакать сквозь вьюгу в город Бухарест, а прискакав, снова обернуться человеком и смотреть, как идет снег и заваливает город Бухарест.
– Гм, – сказал дедушка, – в городе Бухаресте много церквей со шпилями и нельзя проехать на санях.
– Наколешься? – предположил мальчик. – Город Бухарест четыре месяца в году стоит белый-белый. Я там служил солдатом.
– Известное дело, – перебил его мальчик. – Ты ушел из дому с ружьем, неделю пропадал и был солдатом. Когда ты вернулся, ты принес восемь зайцев и подбил мехом штаны. Вам, солдатам, выдавали по два зайца каждый вечер, чтобы вы их на ночь клали под голову, а ты их припас для меня. Но военные зайцы ужасно короткохвостые, я попробовал было поменять заячий хвост на беличий – не прошел номер, пришлось отдать две бабки в придачу. А скажи-ка, если город Бухарест такой белый, то и тамошние кони тоже должны быть белыми? Я, когда хотел превратиться в лошадь и поскакать в город Бухарест, не думал, что буду белой лошадью. Мне больше нравятся гнедые, с длинной гривой.
– Горемыки они, лошади из города Бухареста, – сказал дедушка. – По мостовой они не скачут из-за машин, а только по тротуару, выходят на прогулку парами, как люди, без узды и без повозки, и в мороз пьют горячую цуйку.
– Это лошади-то?.. – недоверчиво протянул мальчик.
– А ты как думал! Это ведь лошади города Бухареста, у них дел нету, их не запрягают, вот они и ходят по трактирам: «Добрый день, две порции овса и две горячие цуйки, пожалуйста, с сахаром и корицей. А для жеребят – по пряничной кукле».
Ободранная овца, висящая на акации, казалась крестом из мяса. Над акацией и над оврагом стемнело, так густо валил снег. Где-то, за мглой, просыпался ветер.
– Как будто бы дело к вьюге, – сказал дедушка. – Топот в поле. Знаешь, что это?
– Знаю, – ответил мальчик. – Это белые кони города Бухареста. Но куда они?
– На водопой, к проруби, там под водой ключ, который не замерзает зимой. Скачут во весь опор по сугробам.
– Я должен их увидеть, – сказал мальчик, и шагнул к своим санкам с железными полозьями, и сел в них.
– Не получится, – предупредил дедушка. – Когда они выбегают в поле, у них тело пропадает. Только топот остается.
Неправда, – возразил мальчик. – Я их вижу. Вон они, ростом до неба, и все ближе и ближе. Эй вы, кони города Бухареста! – закричал он, и подтолкнул санки к краю оврага, и пустился вниз, волоча одну ногу по снегу, для равновесия, чтобы не опрокинуться.
Он летел вниз по саночному следу, в голове шумело, на дне оврага санки перевернулись, он упал, оцарапал лицо о сухой бурьян, а когда поднялся, встретился с вьюгой. В испуге он замотал головой и почувствовал на щеках дыхание коней из города Бухареста. Их было много, целые табуны, и все наклонили к нему морды, и тогда он протянул руки и стал гладить их по белым разметавшимся гривам – он знал, что, когда они уйдут, он будет скучать по ним и будет ждать их всегда.
1971
Властелин дождя
Звонкое ржание спугнуло сон старика. Уснул он в самый разгар дня, сморенный июльским зноем. Дремотный воздух обволакивал ресницы золотистым туманом. Крепок был сон, да промчались мимо кони, пронеслись с гулким цокотом к седому Дунаю на водопой, погоняемые двумя парнишками, – и нет его… На току стрекотала молотилка, обмолачивая пшеницу, что скосили с маленького поля на острове Гырлуцей, – комбайн как сюда доставишь? Прежде сеяли здесь лен, коноплю или клевер, но новый председатель решил попробовать пшеницу… Вдали горели на солнце белоснежные вершины гор Мэчину, а тут у воды подрагивали от сырой речной прохлады тополя. Пахло сладким донником, пряной мятой. У расщепленного молнией вяза притаилась под камнем зеленая ящерица, подстерегая добычу; босоногий мальчишка прыгал как заведенный на одном месте, будто вытряхивал воду из уха, и пронзительно кричал: «Цветочный мед! Цветочный мед!», а другой, вслушиваясь, как шумит море в ракушке, и воображая себя грозным пиратом, вторил столь же самозабвенно: «Морские дьяволы, вперед!»…
– Ох и сладко спалось, – вздохнул старик, подставляя косому ливню июльского света веселую голубизну маленьких глаз.
Он все еще лежал, чувствуя, что земля накрепко оплела его незримыми путами, держит и не отпускает. Казалось, покуда он спал, он утратил что-то очень важное, может быть, какой-то потаенный смысл, и теперь жадная земля пыталась полностью завладеть крестьянской душой. Вороша теплую солому, старик ждал, когда этот потаенный смысл к нему вернется, потому что без него все становилось пустым и ненужным, хотя он и сам не понимал почему.
– Эй! Сходи окунись и поешь! – крикнул ему парень управлявший на току лошадьми. – Ох и жарит нынче, совсем я измаялся.
– Нет, Василе, я сперва, пожалуй, поем, – ответил старик и поднялся.
Он потопал ногами в разношенных башмаках, отряхнул приставшую к одежде мякину, хотя ее трудно было углядеть на заскорузлой от грязи парусине. Невысокий, с короткими, похожими на медвежьи лапы узловатыми руками, с морщинистым, в желваках, худым лицом, продубленный дунайским ветром, который без устали гонит и гонит волны, намереваясь затопить островок Гырлуцей. Иной раз вода подкатывалась к самому порогу деревянного домишки в той стороне острова, где жил старик. Его манили белевшие вдали горы Мэчину, навевали тоску по родным местам. А Дунай? Чего было ждать от Дуная, кроме томительной усталости и смерти?
Белое полотняное облачко медленно плыло из далекой Брэилы.
– Видишь облачко? – спросил Василе. – Что там на борту? Есть водичка?
– Какая уж там водичка! Только парус белеет. Не бывать у нас дождю.
– Да… жалко! Стало быть, невзлюбил нас боженька.
– Не поминай бога всуе, балабон!
– Нанижет он нас, как лещей на веревочку, и будем вялиться.
– Что-то плохо соображаю, – отмахнулся старик, жадно доедая кусочек маринованной селедки и принимаясь за бараний плов.
О дожде Василе спросил не случайно: все об этом спрашивали старика, помнили, что брата его Антона, давно покойного, крестила ведунья, умевшая заклинать дождь, – потому и обижались, если старик не предсказывал ожидаемого.
Э-эх, темнота деревенская! И ведунья эта, блаженненькая, до сих пор персиковое деревце у меня под окном оглаживает и целует, говорит, будто Антонова душенька в нем поселилась… – подумал старик и ухмыльнулся, дивясь людской глупости. Желтый бараний жир застывал у него на усах, и он утирал их не так, как водится у крестьян, тыльной стороной ладони, а лопухом. Пусть и муравьи поживятся, тоже тварь божья…
– Старый! – снова окликнул его Василе. – Ты смотри, не жадничай, оставь мясца и Андрею Букуру. Он у нас нынче отличился, мешка два усачей натаскал из омута возле липованской запруды. Поехал теперь то ли в Гропень, то ли в Голышей на цуйку менять. К вечеру небось целую боччу притаранит.
– По такому случаю, Василе, махну-ка и я на лодочке домой, привезу пару арбузов, и устроим пир на весь мир, как в сказках сказывается. Вязку баранок прихвачу, огурчиков малосольных… Кэлина на той неделе насолила, ох и вкусные – пальчики оближешь. Укропу, почитай, целую гору извела.
– Чего ж ты сидишь? Езжай! У меня от одной твоей похвальбы слюнки текут. Сгоняй туда и обратно! – Василе прищелкнул кнутом, и лошади резвей побежали по кругу, громче загудел барабан молотилки, проглатывая снопы пшеницы. – Э-э-эх! Работай! – бесшабашно заорал он. – Гуляй! Пей!
Его ликующий крик переполошил всю округу: дрогнули тополиные листья, запрыгали белки по дубу, окруженному цветущим боярышником, взметнулся вверх, насытив воздух горечью, запах полыни.
– Ну и ловок ты! – неожиданно сказал Василе. – Экую женушку ладную отхватил, горячая кровь старые кости греет.
– Умный человек умно и поступает.
– Или покупает! – поправил Василе и засмеялся. – Ну, гривастые! Живей, живей, клячи чертовы!
Посмеиваясь в усы, старик спустился к Дунаю. Четыре голых парня, баламутя воду, шарили по дну руками, отыскивая раков. Парней этих недавно сюда прислали – на молотьбу.
Старику они показались горсткой пшеничных зерен… А счастливы-то как!.. Молодым дурацким счастьем! Торчат в воде на самом солнцепеке, раков ловят – и радуются. Чему радуются? Ну не дураки ли? Да только кто ж от счастья откажется, хоть и самого раздурацкого?.. Старик отвязал лодку, вставил весла в уключины, двинулся вверх по Дунаю.
До дома было километров пять-шесть, не больше, но плыть против течения тяжело, ох, как тяжело. Зато Кэлину увидит, выйдет она танцующей походкой, облокотится на свою любимицу березку и будет ждать… После полудня свет над волной мерцающий, зыбкий, будто бахромка от заячьих зубов на коре молоденькой вишни. Лодка разрезала носом отраженные в воде ветлы, оставляя за собой глубокий переливающийся след. С берега пахло то смородиной, то папоротником, то тиной или жасмином, манящим бабочек. В густой листве акации гомонили щеглы, свистали иволги, слышался перестук дятлов. Величественно и надменно шли по реке пароходы и пузатые баржи, окатывая волной маленькую лодчонку, шли гордые хозяева реки, – пока длится сладостное господство лета. Эх, не на Дунае бы мне сидеть, а податься в горы с моей Балуньей, малину собирать, подумал старик; «Балуньей» он ласково звал жену. Пот катил с него градом: спокойная на поверхности, вода жестоко сопротивлялась веслам. Старик греб и греб, листая назад время. Шестьдесят лет он жил как все, занятый каждодневными заботами и трудами, но однажды пришла осень, и кончилось его смирение. Старик снарядил лодку и, никому не сказавшись, отправился далеко-далеко, в устье Дуная, за крупной рыбой. Осетра ему поймать не удалось, но на обратном пути завернул он в цыганский хутор и взял там себе жену – молоденькую дочь кузнеца-цыгана, отдав за нее пять волчьих шкур, золотое ожерелье и две сотни подков…
Уже подплывая к дому, старик невзначай глянул на небо, увидел круглое простодушное лицо луны и спросил столь же простодушно: как же сподобился господь сотворить этакое чудо – мою Балунью? И ответил: да проще простого, взял смуглую кожицу сливы, вдул в нее пену с парного молока, окропил двумя каплями хмельного виноградного сока – вот тебе и глаза цыганские! Потом одарил ее голос двумя серебряными бубенчиками, чтобы смеялась звончее, и сказал тихонько: «Иди, Кэлина!..» И она пошла легкой поступью тревожить сердца и кружить головы. Не обделил он ее ни лукавством, ни причудами, ни хитростями. А если и того ей покажется мало, она сама сотню новых уловок выдумает…
Старик причалил к мосткам, привязал лодку к колышку возле ивы, звеневшей так, будто в ее трепещущих листьях переливалась струйками выпитая дунайская водица. К дому вела узкая тропинка, петлявшая между грядками с садовым маком, салатом, укропом и подвязанными к деревянным столбикам лозами со стеклянными шариками того же цвета, что и мак. Из крошечного озера журча вытекал ручей и, огибая дом, впадал в Дунай; у берега озерца шумно плескались утки, а чуть поодаль по его зеркальной глади, выгнув шею, плыл белый лебедь, как бы кланяясь водяному и испрашивая у него мудрости и рыбешки.
Кэлина услышала шаги мужа и вышла навстречу. Хрупкая, смуглая, с переброшенной на грудь черной косою, с припухлыми капризными губами, изогнутыми в ленивой усмешке, она, прежде чем ступить с крыльца, томно наклонясь, погладила колено и остановилась между двумя деревцами: персиком, в который, как считала сумасшедшая ведунья, вселилась Антонова душенька, и густолистой молодой березкой, своей любимицей. Прижав подбородок к плечу, словно придерживая спадающее с шеи ожерелье, и жуя горький виноградный лист, Кэлина плутовски глянула на мужа бузинной зеленью глаз.
– Ах ты, старый, старый!.. Все норовишь врасплох меня застать… а я-то, бедненькая, с самого утра тружусь не покладая рук, обстирываю тебя…
Старик недоверчиво усмехнулся и яростно затопал ногой, которую неожиданно свела судорога.
– Ну и жарища на току, сил моих нет. Огнем печет! Нелегко мне достается хатенка эта… Целый день торчу у веялки. В горле першит от мякины… – Он хрипло прокашлялся и сплюнул, как бы показывая, чем у него забито горло. – Принеси-ка холодненькой водицы.
Шлепая босыми ногами, Кэлина ушла и вернулась с полным кувшином воды. Старик жадно припал и пил, пил, похрустывая льдинками: Кэлина не поленилась и льда наколоть.
– К жизни ты меня вернула, Балунья!.. А чем это от тебя пахнет… корицей… ванилью?.. Надушилась ты, что ли?..
– Дунайской водою да летом от меня пахнет, больше ничем. А ты уж, поди, подумал, что жду я в гости лесника, чтоб срубил под корень молодую осинку? – Ну, полно, не серчай. Я за арбузами приехал, вязку баранок хочу взять да твоих огурчиков соленых – погулять мы нынче вечером решили.
– А ты еще сальца из погреба достань, да лозу виноградную сорви, да заодно востро бритву наточи… Ладно уж, не сержусь я. Ухи хочешь? Выменяла я усача у липованина за бутылку грушевой цуйки.
– Сыт я. Ел недавно. Лучше поди ко мне, да расплети косу, я тебе ее потом заплету. Стосковался я по тебе, потому и приплыл…
– Ох, уж стосковался! С утра виделись.
– Э-эх, Кэлина! Тебе бы мои глаза, не так бы все глянулось…
Старик тяжело опустился на лавку. Кэлина присела у его ног, положила голову к нему на колени. Загрубелыми пальцами перебирал старик пряди ее черных волос, прижимал к щекам, касался губами, вдыхал их аромат. Будто подбиралась к нему лисица, чтобы похитить рассудок, в мягкости этих обволакивающих волос, в их дымном горьковатом привкусе таились загадочность и коварство ночи, неизбежность потерь, наполняющие душу болью и тревогой.
Старик вдыхал этот запах, боясь разгадать его тайну и покорно соглашаясь терпеть и страдать. Он чувствовал, что своенравная причудница Кэлина вот-вот ускользнет от него, вырвется на волю, и гладил, гладил ее черные густые волосы, не спуская глаз с волнуемого ветром прибрежного камыша. И ветер вроде меня, старого, куда ни ткнется – все от него волнами разбегается: что вода, что трава, что камыш…
– Черт бы вас побрал, баб красивых! – ругнулся старик от какой-то хмельной радости. – Будто куницу в руках держишь, того и гляди укусит.
– Может, и меня возьмешь на гулянье?
– Еще чего не хватало! Погулять хочешь – уведи коня из табуна, плыви через Дунай и обворуй какую-нибудь хату на Кэлмэцуе.
Вот-вот, так я и знала, – попрекнула Кэлина. – В тюрьму меня упрятать хочешь.
– Лучше в тюрьме сидеть, чем на току гулять.
– Жаль! Ох и досадила бы я Василе и Андрею Букуру!
– Чем они для тебя плохи оказались?
– Тем плохи, что разбойники.
– А и то верно, шантрапа, – презрительно согласился старик. – И Туляшка, зять Василе, им под стать. Каторга ему грозит. Знаешь? Едет он на мотоцикле по дамбе, а навстречу верховая милиция. «Что в коляске везешь?» – спрашивают. «Гусей для столовой везу», – отвечает. Заглянули, а там баба его, на куски разрезанная, ехал топить в болоте.
– Дождь-то нынче будет или нет? – спросила Кэлина. совершенно равнодушная к истории с Туляшкой.
– Откуда в июле дождю взяться? Не будет у нас дождей, покуда не подадут королеву дунайских щук с петрушкой в зубах на стол бузэуского архиерея… Пора мне, солнце садится. Принеси вязку баранок.
Кэлина ушла в дом, а старик отправился под навес за плетенкой с арбузами. Наклонившись, чтобы пройти под веревкой с развешанным бельем, он наткнулся на неведомо чью голубую выстиранную рубашку, ощупал ее, прикинул длину рукава – чужая! Боль пронизала мозг, заныло сердце. Старик наклонился и вместо корзины поднял топор. Он встал посреди двора, решив срубить чаровницу-березку, любимицу Кэлинину. Но прежде чем нанести удар, прежде чем вонзить черное лезвие в тело деревца, он хрипло позвал:
– Шлюха!
– Шлюхой жена твоя была, – ответила она из дому, – а меня Кэлина зовут.
– Выйди та, которую позвал! Гляди, как буду губить любимицу твою, тварь бесстыжая!
Тонкая марлевая занавеска – кажись, языком дотронься, порвется – дрогнула на латунном шнуре, отъехала в сторону, на пороге показалась Кэлина. Она подошла к березке, протянула смуглые тонкие руки, и солнце позолотило зелень ее глаз. Вдруг – почем знать кто? – порывистый ли ветер дунайский, сверкающий ли улыбкой закат на один лишь трепетный миг обнажил ее всю, целиком. Старик и ласточки, что стригли воздух над садом, увидели, как покрытая изморозью кожица сливы наполнилась пеной парного молока – и возникло тело цыганки. Кэлина рассмеялась, зазвенели бубенчики, сверкнуло россыпью жемчужное ожерелье – она смеялась с задором, с издевкой, с вызовом.
Старик выронил из рук топор. Освещенные закатным солнцем, верхушки тополей простирали к ветру ветви с иссохшими листьями.
– Уходи, – тихо промолвила Кэлина, и старик, взяв корзину с арбузами, медленно побрел по тропинке. – Стой!! – вдруг окликнула она его. Он остановился как вкопанный, спугнув воробьев на корявом кусте чертополоха.
И настал недвижный покой – кончилась власть извечного времени, все повергающего в прах, Кэлина заворожила мир: застыл Дунай с буксиром, тащившим за собой целую гроздь лодок, волчком завертелись они на месте; застыла в руке бутылка водки, что пустили по кругу липоване с длинными бородами, облепленными мошкарой; застыли овцы, зайцы, косули, пришедшие к большой дамбе напиться воды, окунули мордочки да так и замерли, слушая, как ветер поглаживает расколотый некогда, во время битвы, поросший травой церковный бронзовый колокол; застыла на лету кошка, так и не вспрыгнув на высокий черный пень.
– Сними грязную рубаху, – сказала Кэлина, отпуская Дунай течь, как прежде. – Надень вот ту, голубую.
Старик покорно снял с себя залубеневшую от пота, пыли, половы рубаху и надел чистую, еще влажную, пахнущую синькой, которая оказалась ему длинна, почти до колен, подвязался шелковым пояском с золотыми кистями, найденным в рукаве, – рот изломала благодарная улыбка.