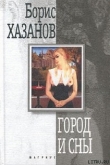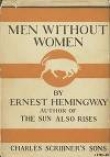Текст книги "Властелин дождя"
Автор книги: Фзнуш Нягу
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 19 страниц)
Дальняя дорога
В августе 1956 года Хория Ваду вышел из тюрьмы, где просидел девять лет. Был вечер. Шел дождь. Сторожевая вышка зыбилась в тумане. Желтые размазанные огни выделяли из темноты караулку, там прятались часовые, укутанные в навощенные плащи с капюшонами. Ваду молча в последний раз глянул назад и пошел по улице, напоминавшей глубокую канаву с каменными краями, растрескавшимися от времени.
Мокрые плети дикого винограда свисали со стен, били его по плечам и лицу, но он не отстранялся. Под пиджаком он нес лодочку из лыка – подарок повара, отбывавшего срок за кражу со взломом, – и кошку из пакли, склеенной желатиновым клеем. Кошку он сделал сам. Он смастерил ее как-то в обеденный перерыв для трех котят, что нашел в зарослях ивняка. Недавно народившиеся котята были брошены туда околевать от голода, они слабо мяукали и облизывались.
«Черт побери! Вот история! – досадовал дежурный милиционер. – Сделал бы кто-нибудь для них из пакли мамашу– мы пропитали бы ее молоком».
Хория Ваду вызвался сделать кошку. А позавчера в полдень, узнав, что его выпускают, сунул ее в карман. Моя собственная, подумал он. Возьму.
Он прошел всю улицу до самого вокзала. Неподалеку, в большом доме с верандой, играла музыка: видимо, там танцевали. Уж не офицерский ли это клуб? – подумал Хория Ваду, и вдруг ему захотелось войти и сказать офицерам: «Я воспитанник воинской части Хория Ваду, когда вы закончите, я буду натирать паркет!» Сматывайся, парень, тут же оборвал он себя, сматывайся, подальше от греха!
Он отметил билет, зашел в свой вагон и, так как багажа у него не было, остановился прямо в коридоре, держась за никелированный поручень под окном. С тех пор как его отпустили на свободу, он ощущал приятную расслабленность во всем теле и удивительную легкость в движениях. Охваченный детской радостью, Ваду глядел по сторонам. На линолеуме в коридоре отпечатались только его следы. Сбились каблуки, отметил он про себя. Ну да не важно. Главное, что я на свободе. Захочу – растянусь на полке и буду спать, пока не отлежу себе бока. Я на свободе.
Перрон, недавно покрытый асфальтом с круглым орнаментом, легко скользил назад. Будто кусок картона, выходящий из-под пресса. Потом друг за другом проплыли газетный киоск, люк, грязный туннель, уборная, перила железнодорожного моста, четыре раскидистые липы, красная кирпичная стена и тот дом, где танцевали, с высокими, сказочно сверкающими окнами. Хория Ваду успел заметить блестящий кусок паркета, в котором отражался массивный канделябр с хрустальными подвесками. Да, это офицерский клуб, подумал он и содрогнулся.
Шесть лет провел Хория Ваду в казармах; родители его бросили, и он рос при воинской части. Попытался определиться вначале в духовой оркестр (он прекрасно подражал голосам птиц), но не выдержал экзамена. И пришлось ему поступить в шорную мастерскую; там целыми днями он чинил конскую упряжь, плел хлысты или резал кожу на полоски, которыми привязывались шпоры к сапогам. А по субботам, после обеда, шел с дежурным взводом в офицерский клуб натирать паркет для бала. Пол мыли горячей водой, покрывали воском, смешанным с бензином, потом Ваду, самого маленького из всех, вооруженного военной каской и ботинками на резине, укладывали на грубошерстное одеяло. Четыре солдата без сапог, в одних носках, брали одеяло за углы и пускались бегом, волоча его по всему полу. Сделав один такой заход, они с разбегу кидали одеяло что было силы вперед.
«Голову выше! – кричал сержант. – Не вбирай голову в плечи! Выше! Выше!» Это чтобы он ударился о стену каской, а не плечами или спиной, иначе кости разлетятся вдребезги.
Ваду вспомнил, что всегда, как в бреду, разглядывал роспись на потолке: женщина с рыбьим хвостом, дюжина птиц с черными глазами и золотыми перьями… За усердие давали стакан вина и разрешение смотреть на бал сквозь Щель в боковой двери.
– Эх, мать их так!.. – выругался он. – Ведь сколько раз мне в кровь нос расшибали!
И, войдя в купе, лег спать.
Утром он сошел на полустанке, за деревьями тянулись лоскутья виноградников, вдалеке, окутанные туманом, плавали горы. От прохладного, благоухающего сеном воздуха зачесалось порезанное лицо – в полночь, проснувшись, он отправился в уборную и побрился. Холодновато здесь, подумал Ваду. Видно, прошли ливни! И запахнул поглубже пиджак. Стая скворцов прыгала по черепичной крыше. Во дворе, где жил дежурный по станции, на проволоке бились под ветром пеленки. Хория Ваду посмотрелся в окно станции и сокрушенно покачал круглой бритой головой. Суконный костюм на нем был прочный, но галстук пришлось отдать за десяток сигарет, и воротничок рубахи, скрутившийся как лист кукурузы в засуху, криво сидел на худой негнущейся шее. Когда раздобуду побольше денег, куплю себе галстук на резинке, с двойным узлом, узкий, как штык, решил Ваду и направился к груде дынь, возвышавшейся у погрузочной платформы. Лодочку из лыка он запихнул за пазуху. Самодельная кошка высовывала голову из кармана брюк.
Он увидел плечистого, крепкого парня, стройного, как ель, запорошенная снегом. Рядом с парнем какой-то чернявый в тельняшке, присев на корточки, колотил дыню о землю, чтобы размягчить сердцевину.
– Привет! – сказал Хория Ваду. – А ты не бей слишком сильно – раздрызгается, тогда выбросить придется Дыню надо всю ножом очистить и обсыпать сахаром. Тут она и размякнет. Дай-ка и мне дыньку.
– Это ты внизу, в долине, попроси, там народ пожалостливее будет, – в голосе парня звучала издевка. – Вот хоть и товарищ инженер скажет, – он кивнул на чернявого в тельняшке, – внизу люди только и делают, что милостыню подают. Прямо хватают тебя на улице за руку и волокут домой, за стол.
– Смотри, сколько у тебя дынь, а ты еще жмотничаешь Ну дай мне-то!
– Иди своей дорогой, нечего, небось ты их со мной не выращивал.
– Хочешь, анекдот расскажу? – предложил Хория Ваду.
– Вот пристал как банный лист! – улыбнулся парень. – Ну, рассказывай, только если анекдот глупый, так и знай – ничего не получишь.
– Нет, хороший. И вы послушайте, господин инженер. Значит, на вербовочный пункт приходит один деревенский парень – так, придурок. Ну, входит он в комнату, где медкомиссия, и полковник ему приказывает: «Раздеться!» А тот стоит – дурак дураком. «Зачем?» – говорит. «Раздевайся! – сердится полковник, – Мне не до шуток». «Ладно, разденусь, – говорит придурок, – да только и ты, твое благородие, разденься».
– Ты откуда? – спросил инженер.
– Из тюрьмы, – признался без обиняков Хория Ваду. – Девять лет отсидел.
– Вот оно что! – удивился красивый парень и ногой подтолкнул назад в кучу дыню, на которой была ногтем нарисована женская фигура с длинными до пят волосами. – Это жена дежурного по станции, – объяснил он смущенно. – Она позвала меня как-то, просила зарезать курицу, а я как увидел ее, так и обомлел: сидит на пороге, а волосы всю спину закрывают, до самого пола… Ну, скажи, – переменил он тему, – как оно там?
– Да, – подхватил инженер, – как там?
– В тюрьме-то? Да так, ничего. Коли ты петь умеешь, коли лежит у тебя сердце к пению, время проходит быстро. Только сперва здорово без баб тяжко. Потом привыкаешь. Это откуда дыни?
– Из Арада. Кожа тонкая, зерен мало… За что тебя посадили-то? Грабил на большой дороге?
– Пальнул из ружья по троим типам. До весны сорок седьмого я рос в воинской части. А в сорок седьмом один майор, Попеску-Гулинка, взял меня из армии и отвез в свое имение, в Гулинку, потому у него и фамилия такая. Был у него там и охотничий домик. Определил он меня сторожем и дал в пользование два погона луговой земли и пруд.
– И большой… пруд? – поинтересовался инженер.
– Большой, с медвежий хвост, – рассмеялся Хория Ваду, – Ну, все-таки хоть что-то, – продолжал он серьезно. – Четыре ямы, одна рядом с другой, ни то ни се, ни вода, ни земля.
– И эти трое пришли национализировать имение, а ты их прикончил, – сказал красивый парень.
– Нет, упаси боже! – запротестовал Хория Ваду. – Убийства у меня на душе нету. Я стрелял осторожно. Двое сразу бросились на землю. И целы остались. Третьему задело руку, палец оторвало. Мама родная, ну и выл же он!
– Не верю я, что он выл! – возразил парень. – Врешь! Я знаю одного человека – он топором себе палец отрубил и даже не почувствовал. Только когда увидел, как палец между дровами катится, понял, что покалечился. И то не выл. И потом даже, когда пришел доктор делать ему перевязку и рука болела так, что сил не было терпеть, и тогда не выл! Так что заливаешь ты. Сука помещичья!
Хория Ваду вытащил себе из кучи дыню и завернул ее в пиджак. Парень сказал:
– Бери и проваливай ко всем чертям!
– Да, мне уже пора двигаться, – пробормотал Ваду, – хочу поглядеть на свою землю. За неделю сколочу себе домишко и отосплюсь на славу. До самой осени буду валяться на боку. Хочу пожить в свое удовольствие, теперь я вольная птица! Меня когда отпускали, выдали бумажку, что я могу работать, где пожелаю. Иди, говорят, на стройку, получишь квалификацию. Если б я захотел, мог бы куда угодно пойти работать, но у меня своя земля есть.
– Коли надумаешь идти на стройку, здесь поблизости есть одна, в Малу, – сказал парень. – Малу– третья остановка отсюда. Инженеры с этой стройки ездят по деревням, набирают рабочих. Хорошее питание, жилплощади, зарплата…
Хория Ваду обогнул здание станции и вышел на мокро – от росы шоссе. Небо расчистилось и сверкало, как павлиний хвост, но горы все еще едва вырисовывались на горизонте Над самой высокой вершиной застыли, словно на страже, кольца тумана, пронзенные оранжевыми косыми лучами солнца. Он зажег сигарету и стал подниматься на косогор, крепко держа рукава и полы пиджака – в нем лежала дыня. Утренний ветер надувал рубаху.
– Я на свободе, – повторил Ваду, вдыхая всей грудью свежий воздух. Вдруг он вздрогнул: в винограднике на склоне холма подала голос перепелка – видно, сзывала затерявшихся среди пней птенцов. Он замедлил шаг и стал насвистывать, подражая птенцам. Перепелка затихла, и Ваду радостно рассмеялся. Если бы не этот идиотский экзамен, подумал он, был бы я сейчас в духовом оркестре самое маленькое барабанщиком.
За красной заправочной станцией, распространявшей сладковатый запах бензина и масла, он остановился, вытащил дыню и разрезал ее. Разрезал он дыню пополам, а не как обычно – на дольки. Потом, усевшись на корточки под акацией, на которой заливался дрозд, принялся за еду. Он соскабливал зубами корку дыни и с жадностью пил ее прохладный ароматный сок.
Но, едва протянув руку за второй половиной, Ваду увидел слева, на траве, тень какого-то человека и поднял глаза. Перед ним стоял тот чернявый, в тельняшке.
– Чего ты за мной увязался? – рассердился Ваду.
– Да ладно, не ершись, – ответил чернявый. – Хочешь подработать?
– Подработать? Конечно, хочу.
– Тогда пошли со мной. Я инженер в госхозе Вултурь. у нас на станции вагон со строительным лесом. Надо разгрузить его за два часа, иначе будем платить штраф за простой.
– Ну, на разгрузку я не пойду. Нет у меня времени.
– А ты думал, я в карты тебя приглашаю играть? – огрызнулся инженер.
– Сразу видно, что ты не в горах живешь, – снисходительно заметил Ваду. – В горах не покричишь, может обвал начаться или, если дело случится зимой, снежная лавина сползет, и тогда тебе крышка.
Он встал, накинул на плечи пиджак и направился вверх по шоссе; его бритая голова, на которой уже начали отрастать волосы, казалась голубоватой. Он шел согнувшись, как полураскрытый перочинный нож, и из кармана его брюк выглядывала какая-то странная кошка. И весь он казался мешком, набитым тощими кошками.
Прошло несколько часов. Он успел пройти километров восемь, когда его нагнал грузовик, груженный досками. Ваду поднял руку, шофер сбавил скорость и сделал знак, что можно сесть. Увидев в кабине знакомое лицо инженера в тельняшке, Хория Ваду на секунду заколебался. Но инженер ничего не сказал, и Ваду, ухватившись за борт, взобрался наверх и расположился на досках между двумя мешками цемента. Доски одуряюще пахли смолой – видно, только что с лесопилки. Он оторвал щепку и выстругал из нее мачту для лодочки. Вместо паруса воткну кусок еловой ветки, подумал он и стал насвистывать какую-то мелодию. Он ехал домой, к своей земле, и от радости вдруг почувствовал себя мальчишкой. Мечтал, например, о том, как на закате вползет на четвереньках в малинник, что на краю его участка, и зарычит медведем. Буду жить спокойно на своем клочке земли, больше мне ничего не надо.
К вечеру на повороте дороги, там, где высокие откосы были вровень с бортами грузовика, он узнал бывшие охотничьи угодья Попеску-Гулинки, попрощался с шофером и спрыгнул на землю. Прихрамывая – он подвернул себе ногу, – Хория Ваду пересек заболоченную поляну, углубился в буковый лес и через полчаса вышел в долину.
Усадьбы Попеску-Гулинки больше не существовало. На всю долину раскинулось водохранилище гидростанции. Ваду застонал от пронзившей его боли и беспомощно огляделся; озеро казалось безбрежным, таинственным и неспокойным. Вдалеке виднелась плотина, над ней громоздились облака. В воздухе таяли клубы тумана – будто их выталкивали глубины вод. Он долго следил за ними, лежа ничком и опершись подбородком на руки. Теперь, когда исчезла эта тихая пристань, он вдруг почувствовал, как его охватывает усталость, вязкая, глубокая, бесконечная. В тюрьме Ваду каждый день видел свой клочок земли во всех мельчайших деталях; а теперь он больше не мог представить его себе. В памяти остался лишь сладковатый запах малинника, но Ваду ясно понимал, что и это со временем уйдет. Тогда всему конец, подумал он.
Туман разорвался на пасмы, их узор напоминал оленьи рога, что висели когда-то на балконе охотничьего домика. Ветер раскачивал провода. Где-то в лесу кукушка выкрикивала свое имя, потом в листве поднялся птичий переполох. Трясогузка, узнавал он, дубонос, дятел…
Он стал прикидывать, проводя пальцем воображаемые линии. Охотничий домик был справа, сейчас здесь заросли папоротника. Там, где берег спускается террасами, стояли тогда три виллы, а рядом дозорная башня; ниже протекал ручей, сюда косули приходили на водопой; и тут же, шагах в двадцати, был его пруд. Вода и сейчас не могла насытить эту известковую землю. Волна металась, то накатывая, то отступая, как море при луне.
– Проклятое место, – пробормотал он, – ни вода, ни земля.
Ему вдруг страстно захотелось хоть ногой ступить на свою землю, но какая-то непонятная робость, да еще гвалт, поднятый птицами, удерживали его. Птенец упал из гнезда, а они не могут его поднять, вот и кричат.
– Эй вы, дурехи, замолчите, как бы вас не услышала ласка!
Неожиданно он заметил затерявшуюся под бурьяном тропинку. Она шла всего несколько метров – от подножья скалы до водохранилища. Это моя тропинка, подумал Вада, я ходил по ней через свой участок, чтобы подбросить косулям соли. Он встал и двинулся по тропинке. Солнце пекло затылок. Там заросли малины, говорил он себе, продолжая идти вперед по затопленной тропинке в надежде отыскать их. Кошка из пакли, которую он оставил на скале, глядела на него своими стеклянными глазами-осколками. Лодочка с мачтой величиной не больше спички упала в воду и, вер тясь, следовала за ним по волнам. Он решительно продвигался вперед; пиджак его обвис и стал таким тяжелым, словно подкладка была сделана из губки, с жадностью впитывавшей влагу. Поднялся ветер, вода начала волноваться; в этом монотонном движении было что-то завораживающее. Он закрыл глаза, надеясь задержать, сохранить еще на секунду едва ощутимый запах малинника.
И тут лицо его обдал фонтан липких капель; он открыл глаза: кто-то стоял на опушке и кидал в воду комья земли.
– Эй! – крикнул Хория Ваду, вздрогнув от враждебности своего собственного голоса. – Тебе что, мать твою так, больше делать нечего?
Из-за скалы показался инженер в тельняшке.
– Ну чего ты ко мне привязался? – вяло спросил Хория Ваду.
– Пошли, нас ждет там грузовик, – сказал инженер и показал на дорогу за лесом.
Хория Ваду застыл: на правой руке инженера не было одного пальца.
Он молча вернулся на берег, подавленный усталостью и запоздалым страхом, тяжелым, как земля, ибо только сейчас он до конца понял, в какой глубокой ночи блуждал все это время.
1962
В дождь на заре
Шел дождь. Свернувшись калачиком под одеялом, мальчик прислушивался к стуку дождевых капель о железную кровлю. За окном огненными ветками метались молнии. «Падают яблоки», – думал мальчик. У него была яблоня в конце сада, возле Дуная. Яблоня была молодая, сплошь увешанная яблоками, и ему стало жалко, что завтра он увидит их на земле.
– Бабушка, – позвал он, приподнимаясь на локтях.
Никто не ответил, и ему сделалось страшно. Но он все– таки вылез из постели и подошел к печке. Бабушка спала, шерстяная шапочка, которая покрывала ее белые волосы, съехала набок, и мальчику стало смешно и весело. «Бабушка тут, – сказал он себе, – и мне нечего бояться. Да и Белолобый у двери, спит на пороге, чтоб не вымокнуть».
От шума дождя и ветра, далекого, чужого, его охватило смятение, казалось, где-то рушатся неведомые и невидимые миры. И чудилось, что кто-то жалуется, плачет. Пугал и рев в водосточной трубе справа от окна. «Идет дождь, – успокаивал он сам себя, – растет трава, распускается щавель, и у забора над Дунаем завтра вылезут грибы. Да еще какие: маленькие, да удаленькие», – повторил он бабушкины слова. И раз уж сон от него ушел, он решил дождаться новой молнии, чтобы посмотреть, на сколько частей распадается огненная стрела. Но дождь припустил пуще прежнего, а гроза ушла, молнии сверкали где-то за горизонтом, и окно оставалось темным.
Он подождал еще, а когда понял, что ждет понапрасну, протянул руку к шестку, чиркнул спичкой и стал осматриваться. В углу комнаты увидел гору яблок. Видно, бабушка и мать собрали их вечером, когда он уже спал и началась гроза. Яблоки были красные с желтыми бочками и сверкали ярче молний. «Они светятся, – сказал он себе, – потому что их прокалило солнце и продубил дунайский ветер». И решил полежать на них голышом. Сбросив рубашку, взобрался на яблочную гору, ступая осторожно, чтобы не раздавить яблоки, и улегся, раскинув руки. «Я мог бы их съесть, если б только захотел, – сказал он себе, – но лучше взять у них их свет и цвет, пусть мои ладони сверкают – как молнии». Эта мысль пришлась ему по душе, и он стал развивать ее дальше… Вот его ладони горят как жар. Он переплывает в лодке Дунай, влезает на высокий тополь и машет оттуда своими огненными руками, чтобы вспугнуть зайцев, которые засели в зарослях; их оттуда не выгнать, даже если взять с собой Белолобого. Но вот они стремглав несутся к Дунаю, а оттуда – назад, к лесу. Тут он опять взмахивает рукой, и они, прижав уши к спине, мчатся так, что только пятки сверкают. Но ему все-таки жалко зайцев, и потому он прячет руки в карманы. А вот уж эти разбойницы лисицы пусть надеются на господа бога! И выдры тоже: ведь всю рыбу съели – никак не насытятся.
Целый час он лежал на яблоках. Начало светать. И тогда, опасаясь, как бы его не застигла врасплох мать, которая всегда вставала рано, он оделся и, подойдя к бабушке, провел ладонями по ее лицу.
– Что такое? – вскочила в испуге бабушка, протерла кулаками глаза, и он понял, что обжег ей лицо.
– Тебе жжет, бабушка?
– Нет. Я услыхала запах яблок и проснулась. Чего ты смеешься?
– А у меня две молнии… – И мальчик поведал ей обо всем.
– У яблок нет той силы, о которой ты думаешь, – проговорила бабушка. – Больше не ложись на них, слышишь?
Мальчик молча уселся на кровать. На его круглое лицо с мелкими чертами словно легла печаль дождя.
– Не нужна мне больше яблоня. Возьми ее себе.
Бабушка посмотрела на него своими добрыми глазами.
– Не сердись. Будут тебе молнии.
– Но мне они нужны сегодня! – сказал мальчик. – Папа привез две телеги арбузов. Когда дождь перестанет, я прислонюсь спиной к сараю, а ты завалишь меня арбузами. Арбузы во сто крат больше яблок, и в них есть сила.
1971
Перед сражением
– Вот и осень пришла, – вздохнул дед, – зайцы небось жирок нагуляли, возьму-ка я ружьецо да переберусь на виноградники.
Мальчуган, шмыгая вздернутым носиком, ест арбуз.
– Будто конь, фыркаешь, – посмеивается над ним дед.
Мальчуган ест арбуз и глядит на тополь, что растет возле самой кухни. И взаправду осень – листья на тополе пожелтели, думает малыш, вот доем арбуз, наберу листьев, штук сто, а то и двести, буду весь в листьях, как дракон в золотой чешуе, схвачу кота за шкирку и не отпущу, пока не скажет, куда моих голубей дел. У меня целых четыре голубя было, они меня на своих крыльях на черешню поднимали, и на яблоню бы теперь подняли, где яблоки висят большие-пребольшие, голова у барашка и то меньше будет. Эх, жалко – нету моих голубей! А барашки, глупые, выросли и стали баранами. Не хотят больше играть со мной. Подойдешь к ним, а они бодаются, опустят голову да как наподдадут!
– Деда! – говорит громко мальчик. – Застрели барана! Всади ему пулю промеж рогов, чтобы кубарем покатился прямо в овраг. А я, как увижу, что он там валяется, кликну моих орлов, и они его заберут. У всех орлы голубые, а у меня белые… Деда, ты, когда надумаешь везти зерно на мельницу, скажи мне, я моих орлов позову. «Помогите, орлы мои верные, отнесите этот мешок на мельницу, а то дедушка старенький, а все лошади на жнивье заняты!» Только ты, деда, сделай мне флаг. Флаг-то у меня есть, я только не знаю, как его к палке привязывать, попробовал, и не получается…
– Зачем тебе флаг?
– После обеда большо-о-й бой будет. Окопы мы еще вчера вырыли. Дай мне еще арбузика, мне в плену года два, а то и целых три есть не дадут, надо сытым быть. Командир приказал – ешь, говорит, от пуза. Ох, тяжела доля солдатская!
– Что ж ты в командиры не вышел? – говорит дед. – Все солдат да солдат, тебе давно чин полагается, повышение по службе.
– Не-ет, я еще маленький, бегаю плохо, меня враг запросто поймать может. В пленниках лучше быть, чем в убитых, глаза закрывать не надо и шевелиться можно. Я уже раз пять был убитым, да меня оса ужалила, я как заору, вот меня из убитых в пленные и перевели. Убитым орать не полагается. Я тут приглядел ежевичный куст, попрошу, чтобы меня туда в плен посадили, ежевики поем. Прямо с куста буду есть, ягодки сладкие, прохладные. Хочешь, деда, я и тебя с собой возьму? Только со взаправдашней винтовкой нельзя. А ты давно стрелять научился?
– Давно.
– Знаю, что давно, а когда?
– Когда еще пацаном был. Давненько, постарше тебя, конечно. Ходили мы охотиться на уток, идешь, идешь по болоту…
– Нельзя на уток охотиться, у них перья красивые, вот бы мне такое перо на шлем! А барана ты обязательно убей, он вредный. Барана и кота тоже. Хоть в куски изруби, заступаться не стану, кота тоже проучить надо. А птицы – они все хорошие, но лучше всех соловьи – поют красиво. Наберут в рот воды, она у них в горле булькает, переливается – красиво выходит, заслушаешься. А гнезда они на деревьях вьют и в камышах, говорят. Правда или нет, не знаю. А птицы, что всё по земле ходят, – одно наказанье. Будь у меня крылья, я бы и минутки на земле не остался, а они всё на земле да на земле. Обидно же, правда? Крылья есть – и летай себе по небу, только на облака и садись. Я бы тоже садился на облака, и когда тебе не спится, деда, я бы поворошил облако, чтоб дождик пошел, пошуршал бы он по крыше, тебя бы и сморил сон. Деда, а раз осень пришла, то, может, и снег выпадет?
– По снегу соскучился? Повремени, поскучай маленько.
– Да я чего… Охота, конечно, на санках покататься… Только, знаешь, я возле речки в камышах пестренькие яички видал, может, из них еще птенцы выведутся? До чего славные на речке птицы живут, а, деда? Люблю я их. Когда я большой вырасту, вырою канавку от речки до самого нашего дома. Построю мостик и буду вечером гулять, а вода будет синяя, зеленая, и все птицы будут ко мне прилетать в гости. И разговаривать со мной. «Как живешь, лебедушка? – А ты как, уточка? – А у тебя что новенького, орел?» Орлы у меня будут необыкновенные, я их плавать научу. А то что за жизнь – летать умеешь, а плавать нет. И все мои птицы будут рассказывать сказки. А все сказки будут про любовь. Как ты думаешь, деда, когда я вырасту, полюбит меня какая-нибудь девушка? А то у меня щеки толстые и нос пуговкой! А если меня девушка полюбит, я по ней тоже вздыхать буду. Целый день буду вздыхать! И до чего же я грустный буду, просто ужас! Ладно, деда, бери ружье, иди стрелять своего зайца. Ты, деда, наверно, самый лучший стрелок на свете!
– Может, и ты со мной?
– Не-е, я не могу. Мне перед боем поспать надо. Большой бой будет… Целое сражение. Мне отдохнуть надо, сил набраться.
1971