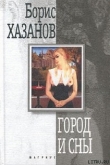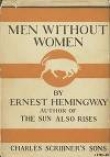Текст книги "Властелин дождя"
Автор книги: Фзнуш Нягу
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 19 страниц)
Заброшенная сторожка
В 1956 году после окончания университета я был назначен учителем румынского языка в село, затерявшееся посреди Бэрэгана. По вполне понятным причинам в этом рассказе я не буду упоминать его настоящего названия; назову его Тихое Озеро. Итак, однажды вечером в конце августа я прибыл к месту моего назначения.
Узнав о моем приезде, преподавательский состав Тихого Озера отправил одного из учителей встречать меня на вокзале, и не успел я ступить на перрон, освещенный подслеповатым фонарем, вроде тех, что мастерят детишки из полых арбузов, как услышал крик:
– Учитель Чернат! Кто здесь учитель Чернат? Пожалуйте сюда!
– Я! – вырвалось у меня, и я двинулся к колодцу, от которого доносился голос.
Встречавший меня приехал на двуколке и теперь пытался дотянуться до поводьев, упавших под ноги лошади. Над колодцем, щелкая, точно клюв аиста, вращалась деревянная вертушка.
– Я Чернат, – повторил я, подходя совсем вплотную.
– Очень приятно, Санду Букур меня зовут. Извините, не помог вам с багажом: коняга уж больно норовистая, стоит отойти от нее, она тут же – раз! – на землю. У нее стерта холка, эти кретины так уделали хомут, что шов ей натер холку, вот она чуть что – и валится. Ну, кладите сундук сзади и садитесь. А пальто и плащ можно держать на коленях.
Это был высокий, худой молодой человек с тонкой полоской усов под острым носом. Говорил он со мной так, словно бы я и сам прекрасно все знал – знал, например, что сбрую лошади «уделали» настоящие кретины. Я кивал, поддакивал и тем временем с любопытством его разглядывал.
На нем была желтая футболка с красным воротом и манжетами и такие широкие, присборенные брюки, что казалось, будто на каждой ноге у него по юбке.
– Ну вот и вожжи, – сказал он немного погодя. – Посмотрим теперь, уважаемый Черкез, на что ты способен! – Он вывел лошадь на дорогу и прыгнул на сиденье по левую руку от меня.
Я поворотился к нему и сказал, что начальник учебного отдела просит учителей Тихого Озера снять архив с чердака школы.
– Говорит, чтобы прямо сегодня, – настаивал я, – а то завтра может нагрянуть инспекция из районной пожарной охраны.
– Да? – рассмеялся Букур. – Он просто круглый болван, это я вам точно говорю!
Он извлек кнут с кожаным кнутовищем и хлестнул лошадь.
– Но, но, Черкез, рысью, рысью! Да нет, я ничего против него не имею, он хороший парень, но иногда превращается в круглого болвана. У нас на чердаке одни совы. Чего вы смеетесь?
Над начальником, – ответил я. – Он сказал мне, что я хороший парень. К чему бы это? Как-то странно. Когда стали прощаться, похлопал меня по плечу и говорит: «А знаешь, ты мне нравишься. Потому я и стал звать тебя на «ты». И разрешаю тебе, когда мы тет-а-тет, звать меня по имени – я не обижусь. Конечно, если нет посторонних».
– Банный лист! – подхватил Букур. И переменившимся, злым голосом добавил: – До того, бывает, разберет его к кому-нибудь любовь, стиснет в объятиях – не знаешь, как отделаться от его любви-то.
Я с удивлением заметил, что разговор рассердил его, и переменил тему.
– Расскажите мне про ваше село. Какое оно, Тихое Озеро? Название красивое. Мне нравится. Я слышал, оно электрифицировано и будто скоро войдет в строй радиостанция.
– Оно как овчарня без собак, – буркнул учитель и тут Же, наклонившись вперед, крикнул: – А ну, давай, пошел, Черкез, заснул ты, что ли?!
Я оставил его в покое и перевел взгляд на жнивье по обеим сторонам дороги. У виноградника под белыми акациями в ночной мгле какой-то человек пытался поймать коня. Конь, испуганный неведомо чем, не давался, и человек подзывал его посвистом, подставлял ему перевернутую вверх донышком шляпу, делая вид, будто она полна зерна.
Потом жнивье скрылось из виду, и дорога побежала, стиснутая, как стенами, двумя рядами акаций. Когда мы вновь вырвались на простор, я увидел, что село рядом. Впереди, почти белая от лунного света, высилась церковная колокольня. Вскоре мы уже ехали по освещенной фонарями большой улице, обсаженной тополями. Нас с гиканьем встречали парни, высыпавшие к заборам – хороводиться с девчатами.
– Ну погодите, вы у меня дождетесь! – пригрозил Букур. – Нет на вас угомона! – И он сердито хлестнул лошадь.
Когда подъехали к школе, Букур передал двуколку человеку, который, покуривая, ждал у мостков, и мы вошли в дом, где жили учителя. Там в ожидании нашего приезда собрались человек семь-восемь.
– А вот и наш новый апостол, – сказал Букур, подталкивая меня сзади.
Растерявшись, я остановился посреди комнаты, не выпуская из рук багажа.
– Теперь, девушки, – обратился он к трем молодым девицам, что сидели на кровати и у стены, увешанной картинами– очевидно, произведения учеников старших классов, – теперь, девушки, надеюсь, вы успокоились. Как видите, он не хромой, не кривой и не горбатый. Имейте в виду, – повернулся ко мне Букур, – с самого обеда, с тех пор как нам позвонили, что вы едете, и вот до этой самой минуты девушки наши сидели как на угольях. «Как ты думаешь, какой он? Может, даст бог, и к нам приедет хороший парень!» На «ты» они вас сразу не назовут, как мой братец – ведь этот умник начальник мне братом доводится, – но что будет твориться с завтрашнего дня, за это я не отвечаю!
– Простите меня, пожалуйста, – пробормотал я краснея, – я не знал…
– Да бросьте, – произнес он великодушно. – Пойдите умойтесь, а потом пообедаем.
За обедом меня посадили во главе стола, рядом с директоршей.
– Она у нас одинокая, – разъяснил Букур. – А вы новенький, кто знает, может, и придетесь ей по сердцу.
Я чувствовал себя очень неуютно – так бывает, когда попадаешь в чужую компанию, – и не решался глядеть на трех девушек: директоршу, секретаршу и учительницу, а с мужчинами, которые развалились на стульях вокруг красиво накрытого длинного стола, был предельно обходителен и поддакивал им во всем.
А теперь расскажу о присутствующих подробнее: учитель математики – плешивый старикашка в темных, как у слепого, очках на крючковатом носу (в молодости был он бродячим актером, играл роль коммивояжера в какой-то заурядной пьесе, пристрастился к театральной условности и с тех пор всегда одевался одинаково: черная пара, белая рубашка с целлулоидным воротничком, котелок, солнечные очки, а в руках палка с серебряным набалдашником); учитель средних лет, то и дело поворачивавшийся к директорше с извинениями, что не смог привести жену, так как было не с кем оставить ребенка; еще один учитель – молодой, низенький, коренастый Дан Тэмэрашу, хозяин комнаты, – обнимал за талию секретаршу, постриженную под мальчика, у секретарши были большие зеленые глаза, таких глаз я отродясь не видел. Звали ее Петрина. И наконец, студент политехнического института, приехавший на каникулы. Представляя, Букур назвал его «женишком», потому что в течение трех лет на каждые каникулы он объявлял друзьям, что помолвлен с Нуцей, учительницей физкультуры, здоровенной девицей с вытравленными перекисью волосами, шепелявой и широкогрудой, прозванной коллегами, как я узнал позже, Тень Святой. Нуца жила на квартире у директорши Лилики Доброджану, девушки двадцати пяти лет, высокой, худощавой, с маленьким круглым лицом и широко расставленными, как у японки, глазами. Существовало два претендента на руку директорши, но ей ни один не нравился, и, чтобы их не огорчать, она говорила, что решила никогда не выходить замуж.
«Ты что ж это, милая барышня, решила остаться монашкой до конца своих дней?» – искренне негодовали сваты.
«Может, и так», – смеялась Лилика.
И уязвленные сваты прозвали ее Святой. «Слышь, кума, наша-то барышня говорит, мол, не нужен мне муж, уйду я в скит Рэдешешть, чтоб писали с меня иконы». Так к ней и прилипло – Святая. Нуцу, поскольку они были неразлучными подругами, прозвали Тень Святой.
Первую рюмку выпили в честь моего приезда. Выпив глоток, учитель математики отвесил глубокий поклон всему собранию и сказал, что удаляется, потому что у него болит Живот, он на диете и не хочет портить нам удовольствие. Но Букур вскочил, схватил его за руку, умоляя не уходить, не исполнив знаменитый монолог Гамлета. Он добавил, что сразу поведал мне о таланте, которым славен их край, и что я буду счастлив познакомиться с этим талантом.
– В следующий раз, друг мой, – очень серьезно, с поклоном отозвался старец. – Мне плохо, я иду принимать лекарство. В другой же раз – с удовольствием.
– Жаль! – вздохнул искренне опечаленный Букур. – Сейчас как раз было бы ко времени. Ей-богу!
Я устал с дороги, ел мало, но пил много и поэтому быстро опьянел. Еще в поезде Бухарест – Фэура (центр района, куда входило Тихое Озеро) я все время просидел в вагоне-ресторане в компании симпатичной медсестры, которая направлялась в Брэилу, чтобы сесть там на пароход.
Мне хотелось утопить в вине свою обиду. Очень уж я был обижен на комиссию по распределению. Окончить филологический факультет и попасть в какое-то село, затерявшееся в степи? Ну нет! Много недель домогался я места в редакции одного литературного журнала, будучи уверен, что только там, и нигде больше, смогу проявить себя как человек и как художник (я собирался стать со временем знаменитым писателем). Но все же я принужден был уехать. В записной книжке, лежавшей на дне моего сундучка, я записал на дорогу следующие горькие слова:
«Судьба моя выткана нитью из клубка несчастий.
Пропади все пропадом! Еду в деревню, неведомо куда, и это первый большой шаг на пути моих неудач».
Лилика Доброджану поставила пластинку. Она застыла, вслушиваясь в мелодию, и я разглядывал украдкой ее округлый подбородок с ямочкой, волосы, конским хвостом собранные на затылке, черные влажные глаза – их тяжелый, сердитый взгляд скользнул по мне, когда я залпом выпил рюмку. Было у меня такое чувство, будто я видел когда-то эту девушку, г где и когда – не мог вспомнить, но только я был уверен, что видел.
Букур, Тэмэрашу и студент-жених болтали у окна, наслаждаясь прохладой ночного воздуха, напоенного благоуханьем мяты и сена.
К полуночи я уже хорошо подвыпил и крикнул Букуру, чтоб послал за вином, потому что мне обрыдла эта мыльная пена (я имел в виду пиво). Денег, чтобы заплатить, у меня пока хватало: мне выдали подъемные как начинающему учителю в размере целой зарплаты, а я потратил из них всего сотню леев.
Но Лилика воспротивилась.
– Больше нельзя, – заявила она. – Вы все уже много выпили. Пускай лучше Букур принесет арбузы. Санду, – попросила она, – там, за дверью, два арбуза, притащи их, на десерт надо холодненького, и пора расходиться.
– Но может, товарищ Чернат хочет еще повеселиться, – слабо сопротивлялся Букур. – Эй, женишок, – крикнул он студенту, – подсядь-ка к Нуце, а то она заснула. А ну-ка, Тэмэрашу, отправляйся, расколдуй от чар свою секретаршу. Скажи, что на улице звездопад, что она прекрасна, – наговори с три короба, хоть напугай водяным, только бы не уходила, охота выпить еще по стопочке!
– Так выпьем, – снова взялся я за свое. – Только чего– нибудь крепкого. Принесите цуйки и смените пластинку! Ну ее к черту! – И я принялся философствовать: – Когда летишь под откос, надо пить. Алкоголь облегчает падение. Давайте же пить и петь. Не глядите на меня так гневно, дорогая барышня, – крикнул я Лилике сердито, потому что никак не мог припомнить, где ее видел. Потом, немного придя в себя, я воскликнул со смехом: – А где же почтеннейший служитель шекспировской музы? Отправился за черепом Йорика? Уникальный талант этого края страдает животом и надеется вылечиться травами! Надо было ему остаться с нами и порадоваться, что прибыл талант ему под стать.
Я снова встретился с полным презрения взглядом Лилики, и это снова меня взбесило.
– Дорогая барышня, прошу вас, пожалуйста, отведите от меня взгляд, потому что… не знаю, ей-богу… что меня… что меня…
Я клокотал от бешенства.
– Что же вы не договариваете, дорогой товарищ? – рассмеялся учитель, оставивший дома жену. – Уж коли начали, так и заканчивайте… «Что вы меня любите!» – вот что вы хотели сказать!
Бедняга хотел еще как-то поправить дело.
– Молодчина, старик! – подхватил Букур. – Они любят друг друга! Да вы только на них посмотрите – оба покраснели! Конечно, любят! В точности как в песне.
Он втянул шею и запел:
Любовь моя к тебе зажглась,
Как зажигается сигара…
Лилика сняла иглу с пластинки, закрыла патефон и сказала девушкам:
– Пошли спать.
Потом обратилась к остальным:
– Спокойной ночи! Завтра, товарищ Чернат, мы поможем вам раздобыть капустный рассол. Говорят, он снимает тошноту и голова становится яснее.
Она закутала шею и плечи длинной красной шалью (вышитые концы шали, украшенные бахромой, касались ее колен) и скрылась за дверями следом за Нуцей и секретаршей; тут же исчезли и Тэмэрашу, «женишок» и учитель, которого ждала жена. Ночной ветер перебирал листья винограда, увившего стену до самой стрехи.
Оставшись вдвоем, мы с Букуром минуту молча смотрели друг на друга, пожимая плечами и недоуменно склонив головы набок. Потом Букур сказал:
– Пошли на улицу, здесь жарко, задохнуться можно.
– Пошли, – подхватил я, – что нам дальше делать, если нас покинули «сеятели». Эта директорша заставит плодоносить и каменистую дорогу. «Трудолюбивые сеятели», че-хе-хе!
Во дворе школы остро пахло листом грецкого ореха. Мы прошли через сад и оказались у пролома ограды, отделявшей сад от поля. Букур шагал впереди, а я послушно следовал за ним – мне было все равно, куда идти. Миновали деревянный мост через речку и двинулись дальше, по пустынному полю. Луна раскачивалась на крючке облаков. Дыханье ветерка несло запах полыни. После покоса во второй раз расцвело поле и расстилалось бескрайнее, насколько хватал глаз. Поле спало и видело сны, и душа его возносилась благовонием трав. А на его краю, там, где ночная мгла сбивалась в темную пелену, глазели на одинаковом расстоянии желтые, как пыльца, пятна.
– Что там такое? – спросил я Букура, подстраиваясь к его шагу.
– Чилибия, станция Чилибия.
– Ах, вот оно что! – Я замедлил шаг, как будто в кулаке у меня был зажат железнодорожный билет Галац – Бухарест через Чилибию. – Дорога надежды… Великое призвание…
– Слушай! – повернулся ко мне Букур. – Уж не пишешь ли ты стихи?
– Прозу, – ответствовал я. – Опубликовал уже восемь очерков.
– А! Так вот почему ты нес околесицу насчет того, что летишь под откос! Значит, следует понимать, что Тихое Озеро станет могилой твоего таланта. Оно может быть. Уж больно ты горячо на этом настаиваешь. Но скажи, ты умеешь ездить верхом?
– Умею.
Коли так, постой здесь, подожди меня немного.
Мы были теперь довольно далеко от села. Где-то рядом на жнивье паслись кони. Букур направился прямиком к буланому коню, который пофыркивал, уткнувшись носом в траву. Конь испуганно отпрянул, но Букур ринулся вперед и с удивительной ловкостью вскочил на него. Этого коня он привел мне, помог оседлать и сказал:
– Ты его пришпорь, а я за тобой следом!
Я сжал ногами конское брюхо, и конь подо мною рванулся в галоп. Позабыв все на свете, я скакал вперед как безумец. Ночной ветер, бивший в лицо, привел меня в чувство. Обогнув поле, я повернул к селу и остановился у межевого камня, чтобы погладить влажную бархатистую морду коня, на которой повисла ниточка пены. Прислушавшись, я различил конский топот. Вскоре Букур догнал меня, соскочил на землю, и мы снова отпустили коней на волю, сами же побрели к селу.
– А ты ничего себе гнал, – сказал Букур с восхищением. – Мой почему-то все время спотыкался. Ну как, стало легче? Ты сегодня вечером здорово напился. А уж наговорил!.. Целый ворох глупостей.
Выставил себя на посмешище! – пронеслось у меня в голове. Я готов был сквозь землю провалиться. С какими глазами покажусь я завтра девушкам? Мне казалось, что никогда в жизни не вел я себя так безобразно, как в ту ночь. Зачем принесло меня сюда? Вот вам, пожалуйста! Из-за того-то все и случилось, что я приехал в это Тихое Болото!
Я не совсем еще пришел в себя, но мысли все же прояснились и не давали мне покоя. Пока я шел, меня снедало искушение бежать отсюда подальше, исчезнуть. Это скука меня преследует. Скука… И я остановился, разозлившись на себя самого: кого я пытался обмануть? Не скука лишила меня покоя, а стыд, страх перед тем, что скажут люди завтра. «Он суетен и глуп» – вот что скажут люди, ибо таким я предстал перед ними.
И снова проснулось во мне, сильнее, чем прежде, желание жить в Бухаресте, работать в литературном журнале. Бухарест, если прожить в нем хоть год, будет звать тебя, где бы ты ни оказался. Да, то был зов столицы. Она покорила меня, она властвовала надо мной. И кроме нее, ничего не было. Даже поле, казалось мне, собралось в путь, оно шло в теплые страны.
Я повернулся к Букуру и схватил его за плечо.
– Скажи, в селе есть переговорный пункт?
– Конечно. На соседней улице. Только зачем тебе?
– Пойдем туда!
– Хорошо, – сказал Букур, – если хочешь…
Дежурная телефонистка встретила нас удивленно, потому что принимать заказ после полуночи ей приходилось редко. Вначале она решила, что Букур привел меня просто познакомиться, но, когда я сказал, что хочу поговорить с бухарестским другом, и назвал номер телефона, девушка бросила на меня холодный взгляд и заявила официальным тоном, что, пока дадут связь, может пройти два, а то и три часа.
– Ужасно! – воскликнул я.
– Ничем не могу помочь, товарищ, – ответила телефонистка. – Если хотите, напишите, что вам надо сказать, и я это передам.
– Ладно, пусть так.
Примостившись за столом, я написал:
«Дорогой Сорин, у вас в редакции, уж наверное, есть свободное место. Заклинаю тебя, раздобудь мне работу! Главный редактор еще в самом начале весны сказал мне, что в отделе прозы и репортажа нет мест. Поговори с ним, объясни ему, что я готов работать корректором или помощником технического редактора. Жду от тебя не увещевательного письма, но телеграммы с уведомлением, когда мне отсюда выехать. Здесь я не останусь. Не могу и не хочу. Я должен быть в Бухаресте, иначе не знаю, что может случиться. Всего несколько часов назад я приехал, и у меня уже разрывается голова при мысли, что мне предстоит здесь ночевать и завтра тоже быть здесь. Сорин, ты единственный мой друг, не забывай меня. Помоги мне! Одновременно с телеграммой отправь мне двести леев, потому что, пока ты пришлешь вызов, я, пожалуй, израсходую такую сумму и ее надо будет добавить к деньгам, которые мне дали в качестве подъемных как преподавателю…
Жду… жду… жду…
Спокойной ночи, дорогой мой.
Флорин Чернат»
Я передал телефонистке послание, оставил ей купюру в двадцать пять леев (столько, как я предполагал, будет стоить разговор) и ушел. Букур сопровождал меня до ворот учительского общежития.
Когда мы переходили мостки, издалека донесся грохот поезда.
– Это скорый, – сказал Букур. – Уже светает, пора по домам.
Я отпустил его без звука. С содроганием прислушивался я, как удаляется шум поезда, – это поглощало все мое внимание. Шум не замолкал ни на минуту, поезд пролетал через поле, свистя, как ласточка, я заключил из этого, что скорый не останавливается в Тихом Озере, и у меня заныло сердце: почему я не сплю сейчас в этом поезде среди многочисленных пассажиров? О, думал я, пронестись бы мимо Тихого Озера, даже и не подозревая о его существовании!..
В комнате горел свет. Тэмэрашу уже вернулся и спал. Я погасил свет и лег.
Проснулся я поздно, в два часа дня, как раз к обеду; в комнате никого не было, на душе у меня скребли кошки, во рту была горечь, и чудовищно болела голова. Я вышел на балкон ополоснуть лицо водой. Утро уже давно растеряло все богатство красок. Небо очистилось от облаков к сияло, горело огненным жаром. Акации застыли. За школьным двором волнами в безграничную даль уходило поле. Где-то там, у подножия холма, виднелись колодцы, их коромысла тянулись ввысь, как шеи дроф, подстерегающих восход. А с выгона доносился до меня стук футбольного мяча.
Вернувшись в комнату, я заметил картонку, прикрепленную у зеркала для бритья. На ней прыгающими буквами было написано:
«Я в столовой интерната. Приходи туда. На столе тебя ждут телеграмма и письмо. Пирамидон и другие средства от головной боли – на тумбочке».
Я распечатал телеграмму и на секунду оторопел. Она была от Сорина. Ответ моего бухарестского друга гласил:
«дорогой флорин брось глупости гони обещанный репортаж я поставил его в план номера».
Черт бы его подрал, выругался я. Вот уж: с глаз долой – из сердца вон!
Потом я распечатал конверт.
«Товарищ Чернат,
Вы узнали меня, иначе не могло и быть, и я благодарна Вам, что Вы промолчали. Вы обяжете меня еще больше, если и впредь оставите при себе все, что знаете. Прошу об этом не ради себя, а ради спокойствия семьи, приютившей меня и давшей мне образование. Теперь отец мой – тот солдат, которого Вы встретили однажды ночью двенадцать лет назад во дворе Мэрэчине. Его жена знает, что я неродная, и любит меня, потому что у них нет детей. Может, если бы ей стала известна вся правда, она бы тяжко страдала. Надо ее пощадить.
Ваше поведение сегодня ночью меня опечалило. Вы наговорили кучу глупостей! Я-то их постаралась позабыть и надеюсь, что впредь Вы сумеете взять себя в руки. Попытайтесь же доказать моим коллегам, что Вы человек уравновешенный, что у Вас ясная голова и что Вы вовсе не тот капризный ребенок, за которого себя выдавали.
Лилика Доброджану»
Итак, меня не зря преследовала все время, пока мы сидели вместе за столом, мысль, что я знаю откуда-то эту девушку, мне это вовсе не померещилось.
В 1944 году я гостил у бабушки с дедушкой на берегу Бузэу, в селе, расположенном примерно в 80 километрах от Тихого Озера. Родители мои погибли во время бомбежки, меня усыновил дядя со стороны отца, чиновник уездной управы Мусчел, а на лето меня отправляли к деду с бабкой.
Вечером 24 августа, через шесть часов после того, как немецкие соединения, отступая, взорвали мост через Бузэу, звонарь села, где жили дедушка с бабушкой, взбираясь на колокольню звонить за упокой души парнишки-цыгана, убитого обломком моста, увидел в окно, когда поднялся на середину лестницы, румынский эскадрон, приближавшийся по дороге со стороны тополиной рощи. Звонарь поспешил вниз – сообщить Теофилу Мэрэчине, примарю и нашему соседу, чтобы тот выходил встречать кавалеристов.
Мэрэчине, согласно правилу, перетянул грудь наискосок трехцветной лентой и, сопровождаемый толпой детишек, побежал к дороге, чтобы предстать перед командиром. Мэрэчине был человек лет пятидесяти, высокий, краснолицый, правая ноздря у него была разорвана, теперь эта ноздря была заткнута пробкой. Вскоре на нашем берегу раздался его гнусавый голос:
– Честь имею, господин командующий, я примарь этого села. Положение у нас плохое, немцы взорвали мост. Овес для лошадей дадим вам с мельницы.
Дальше я не разобрал. А через четверть часа увидел, как он гонит назад по улице вместе с походной кухней, выкрикивая у каждых ворот:
– Бегите на хутора!
Командир приказал людям немедленно бежать на отдаленные хутора, поскольку немецкая колонна подходила от Брэилы, пытаясь прорваться к Рымнику-Сэрат. В это время наши кавалеристы заняли позицию в садах по берегу реки И у моста.
Добравшись до дома Мэрэчине, повара поставили телегу во дворе и сгрузили с нее котел. Жена Мэрэчине, их сын Григоре, низенький, сгорбленный, Дидина, жена Григоре, и Лилика, ее меньшая сестра, до тех пор не выходившие за ворота – только головы их показывались из-за изгороди, – принялись по знаку примаря галдеть и причитать. А откуда– то из глубины участка Мэрэчине, которому было приказано дать теленка на прокорм кавалеристов, подхватил:
– Нету, братцы, нет у меня никакого теленка, напрасно вы ко мне пришли. Лопни мои глаза, если я видел телячий хвост на своем дворе! Ступай к ним, Лилика, детка, – крикнул он Лилике, – ступай к ним, скажи ты им – душа у тебя детская, непорочная, – скажи им, есть ли у нас для этих господ теленок. Послушайте ее, братцы, она вам скажет, ведь дитя, она не станет обманывать. У меня только и есть что три овцы…
– Гони их сюда! – рявкнул один из поваров.
Счастливый тем, что легко отделался, Мэрэчине, который давным-давно спрятал скот, а все свои вещи зарыл в саду, собрал семейство у нашей изгороди.
– Сосед Чернат, – попросил он, – возьми ты нас с собой– меня, мою бабу и эту вот малютку – Лилику. Мне и запрячь-то некого: я отвел волов и бычков на пастбище – вразумил меня господь привязать их там, вот они и не попали под нож. Если мне теперь их привести – не оберешься бед с этими солдатами: во время войны солдат не человек, а собака, он и думать позабыл, что у него самого есть дом, мать, он хватает все, что попадается под руку, не разбираясь. Сын мой, Григоре, и невестка останутся здесь, а как зайдет луна, заберут быков из долины да за нами вслед и приедут.
Дедушка согласился. Запряг лошадей, посадил в телегу бабушку и семейство Мэрэчине, и они отправились. А сам остался присмотреть за домом. И меня с собой оставил.
– Ты приедешь ночью, – велела бабушка, – вместе с соседом Григоре, а старик пускай себе здесь остается – дом от чужаков сторожить.
И они уехали. Дед закрыл за ними ворота и вернулся ко мне.
– Поезжай, Флорин, я один останусь, – сказал он. – Иди к Мэрэчине да гляди в оба, кто едет по дороге. Если что, подавай знак, свистни дважды, а я уж знаю, что делать. Давай отправляйся подобру-поздорову.
На дворе у Теофила Мэрэчине повара зарезали овец, освежевали их и разрубили, чтобы положить в котел. Дидина сидела на пороге, опершись о дверной косяк. Ее муж, примостившись в сенях, в том углу, где солдаты сложили оружие, наигрывал на дудочке. Лицо у него было с кулачок, одним только узким покрасневшим глазкам в складках век было на нем место. Казалось, он оглох, как рыба, которой ил забился в уши. Он держал пальцы на ладах дудки, а глазами следил за Дидиной; отблески пламени, разгоревшегося под казаном, подвешенным на треножнике, играли на ее лице, она бесстыдно оглаживала бедра ладонями, а один из солдат – плечистый парень – бросил на нее взгляд и расхохотался, обнажив два ряда белоснежных зубов – зубов здорового и сильного мужчины.
Вот уже полтора года, как Дидина вышла замуж за Григоре Мэрэчине. Они с Лиликой были дочерьми Михулеца, который в 1938 году оказался замешанным в деле конокрадов, был пойман и забит жандармами до смерти. Земля сирот попала в руки одного пьяницы, и он пустил детей по миру. Дидина вышла за Григоре, чтобы избавиться от бедности. И вот на свадьбе невеста – рослая, в теле, крепкая, а жених, как говорят в народе, недомерок и урод уродом. Рост у Григоре не больше сабли Мэрэчине, которую тот купил во времена, когда его взяли в армию, в кавалерию, – с тех пор она висела у него вместе с охотничьим ружьем на крюке под иконами. Так и не смог Григоре овладеть женой, и через несколько месяцев после свадьбы его мать собрала целебные травы, чтобы придать ему силы. Теофил Мэрэчине полагал, что лучше хорошенько полечить сына вожжами. Только и от этого не было проку. Тогда однажды зимой в праздничную ночь попытался он сам обнять сноху, но та запустила ему в голову ведерко с дегтем; три дня потом отмывал Мэрэчине щелочью измазанные дегтем волосы.
В тот августовский вечер понравился Дидине плечистый солдат с белоснежными зубами. Ни на секунду не могла она отвести от него взгляд, и лениво и прельстительно изгибалось ее тело. Тогда Григоре бросил играть и вышел из избы, к жене. Но она его будто и не видела. Взяла несколько луковиц и, когда приглянувшийся ей солдат повернулся спиной, бросила со смехом, целясь в его светлые волнистые волосы.
«Ты что же, не видишь: он стережет тебя», – будто произнес, оборачиваясь, солдат, но она лишь презрительно пожала плечами: «Какое мне до него дело!»
Другие повара подталкивали друг друга, но молчали: было боязно наблюдать, как страсть овладела этой женшиной и заставила ее обо всем позабыть. Боязно и унизительно– такое унижение обычно испытывает мужчина от сознания, что не он избранник.
Через час, когда луна стала клониться к горизонту, во двор ворвалась толпа кавалеристов. Они разобрали котелки с чорбой и вернулись на берег реки. Григоре Мэрэчине пошел закрыть за ними ворота, и потом я слышал, как он рыскал по саду, как распахнул дверь дома.
В это время Дидина встала с порога и пошла по желтоватой лунной дорожке, терявшейся в глубине сада в зарослях цикуты и бузины. Обогнув сараи, женщина остановилась и повернула голову, не выпуская из рук концы откинутой шали. Светловолосый солдат у навеса ответил на этот молчаливый призыв, чуть склонив голову; потом он накинул на плечи куртку и направился за нею следом. Во дворе с минуту наблюдали за темА как он удаляется, потом один из поваров влил ведро воды в казан и принялся мыть его, оттирать пучком соломы, напевая низким, хрипловатым голосом:
Ворожей, как у меня,
Не сыскать при свете дня.
И вдруг ухнули два ружейных выстрела – они прокатились по долине и смолкли на кукурузном поле. Разорванная на мгновение тишина снова нависла над селом, тяжелая, равнодушная. Испуганные повара кинулись за оружием, а потом по лунной дорожке – в глубь сада. Там под яблоней, у тропинки, они увидели своего товарища. Он был ранен в плечо. На траве в ночной росе лежала Дидина, прикрывая руками сердце. Муж, с которым она так и не познала любви, застрелил ее. Рядом, зацепившись за куст, висела ее шелковая цветастая шаль.
Солдаты беспомощно глянули на поле, где скрывался беглец, потом подняли на руки Дидину и отнесли ее во двор. Они положили ее под окном на две охапки сена и накрыли ей лицо шалью. Пришел мой дедушка. Молча перекрестился, отломил веточку померанца и сел на скамейку рядом с покойницей, чтобы совершить обряд бдения.
– Отправляйся на хутор, – обернулся он ко мне, – и скажи ее свекру, чтобы возвращался.
С солдатами он не перемолвился ни словом.
Я поехал на хутор и только после полуночи нашел Теофила Мэрэчине. Разбудив его, я стал рассказывать, что случилось. Мэрэчине застонал, глаза его расширились от ужаса. Наконец он вместе с моей бабушкой сел на телегу и отправился в деревню. Долго еще слышался стук колес по дороге, ведущей через кукурузу, потом его заглушил шум машин, поднимающихся по шоссе от Брэилы; шум приближался, становился все сильнее, но и его неожиданно перекрыло грохотание пушек – это стреляли румынские части у моста с высокого берега реки.
Перед зарей бой стих, и люди, убежавшие в отдаленные хутора, узнали от посланных ими в Г. лазутчиков, что немцы из колонны, пытавшейся прорваться к Рымнику-Сэрат, сдались нашим кавалеристам, которые теперь конвоировали их до Брэилы.
Утром, когда я вместе с женой Мэрэчине и Лиликой вернулся домой, дедушка мой все так же сидел у изголовья Дидины; бабушка возилась в конюшне, а Теофил Мэрэчине чистил скребницей волов и бычков, которые стояли теперь на привязи перед стойлом у кучи навоза.