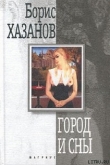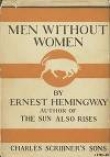Текст книги "Властелин дождя"
Автор книги: Фзнуш Нягу
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 19 страниц)
Шум
Выяснив, кто – и зачем – устраивал за стеной этот адский шум, Тудор, пятясь, сошел по узкой, сырой и липкой лестнице, освещенной лампочкой в брызгах известки под колпаком на манер плевательницы, пробрался темным двором, наткнулся на открытый помойный ящик – тяжелый дух гниющих объедков, клочья собачьей шерсти, жирные мухи, – выскочил на пустую улицу, пахнущую солодом с пивоварни, и, сунув под мышку желтый портфель, побежал, прижимая локти к телу. Маленький крепыш в клетчатой рубашке, в штанишках с перекрученными бретельками, с куриным пухом в волосах словно бы гнался за ним. Его слова, враждебность в круглых глазах (он замахнулся н-а Тудора старой педалью от велосипеда), струйка слюны в уголке тонкогубого рта преследовали Тудора, травили, бились в мозгу. Он слушал мальчика напряженно, с раздражением– тот объяснял, зачем шумит, но для Тудора главное было – шум, а не какое-то там зачем, и вдруг, вздрогнув, он услышал собственный голос, делающий идиотское замечание, что в электрическое поле – метр на метр – посреди комнаты, где курсировал, пощелкивая и свистя у полосатых шлагбаумов, локомотив величиной с кошку, не надо пускать мартышку-голышку, которая почесывала себе морду лапой и кончиком хвоста.
«Она резиновая, – ответил мальчик, – ничего не испортит, я ее однажды подсадил в корзину к кроликам на рынке и надул деда Ангела – он решил, что она живая».
«Ну да, не испортит, видали мы таких, резиновых», – пробормотал Тудор, отступая к двери, и, задев за бронзовую ручку топорной работы, выскользнул вон…
Пробежав метров двести, он остановился.
Приятный вечер с «КРАСАВИЦЕЙ У РЕКИ».
Возле входа в ресторан, по обе стороны двери, – два фонаря в форме бочонков, внутри которых кланялось по гному в красных колпаках до пят.
Он вошел, не взглянув на ночного портье, заказал бутылку вина и выпил стакан, наполовину разбавив холодной, со льда, газировкой. Народу мало, полно свободных столиков, кельнеры мягко ступают по ворсистым коврам. Его приветствовал знакомый, Велогонщик, уединившийся в нише с каким-то здоровенным малым, который сидел к залу спиной.
– Все городские бухгалтерши понадевали кофточки из релона и поехали по сельским магазинам на инвентаризацию.
– Слышал, – пробормотал Тудор, морщась от этой затасканной остроты, и проглотил несколько маслин прямо с косточками.
У него было горько во рту – желчный пузырь пошаливает. Он повернулся на стуле, раздраженный визгливым смехом женщины, сидящей в компании трех офицеров, скользнул взглядом мимо пятерки отчаянно жестикулирующих музыкантов и длинно выругался про себя. Он знал, что если даст себе хоть на минуту размякнуть, то заплачет. Скоты, подтянули брюхо ремнем с пряжкой и думают, что… А что я думаю, не спрашивайте… Может быть, Гонщик прав: бухгалтерши уехали. Табачник с угла тоже весь день где-то пропадал: «Меня сегодня нет». Зеленщик написал мелом на ставне: «Ушел за товаром». И только я один застрял на месте. Гонщику не нравится моя комната – «Ну и что, что веранда и вид на Дунай? Сыро здесь».
Гонщик – красивый парень, фартовый, обожженный ветром, чемпион по шоссейным гонкам. В гостях у Тудора он усаживался на стул с железной спинкой и долгие минуты смотрел на грязный люк под дверным колокольчиком.
«Мне бы столько денег, сколько они напечатали в этой дыре. Но только настоящих, не фальшивых. Бакалейщик, что здесь жил, мало того что жулик, еще и лентяй, каких свет не видал, станок пристроил в подполе, под самой дверью, покупатель открывает, рычажок внизу – щелк, выскакивает банкнота, на обратном пути – еще одна. Все, выходит, жулики, а доход – ему. Охапками греб. На него даж е немцы вкалывали. Правда, немцы еще и за яйца платили. Эта улица славилась своими бочками. Немцы грузовиками вывозили яйца из сел, выбивали их в бочки, а скорлупу выкидывали. Вечером бочки закупоривали, вкатывали на пароход– и в Германию. Я был в Мюнхене, на гонке в два этапа, думал выйти первым, а вышел четвертым, застрял у одного барьера, они у меня пять минут украли. Доктор Аргирополь предупреждал меня за бильярдом: «Гляди в оба, душа моя, тебе утром подадут омлет, так вот, найди предлог зайти на кухню и посмотри: яйца целые или нет?» Аргирополю не кланяйся, он картежник, прибрал к рукам не одно состояние. Рассказать тебе историю с его дедушкой? У старика были часы на золотой цепочке метра три длиной; он оборачивал ее несколько раз вокруг шеи и опускал часы в карман жилета. Аргирополю он денег не давал, скряга, и Аргирополь каждую ночь откреплял по звену от его цепочки. И вот старик умирает – а он умер, поев инжирного варенья, – и спрашивает: «Две вещи я хочу узнать перед смертью: почему у меня больше не пролезает голова в цепочку от часов – что, у человека под старость голова распухает?» А вторую вещь не спросил, не успел. Аргирополь считает, что он бы и так не спросил, потому что уже давно выжил из ума. За два дня перед тем, как сказать это и умереть, он с Аргирополем гулял у памятника жертвам первой мировой и выразился так: «Все писано по воздуху, который течет между ног бронзового солдата». Спятил…
Рыжая, коротко стриженная девушка – на затылке два свежих пореза от бритвы – тихо подошла к Тудору и шепотом предложила контрабанду: американские сигареты по чудовищной для открытой продажи цене. Она несмело улыбалась, поблескивая влажными зубами.
Он погладил ее по руке и поцеловал в запястье.
– Присаживайся. И носи браслет там, где я тебя поцеловал. Там кожа сморщится раньше всего, когда тебе стукнет сорок.
– Покупаешь?
– Э-хе-хе! – И он скривился.
Гонщик, изобразив удивление, натянул берет на глаза и ущипнул себя за правое ухо. А Тудора понесло.
– Ты – дочь моряка, – он знал, что мелет просто так, но ему надо было говорить, потому что где-то пульсировала минута, которой он боялся, он слышал, как она бьется, чувствовал ее, как живое прозрачное око, – живешь ты на барже, вчера ты драила кастрюли на палубе, а я бросал в тебя с берега блестящими камушками. У тебя есть брат, он лодочник, лодочники – веселый народ, вчера, например, он играл с лисицей, учил ее прыгать через палку.
Девушка засмеялась, глаза удлинились к вискам – темные глаза с тяжелыми веками, невозмутимые, без выражения. Ударник из оркестра, попав в полосу зеленого света, повел страшной головой: изумрудные зубы, толстые зеленые губы, ввалившиеся глаза, – и вдруг тошнотворно запахло вином. Это в подвале раскололся бочонок – перебранка донеслась из-под пола, где помещалась кухня. Пахло вином, но также и гривой убитого льва. Тудор никогда не видел убитого льва, но мог поклясться, что это – запах убитого льва.
Он наклонился к девушке и сказал, что хочет промотать с ней всю наличность.
– Я поела, – ответила та. – А пить я не пью. Да и ты пить не умеешь.
– Не умею, верно, но зато деньги у меня водятся. Мне случается хорошо заработать, а потом все протранжирить – я ведь до двадцати лет обходился одной парой башмаков, надевал их только на выход, по воскресеньям, а три дня в неделю сидел во дворе под липой в деревянных колодках, чтобы лапы не росли. Я, понимаешь, не мог рисковать – младший брат поджимал.
– Можно сигарету? – спросила девушка.
Рассказ ее не занимал, она только что переспала с ударником, а вчера вечером видела его на дамбе с женой, у которой были кошмарные ноги – смотреть тошно.
– Они твои, ты же мне заплатил, – напомнила она.
Тудор не курил. Он вскрыл пачку и вытряхнул из нее на стол сигарету. На девушке была белая блузка с широким кружевом. Большие глаза стали грустными. Она вдохнула дым так глубоко, как будто хотела процедить его через легкие, потом вытолкнула в полураскрытые губы прозрачную струйку, поднявшуюся к потолку.
В этой блузе она как русская из прошлого века, подумал Тудор. Из степной губернии. Она сидит взаперти, в усадьбе, где пахнет кислой капустой и валенками, сидит за полночь у печки, плетет – кружева? воспоминания? – и ждет какого-нибудь Вронского. Веет ветер, перемешивая березы, солому с изб и волков, вышедших на добычу, звенят бубенчики, и входит этот самый Вронский, пьяный, усы всклокочены вьюгой, вносит запах водки, мороза и огурцов и собирается на охоту, он при ружье и с борзыми, ружье он чистит, а борзых пинает сапогами, с которых течет грязь, и говорит о Санкт-Петербурге, – но она ждет другого Вронского, и, когда этот Вронский уйдет, довольный, веселый, топая своими сапожищами сыромятной кожи, она будет ждать снова, не того Вронского, который есть, а того, который живет в ее воображении и которого, может быть, вообще не существует – да наверняка не существует, она сама придумала его лицо, слова и его любовь, и будет ждать все свои зимы, и угаснет, так и не дождавшись, счастливая, что ждала, простив ему. «Господи боже, – прошепчет она, – прости его и помилуй».
Тут он схватил ее за руку.
– Как тебя звать?
– Лючия.
– У тебя галлюцинации когда-нибудь были?
– Нет, я сплю хорошо.
– Галлюцинации не имеют ничего общего со сном. Они случаются от усталости… или когда ты этого очень хочешь. Я сейчас разглядывал лепнину на потолке и ждал, что в каждой розетке расцветет по ангельской головке. Собрался, сузил глаза, все выкинул из головы и ждал.
– Ангелов ждал? – с любопытством переспросила она. подпирая подбородок рукой.
Сигаретный дым касался ее висков и путался в волосах, как туман. Голова расстрелянной, подумал он, с которой никак не расстанется смертоносный пороховой дым.
– Вместо ангельских мне явились только головы управдомов. В каждой розетке по голове управдома.
– Бред какой-то, – тихо проронила она.
– Да нет, не бред. Это другое. Как тебе сказать? Ну вот, например, мне один раз приснились комары, и потом я два дня чесался.
Прошел кельнер со стаканами на подносе. Тудор остановил его.
– Скажи трубачу, чтобы сыграл «Из старого железа новые ножи». Это марш, от которого управдомы без ума.
– У них своя программа.
– Я заплачу, если нужно.
– Не слушайте его, – вмешалась Лючия, – он шутит.
Кельнер удалился.
– Тебе бы только попаясничать, – сказала девушка. – Что у тебя там за работа?
– Где – там?
– В Бухаресте. Сразу видно, что ты столичная штучка. У вас, столичных, что на уме, то и на языке, и такой вид, будто вам на все наплевать. Вам что, правда на все наплевать?
– В Бухаресте я не работаю. Я там продаю, пытаюсь. Не очень-то продается. Когда я хочу работать, я уезжаю. Я художник.
– А, вот ты почему про ангелов, потому что вы церкви расписываете.
– Это было бы неплохо. Если б было. Я собирался расписывать стену в одном деревянном монастыре, есть в Олтенни монастырь, весь из дерева, а со мной договор расторгли. У меня брат – учитель, лет пятнадцать назад напился и спел «Королевский гимн».
– Его посадили?
– Нет, пожаловались директору. А тот разложил его на полу в учительской и – ногами. Полчаса пинал, еще трое учителей смотрели, а братец не пикнул, терпел. Я, как узнал, больше видеть его не могу. Лучше бы он в тюрьме отсидел. Я про него рассказал одному знакомому, а тот пустил эту историю дальше и…
– И у меня есть брат. Он в армии, капралом. Ой, как же его оболванили! Он приезжал в отпуск, голова – под ноль. Мама плакала, я хотела купить ему парик, а он деньги взял и пропил. Каждый день напивался и есть ходил только по дружкам. На дорогу я ему дала копченых карпов, четыре штуки, так он две штуки продал в поезде, нам один знакомый рассказал. Что поделаешь, прилипли дурные привычки. Я его очень люблю. Когда мы были маленькие, мы осенью жалели тополиные листья, что они желтеют и падают, натаскивали их в комнату и складывали под кровать, чтобы они не мерзли. Он столяр, полирует стулья, столы, оконные рамы тоже делает. Я от него узнала, что замазкой стекла обмазывают только изнутри, чтобы она от дождя не испортилась. Сначала он хотел стать кузнецом, но по нынешним временам это уже не ремесло, правда?.. Ой, – она испуганно сжалась, – Гонщик к нам идет.
– Добрый вечер, – поздоровался Гонщик, пододвигая себе стул. – Я смотрю, Лючия, ты постриглась. – Он повернулся к Тудору. – Когда разговариваешь с Лючией, держи наготове палку, как со змеей.
– Замолчи! – прикрикнула на него девушка. – Молчите и оставьте меня в покое.
Фраза прозвучала по-библейски, она повторила ее еще раз, низким от нескрываемой ярости голосом.
У Тудора дрогнули тонкие, с синевой губы и кончик острого носа. Гонщик самодовольно улыбался, поигрывая могучими лопатками. Улыбка портила его точеное лицо, ломая твердость линий.
«Чему радуешься, кретин?» – хотел сказать ему Тудор, но тут распахнулась дверь на веранду, и он промолчал.
За верандой открывался смелой кистью набросанный вид: из мелких тучек, застрявших в ночной бездне, из маленьких, аккуратненьких, как прически юных женщин, тучек вылетали бледно-лиловые молнии – поцелуи огня из дула мушкета. На веранде в диких корчах бился некий господин во фраке, и как бы отделившись от его конвульсий, в ресторанный зал вошла женщина в длинном тафтяном платье и прошла мимо Тудора, неся в руке вазу с искусным орнаментом, которая в мягком свете, шедшем от рук и глаз женщины, казалась веткой, принявшей на отдых голубое солнце, негреющее, бессильное, но искрящееся голубым светом, как сгусток небесной пыли из сна.
– Жонглирует и торгует орешками, – сказал Гонщик.
– Что? – скучно переспросил Тудор, глядя на типа в черном, который отбивал тустеп уже в зале.
– Я хочу, чтобы вы меня послушали, – начал Гонщик, – У меня решающий момент в жизни. Хочу жениться.
– На ком? – полюбопытствовала Лючия.
– На аэропортовской кассирше из второй смены.
– А, на этой дряни с тощими ляжками, – презрительно бросила она.
Для Лючии все женщины были «дрянь с тощими ляжками».
– Ты себе слишком много позволяешь. – Гонщик разозлился, – Это, конечно, не бог весть что, Тудор, но говорит она красиво, я думаю, она слова нарочно из книг вычитывает. Сегодня она сказала мне, что видела, как я еду, и что у нее сердце прыгало, как ягненок. Конечно, будь я поумнее, я бы женился на Юлии, это бегунья на стометровку, теперь она летает Бухарест – Париж, а я, раззява, упустил случай, был бы сейчас одет с иголочки и при машине. Но машина у меня будет. «Дрянь с тощими ляжками», как ты ее, Лючия, обозвала, на этой неделе тоже полетит. Сте– вардессой, – Он так и сказал. – Разбился самолет с рейса на Франкфурт, и освободилось два места. Партия – лучше не надо. Аргирополь советует завтра же подавать документы. Тряпки, деньги, а когда уезжает, так уезжает без дураков. Подозрения подозрениями, а с неба она вернуться не может… Которые на земле, у них всегда нож за поясом. Другое дело – стевардесса. Полетает с годик, напривозит всего, а потом пусть летает, сколько летается, в один прекрасный день все равно разобьется. Сорок восемь тысяч девятьсот леев страховка. Что скажешь?
– Какая разница, что я скажу. Ты все рассчитал.
– Верно, – согласился Гонщик, – Но я хотел с тобой поделиться, а ты, я вижу, не в настроении. Я тут с одним мебельщиком, у него свои пружины и шпагат, мне шланг для бензина достал… – Он обернулся к Лючии. – Дуется, потому что не может нарисовать, что хочет. Идеи у него все какие-то завиральные-не знаю, говорил он тебе или нет, мне говорил, я не очень-то разобрал, что к чему. Какого черта ты тут с ней, если ничего ей не говоришь? – напустился он на Тудора.
– Она похожа на мою сестру, которая повесилась, – сказал Тудор, и его губы раздвинулись в вымученной улыбке.
К чему это я? – подумал он и вдруг увидел, что у Лючии действительно внешность Олимпии, не той Олимпии, которая повесилась, а Олимпии, какой она стала бы сегодня.
– Она была молодая? – спросила Лючия. – Как же можно себя убивать?
– Чушь! – сказал Гонщик. – Незамужние девицы всегда ближе к смерти, чем старухи в семьдесят лет. Я вас покидаю, мебельщик зовет. Ты можешь ей рассказать про картины, Тудор, она тебя послушает, у нее ведь тоже завиральные идеи, только как бы ей не погореть на контрабандных сигаретах. Мне будет жаль, мы однажды вместе вышли в вольт, зимой, на дне рождения у дочки начвокзала, ночь веселились, а утром принимали ванну высоко, в водонапорной башне. Кто потерял там браслет, Лючика?
– Не знаю, – огрызнулась она. – Иди.
– Ах, Лючика, когда у меня будет целая бочка денег, чтобы сотенные лежали грудами, как виноградные листья на протравке…
– Иди, – попросила она устало.
– Я-то иду, а ты застряла на месте, в то время как все давно ушли вперед… Этой образине позолотили ручку. – И он кивнул на женщину в тафтяном платье, которая вертелась на табурете пианиста, дробно притоптывая и прижимая к грудям бутылку шампанского, посланного ей с одного из столиков. Бутылка была откупорена, белая пена выплескивалась на потную нарумяненную кожу.
– Смотри, – сказал вдруг Тудор, указывая рукой на потолок.
– Ты болен, – заметила Лючия. – Пить не надо было.
Он уронил руку на стол и спросил:
– Ты что же, ничего не видишь?
– Что мне видеть? – ответила девушка, а сама подумала: сумасшедший.
– Управдомы. Смотри, в каждой розетке по голове. Управдомы, здоровые, мордатые.
– Я ничего не вижу.
– От них несет водкой, ноздри дрожат от аппетита. Я куплю корзину орешков и подарю им. Они все уплетут, вот увидишь.
– Расскажи мне про свою сестру, которая умерла, – попросила Лючия. – Она на себя руки наложила из-за любви?
– Я думаю, она просто играла. Со всяким может случиться – играешь и умрешь ненароком.
– Да ты что. Я хочу жить, я боюсь смерти.
– А знаешь вот это? – сказал Тудор. – «Вытекли глаза у ивы, только мертвые красивы»? – И еще он сказал: – Был четверг на страстной неделе…
И стал четверг, и поднялся ветер с востока от Рымни– ку-Сэрат к Бузэу, и налетел на четверку крестьян, собравшихся на пустыре перед примарией. В серых фуфайках, с карманами, раздутыми от табака, бородатые – у одного на щеке шрам в форме лошадиного копыта, – вертятся вокруг акации, на которой висит Олимпия. Наверху Тудор рубит топориком пеньковую веревку, захлестнутую на ветке. У Олимпии к платью приколоты шафраны, пахнет дном оврага, волчьим логовом. Весна стоит гнусная, ночью украли четырех лошадей, расцвели абрикосы, над выгоном блуждает белесый пар, на рассвете Олимпия вышла позвонить в колокола к утрене, к двенадцати коленопреклонениям, и не вернулась…
«Я глазел в окно, – рассказывал потом примарь, – и вдруг как заору, сунулся головой в стекло, раскровенил себе физиономию. Висит – не падает, не на качелях качается– мертвая! А я перед этим только что подумал: что за ночи, луна желтая, как буковая древесина, и под ней колокола – будто не из железа, а из травы, будто птичьи гнезда… Такая молодая – и сунула голову в петлю! Руки белые, наверное, только-только вымыла их в росе. Господи, прости ее душу грешную».
– Это было давно, – сказал Тудор, – я уже хорошенько всего не помню, играли лэутары, а учитель плакал во дворе, на колоде. Я убрал дерево, на котором она повесилась, калачами и яблоками и сверху смотрел на усадьбу. Зимой там застрелился молодой барин. Понаехали гости, он пригласил пройтись свою бывшую жену, шел снег, они гуляли под деревьями, и все думали, что они помирятся. Потом она вернулась в дом – озябла, он остался на снегу и застрелился под кустами роз, и на месте, где он умер, снег стал красным-красным. Она стояла у окна в лиловой шали на плечах и смотрела… Но это никакого значения не имеет, – добавил Тудор, разливая вино по стаканам.
– Ты должен расписать церковь – за сестру, – решила Лючия. – Непременно должен.
– Потом, – ответил Тудор, – сейчас я хочу заняться другим, я хочу нарисовать шум, понимаешь?
– Зря, – сказала девушка, – шума не видно, ты хочешь то, чего сделать нельзя.
– Вот и Гонщик заладил: «Ты всегда хочешь то, не знаю что». Так не надо думать. Слишком много на свете дураков, которые так думают, а по-другому никто не пробует. Я в вашем городе три недели – и две из них не знаю ни сна, ни отдыха, ни работы. Я живу в комнате, где застрелили человека, потом его взвалили на мула и увезли – сейчас о нем уже никто не помнит, об этом бакалейщике. У меня там камин; пуля, которой в бакалейщика стреляли, разбила плитку, я вчера взял молоток и долото, чтобы ее заменить. Но меня как караулил кто за стеной – тут же поднялся вой и стук железом о железо. Битых две недели я терплю вопли и грохот, но на этот раз старались особенно, я просто взмок, вышел во двор, обогнул дом, поднялся по темной лестнице и позвонил, и какой-то ребенок чуть не запустил мне в голову педалью от велосипеда. Я ему: «Что ты орешь? Две недели не даешь жить!» А он мне: «Сначала ушел папа, и мы орали вместе с братом, мы шумели, чтобы по нему не скучать. А вчера ушел и брат, теперь я должен шуметь за двоих».
– Куда же они делись? – спросила Лючия.
– Про отца он ничего не мог сказать. А брат – в исправительной школе: украл пирожные в кафе. Он хотел взять и удрать, но не удержался, умял на месте четырнадцать штук и с раздутым животом уснул за прилавком, на мешке с мукой. Утром его долго трясли, пока разбудили. Он ни с кем не ладил, только с собаками, с ними он играл, учил их делать сальто и ползать на брюхе за мышами. Когда утром он выходил из дому, два десятка собак ждали его у ворот, чтобы проводить до школы. В двенадцать они поджидали его у школы и провожали до дому. Не знаю, держали ли вы собак, мы держали, собака – самое чувствительное животное. Есть люди, которые говорят с птицами, я думаю, что этот мальчишка знал собачий язык. Может быть, собаки считали, что он тоже собака, а может быть, он сам считал, что он – собака.
– Пошли, – сказала девушка, – поздно, скоро начнет светать, и тут духота, в этом кабаке.
– Пошли, – согласился Тудор и подумал, что с вечера глаза у него были на мокром месте, а сейчас он ничего не чувствует, на душе пусто.
Он прошел между столиками вслед за Лючией, прижимая портфель к ноге, скользнул взглядом по гипсовым розеткам на потолке, сунул гардеробщице в руку горсть монет и набил карманы орешками – мелкими, кофейного цвета, как каштаны, только шершавыми на ощупь. Небо над рекой было высокое, дикое, девушка взяла его под руку и повела к краю дамбы, откуда начиналась песчаная коса, а ему мерещилось, что он вот-вот наткнется на какую-нибудь падаль под кустом. Лючия сняла платье и осталась голой – чтобы искупаться – и велела ему раздеться тоже, но он отговорился, что болен, прислонился спиной к каменной стене и смотрел, как она пробует воду ногой. У нее было ленивое белое тело, больше чувственное, чем ленивое, оно колыхалось на ходу, выдавая свою натуру – натуру аморфной массы, не способной на отказ.
– У меня там мыло в сумочке, подай, – попросила она.
Тудор раскрыл сумочку, вынул мыло, завернутое в бумагу, и подал ей. Она посмотрела на Тудора, смеясь, не стесняясь того, что голая. У нее были большие груди с желтыми следами старых укусов, душистые и прохладные, она тряхнула ими, пытаясь зажечь его, но он отступил, не глядя на эти грубые отметины, как будто он знал ее, как жену, многие ночи, и, отступая, он закрыл глаза, и перестал быть там, на берегу реки, и оказался в поле. Горизонт был подвижный, и он мог отодвигать его, куда хотел, и с ним были двадцать собак и мальчик, который стерег собак и говорил с ними, а собаки понимали, потому что и мальчик был собакой.
– Я хотел вам сказать… а идите вы ко всем чертям. Собрались купаться, а мне ни слова?!
Это был Гонщик. Он избавился от своего ресторанного приятеля и стоял на каменном краю дамбы, подрагивая мускулистой ногой. Прозрачный утренний воздух с запахом тины струями обтекал его. Тудор не обернулся, а только завел глаза и подумал, что ему двадцать восемь лет и что он никогда, даже если проживет шестьдесят или семьдесят, не сможет нарисовать шумы, их нарастание и агонию и только обречен постоянно их слышать. Да, обречен слышать их постоянно.
– Ты купил орешков, – сказал Гонщик. – Угостишь?
– Бери все, – сказал Тудор и вывернул карманы.
И Гонщик принялся колоть их камнем.
1967