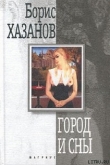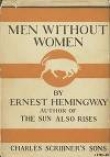Текст книги "Властелин дождя"
Автор книги: Фзнуш Нягу
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц)
– Оставайся, – ответила Вика. – А я не могу. Уйду… Онике!
– Брось глупости-то молоть.
– Что ж мне, за Балбеса выходить? – с упреком спросила Вика. – Нет уж, хватит! Побатрачила. У вас тут батраков и без меня хватает. Мне на твоего папашу спину гнуть неохота.
Онике не знал, что и сказать. Ласкал ее гладкий горячий лоб, касался губами нежных век голубых глаз с влажными длинными ресницами и мучительно думал, как же оно будет дальше.
Вика сказала правду. Кэпэлэу был в доме самовластным хозяином, остальные только покорно склоняли головы и подчинялись во всем. У Онике никогда бы не хватило духу воспротивиться воле старика. И мужество и отвага мгновенно оставляли его при одной только мысли об этом. Он не мог объяснить, почему оно так, отца он не любил, и чем становился старше, тем явственней чувствовал, что ненависть в нем растет: не видел он радости от отца и ласки не видел.
– Знаю, – как бы догадавшись, о чем он думает, произнесла Вика, – ты из отцовской воли ни на шаг, при нем ты ровно букашка.
Права Вика. Онике и не обиделся. Он обнял ее покрепче, целовал глаза, лоб, щеки и чувствовал, как громко бьется у нее сердце, с какой надеждой заглядывает она ему в глаза и как трепетно стремится к воле, призывая и его не покоряться, и отвечал лишь бессильным успокаивающим шепотом, уговаривая: живи как живется, ни о чем не думай.
Он спустился вниз и во дворе столкнулся с Нице, который с глупой ухмылкой заявил, что если Вика и этой ночью положит его спать на полу, то он…
– Пошел ты к черту! – в сердцах сказал ему Онике и отвернулся.
Через кухонное окно его увидел Кэпэлэу.
– Где был? – спросил отец, появившись на пороге, – Собак гонял?
Был он в одной фуфайке, говорил тихо, медленно цедя слова. Этого спокойствия Онике боялся пуще смерти. Если бы отец встретил его криком, кулаками, проклятьями, он мог бы надеяться, что обойдется трепкой. А теперь уже не сомневался: свадьба – дело решенное. Рад не рад, а говори: милости просим…
– На чердаке, – ответил он, – снег счищал.
– Вот как? Ладно… Вечером сватов засылаем к дочери Лаке Труфану. Завтра смотрины, может, сразу и заберем девку к себе.
Онике заметил, что держит в руках цветок, который был в волосах у Вики, и пустил по ветру измятые лепестки. Он пошел на сеновал и лег. Не хотелось никого видеть, слышать. В голову, словно билом, ударяли слова: свадьба!.. свадьба!.. свадьба!..
К ночи вьюга утихла, мороз окреп. На дымчатом небе без единого облака сверкали крошечные зеленые звезды.
Задумав женить Онике, Кэпэлэу перво-наперво отправился к соседу, Никулае Джуге, сунув в карман бутылку ракии. Тот был крестником Лаке Труфану и в прощеное воскресенье наверняка пойдет к нему с подарками, так пусть заодно замолвит словечко о Кэпэлэу, а уж завтра, на трезвую голову, они встретятся с Труфану и обо всем столкуются. Домой Кэпэлэу возвращался пьяненький и с силой упирался палкой в снег, чтобы не поскользнуться и не упасть. Издалека было заметно, что Кэпэлэу доволен собой – все складывалось как нельзя лучше. Никулае Джуте сватовство одобрил и даже сказал, что более подходящей парочки на селе давно не было. Онике – парень рассудительный, послушный, работящий, из почтенной семьи, и девушка собой недурна, приданое за ней хорошее, а ежели пошла в мать, а по всему так оно и есть, то и рожать одного за другим не будет. Родит ребенка, много – двух и остановится. Не то что другие – что ни год, то приплод.
Покуда отца не было дома, Онике достал най и волынку, спрятал подальше, чтобы на них ненароком не наткнулась Вика. Он не мог выносить ее взгляда. «Чего ты молчишь, – как бы спрашивали ее глаза, – чего боишься? Плюнь ты ему в лицо! Ирод он, а не отец!» Но Онике предпочитал не видеть этих глаз, избегал их взгляда.
Вернувшись домой, Кэпэлэу приказал Вике и Нице сходить поздравить будущего посаженого отца калачом.
– Посидите там часок-другой и возвращайтесь, потому как праздновать дома будем.
Вика и Нице ушли переодеваться, а Кэпэлэу позвал Онике и показал ему треснувшую дудку.
– Видишь, сынок, дудка у меня треснула, – сказал он, – если узнаешь, кто на селе телку режет, скажи мне, я схожу, попрошу кишку, дудку наладить. Натяну, высохнет кишка, и будет дудка как новая, даже получше прежнего… Эй ты! – крикнул он строго Надолянке, – Выгони кота за дверь, вишь – холодец в тарелке нюхает?! Так слышь, сынок, если режет кто телку…
– Слышу, не глухой, – отвечал парень, уставясь в землю.
– Смотри у меня, – напомнил старик, – на сторону не поглядывай, а то опять телега набок… Только-только я ее выправил.
С улицы донесся залихватский свист, Онике вышел. Вика в сопровождении Нице, наряженного в черный суконный костюм, с цветком герани в петличке, который он теребил с блаженной улыбкой, вышли из кухни с корзиной, где лежал калач величиной с тележное колесо, предназначенный для Думитру Караймана, будущего посаженого отца на их свадьбе. Вика была в вишневом платье с узкой талией и пышными рукавами. Она надела кожух, а поверх еще плотной вязки шерстяную шаль.
– Куда это ты так накуталась? – удивилась Надолянка. – Весь гардероб на себя навертела!
– Зябну, – коротко объяснила Вика.
– Ладно, ладно, ступайте, – поторопил их Кэпэлэу, – повеселитесь на славу и наказ мой помните: посидите часок, и домой. А ты, – тут он потрепал по щеке Нице, – не забудь руку у крестной поцеловать, а то я три шкуры с тебя спущу.
В воротах они столкнулись с Онике и Даниле Бишем.
– Добрый вечер, уважаемый господин Балбес, – поприветствовал Биш Нице. – С калачом к посаженому отцу? Похвально! Поклон и от меня старому прохвосту. Выпейте там и за мое здоровье! – И он посторонился, пропуская парочку.
Онике удержал Вику за руку, сжал до хруста и отпустил, только заметив, что она поморщилась от боли.
– Счастливо тебе, – пожелала она Онике, – как говорится, совет да любовь.
– И вам того же, – не замедлил он с ответом.
– Хороша бабенка! – восхищенно проговорил Биш. – Всем взяла! Жаль, достанется она Балбесу. Будь у него капля ума, приворожил бы он тебя травкой к другой бабе.
– Отстань! – отмахнулся Онике. – Дела другого у тебя нет, что ли, как зубы скалить?
– Значит, нету, раз я с тобой тут торчу, хотя нам давно пора быть за околицей. Нынче я такую штуку отмочу – век меня помнить будете.
– Воронку достал?
– Обещался один хлопчик принесть.
Тогда пошли, что ли? – сказал Онике.
Биш сунул руки в карманы и вдруг повернулся к Онике, плотный, маленький, глаза его сверкнули в темноте кошачьим блеском.
– Слушай, а винца у тебя не найдется?
– Найдется, – помедлив, ответил Онике. – Только зайди в дом, чтоб батя не приметил.
Он провел Биш а на галерейку и оставил дожидаться там, где зимой обычно громоздились горы брюквы, картошки, лука, перца, убранные с гряд с первыми заморозками, где стоял ткацкий стан и всякая хозяйственная утварь, а сам пошел на кухню, взял кувшин и потихоньку спустился в погреб.
Надолянка обеспокоенно заковыляла вслед.
– Что ж ты такое делаешь, сыночек? – взмолилась она. – В могилу меня свести хочешь? Думала я, на старости лет удастся пожить спокойно, ан нет…
Выпив по стаканчику вина, Онике и Биш виноградниками добрались до холма, где, потрескивая сухим ивняком, горел костер и где дожидались их пятеро парней. Остальные расположились на другом холме, за огородами. Обычно парни разделялись на две группы: одни запевали частушку, а другие, подхватывая, как бы отвечали. Прежде чем разойтись, парни долго и шумно спорили, кому куда идти.
Все были в сборе, и вдруг за кустами мелькнули~две тени.
– Это еще кто? – удивился Биш. – Что там за фигуры ходят?
– Ясное дело кто: Марин Куду с братишкой.
– А-а!.. Мешок с заплаткой, – засмеялся Биш.
У Марина три старшие сестры в девках засиделись, и в заговенье ен от парней ни на шаг не отходил, чтобы помешать им, если надумают насмешничать над сестрами. Но парни из озорства, чтобы позлить мальчонку, сочиняли частушки самые что ни на есть забористые.
Вскоре на другом холме взметнулся, искрясь, костер. Значит, и там все в сборе.
Даниле Биш, первый на селе балагур и выдумщик, хлебнул из бутылки вина, взял воронку и громко пропел:
Ох беда! Который год
Никто замуж не берет!..
В домах захлопали двери, мужики и бабы повыскакивали на улицу с недоеденными пирогами в руках, торопясь послушать, кому нынче достанется от парней. Раскрасневшиеся хмельные мужики весело подмигивали друг другу, дымили самокрутками и хохотали до упаду над уморительными дразнилками. С погодой парням повезло: вьюга утихла, и в чистом морозном воздухе голоса звучали громко и отчетливо.
Бабы и девки, хихикая, толпились на галерейках. И хотя кое у кого из них и было рыльце в пушку, и замирало от страха сердце, они не подавали виду и втайне молили бога, чтобы избавил от злоязычных насмешников.
Вот уж горе! Вот беда уж!
Не берут Оану замуж.
В чем загадка? Где секрет?
Сопли есть, а носа нет.
Оана, дочка Гисоса, уткнулась вздернутым носиком в подушку и залилась горькими слезами.
Но недолго парни потешали село, кончалось всегда тем, что прибегал с дубинкой какой-нибудь до смерти разобиженный родитель и вступался за дочку.
Пока Биш кричал, Онике мрачно сидел у костра. Но видел он не пламя, а голубые укоризненные глаза Вики, какими смотрела она на него, уходя с Нице под руку. Онике отвернулся, чтобы не встречать этого взгляда, но, глянув в поле, увидел, что Вика идет виноградниками и смотрит на него все теми же голубыми тоскливыми глазами.
«Чего ты ждешь? – спрашивала Вика. – Чего ты ждешь?»
Он уткнулся лицом в ладони и сидел так долго, не шевелясь, но когда поднял голову, звезды взглянули на него голубыми глазами Вики и спросили: «Чего ты ждешь?!»
Онике вскочил на ноги и бросился к Бишу.
– Не мешай, – сказал Биш. – Теперь у меня самый коронный номер: жене нашего завмага фитиль вставлю!.. Будет знать, как спекулировать!
– Про дочку Труфану пой!
– Ты что, спятил? Труфану не знаешь? Он же нас прибьет. Она скромница…
– Давай сюда воронку! Я сам!..
Не дам! Взбесился ты, что ли? – попятился Биш.
Пой, говорю!
– Нет! – отказывался Биш и вдруг согласился: – Ладно, так и быть, спою.
И прокричал на все село:
Есть у нас молодка Вика, Баба-ягодка, клубника, Нет в селе ее стройней, Всем взяла, и все при ней. Только с мужем спать не любит, Мужнин брат ее голубит И целует целу ночь: Надо ж старшему помочь! Спеть о них еще могли бы, Да не скажут нам спасибо.
Кэпэлэу с Надолянкой, кумовьями и крестниками, как только на холмах зажглись костры, вышли на галерейку и, слушая шутки парней, покатывались от хохота. Услыхав последнюю частушку, все оцепенели, Надолянка, испуганно глянув на мужа, расплакалась и убежала. То, что недавно смешило до колик, так как касалось других, теперь вызывало растерянность и гнев. Гости заторопились в дом, честя на все корки негодяя, осмелившегося опорочить честное семейство. Веселья как не бывало. Рассвирепевший Кэпэлэу выхватил кол из забора и, не разбирая дороги, по сугробам ринулся к холму.
– Убью! Пришибу гада! – кричал он не своим голосом, не сомневаясь, что дело не обошлось без Онике.
Но на холме уже никого не было.
Пропев частушку про Вику, Биш, как бы извиняясь, сказал:
– Пентюх ты, Онике! Потому и спел про тебя. Талдычил: люблю, люблю, а сам ни с места. Теперь, хошь не хошь, побежишь с Викой из дому. А то Кэпэлэу башку тебе свернет.
– Куда бежать?
– Куда, куда… Совсем дурак, что ли? Куда глаза глядят. Да хоть в Брэилу, на стройку! Туда тьма наших деревенских едет! Хватай Вику – и деру!
Биш схватил его за руку и чуть не волоком, проулками и закоулками, потащил к дому Думитру Караймана, где ярко светились окна и крик стоял такой, будто свадьбу гуляли. На крыльце сидел Нице, бился головой о ступеньки и вопил в голос. Карайман его уговаривал, пытался поднять, увести в дом.
Онике и Биш слушали, притаившись за акациями. В конце концов раздосадованный Карайман ушел в дом. Биш мигом подскочил к забору и окликнул хозяйку:
– Эй, тетка Аника, что это у вас за шум, а драки нету?
– Беда! Жена у Нице сбежала. Довела его до нашей калитки и говорит: «На вот тебе калач, отнеси своему Карайману, да не забудь у хозяйки ручку поцеловать, а то батя прибьет! Сыта я вами по горло!» И ушла. А он, балбес, ее отпустил. Теперь убивается.
Вот так чудеса в решете! – посочувствовал Биш. – Ну-ну! Счастливо вам повеселиться!
Он вернулся к акациям, где оставил Онике, чтобы поделиться с ним новостью, но тот и сам все слышал и уже мчался во весь дух на станцию.
Вот кто балбес-то истинный, глядя ему вслед, подумал Биш, нет чтобы коня запрячь! Не поспеть ему к поезду!..
1959
В ночь на Ивана купалу
Деревенский фарс
В канун Ивана Купалы закатное солнце тронуло багрецом и золотом краешек неба, но луна, так и не пожелав показаться из-за дымчатых туч, виднелась, словно тусклое оловянное блюдце сквозь ядовитый пар ведьминского варева.
Сава Пелин, зампредседателя сельского кооператива, переправляясь через Дунай на лодке, подплывал к крутому, обрывистому берегу, на котором среди нескончаемых полей расположилось село Лаковиште. Невысокий широкоплечий крепыш, он с удовольствием работал веслами. Откидываясь, выпрямляясь, крепко упираясь ногами в камышовый настил на дне лодки, Сава по-ребячьи радовался свежей прохладе речного ветра. С обеда он торчал в рыболовецкой бригаде и теперь торопился домой, чтобы успеть переодеться и отправиться с Танцей, дочкой Бурки, на виноградники, где вечерами веселилась вся деревенская молодежь. Между собой они с Танцей давно все решили, только вот свадьба откладывалась да откладывалась – больно уж Сава был занятой человек.
Прибрежные ивы с голыми влажными стволами купали в воде зеленые ветки, и, спрятавшись среди них, за Савой пристально следил маленький щуплый человечек, весь заляпанный бурой тиной. Но это была и не тина вовсе, а деготь, которым выводят лишаи. Звали человечка Жан Кавалеру, и был он в кооперативе заготовителем. Как только стало известно, что на Ивана Купалу в селе будет ярмарка, Жан Кавалеру, виляя задом и подпрыгивая, стал бегать за Савой, умоляя разрешить ему организовать на ярмарке закупку гусей. Сава об этом и слышать не хотел: только пуха нам на празднике и не хватало!
– Эй, зам! – окликнул заготовитель Саву, подплывавшего к берегу, затененному ивами. – Ну ты и башковит, на кривой кобыле не объедешь. Вон какой черепок – дубина и та переломится. Только у бывшего управителя Минку такой был…
– Чем болтать, лучше привяжи лодку, – приказал Сава, бросая ему конец веревки.
Лодка уткнулась носом в песок, и Сава спрыгнул на берег.
– И давно в засаде сидишь? – полюбопытствовал он.
– Эх! – вздохнул Кавалеру. – Часа два тебя дожидаюсь.
– Вот репей! Сказано же, попусту просишь…
– Сава, Савушка, – заныл Кавалеру, – ну войди и ты в мое положение. Мне тоже план давать надо. Пойдем ко мне, посидим, выпьем цуйки, поспорим да помиримся.
– Я цуйки не пью. От одной стопки враз засыпаю.
– Ну, ты ври, да не завирайся, – протянул Кавалеру, – Я тебя не первый день знаю…
– Уйми свой язык брехливый! – рассердился Сава, – Сказано, не будет на ярмарке заготовок – ни птицы домашней, ни другого чего, – и точка! Привет! Ни пуха ни пера! – добавил он и пошел по тропке к выгону.
Жан Кавалеру остался стоять на берегу, под обрывом, бормоча вслед Саве всяческие угрозы, похожие больше на жалобы и причитания.
– Ихнее величество не желают пуха. Ихнее величество желают, чтоб на ярмарке одни сладкие кунжутные лепешки были! Ну погоди, придет время, наплачешься ты с помидорами. Прибежишь, в ножки поклонишься – пристрой, мол, Жан Кавалеру, а то у меня томат по грядкам течет. И пусть сгнию тогда вместе с твоими помидорами, если хоть пальцем пошевельну!..
Но Сава Пелин не слыхал этих страшных угроз. Шел себе полем по белой тропке, мягкой и теплой, как растянутая для просушки овечья шкура. Стадо коров спустилось на водопой к Дунаю, над выгоном повисла пыль, а когда улеглась на жухлую траву, справа завиднелись пестрые ярмарочные палатки и зеленые навесы, увитые цветущей виноградной лозой, под которыми завтра будет жариться на вертелах мясо, а за ними – шатер карусели, где еще трудились, забивая последние гвозди, столяры. Эту карусель обнаружили в одном из помещичьих сараев, и теперь, дерезенской ребятне на радость, она завертится на веселом празднике и по кругу резво побегут бок о бок пухлые лошадки, туго набитые опилками и морской травой, выгнув крутые шеи, подметая землю гривами из мочала, сверкая желтыми подковами. Жаль только, что вместо ярко-красны к седел, какими щеголяют три скакуна, всем остальным положили на спину серые мешки с мякиной, да что поделаешь – пропали красные седла.
Сава подошел к рабочим. Потихоньку вращаясь, поскрипывал дощатый круг.
– День добрый, ребята! Идут дела? – обратился он к мастеру.
Мастер – здоровенный толстяк, пудов этак в десять весом, – чудом держась на верхушке лестницы, проверял, прочно ли закреплен металлический каркас.
– Поработали вы, однако, на славу! – одобрил Сава.
– А ты как думал? – отозвался мастер. – Как черти рогатые упирались. Пора и по стаканчику пропустить. Кости ноют, натрудились – смазки требуют, отказать грех!.. Собирай струмент! – крикнул он своей бригаде. – Позабудете чего, голову оторву!
С лукавой улыбкой он поманил Саву поближе, наклонился и спросил:
– Председатель-то скоро учебу кончит ай нет?
Скоро. Месяца через три.
– Значит, ты у нас пока командиром? – И, перегнувшись чуть ли не пополам, спросил шепотом: – Сава, а Сава, правду люди говорят, будто у вас в дому скоро свадьба? – И добавил, хитро прищурившись: – Ведь завтра девки будут в русалок играть.
По старинному обычаю, в праздник Ивана Купалы девушки, изображая русалок, водят хороводы, и если их царица, разубранная в белое, как невеста, схватит и закружит какого-нибудь парня в пляске, он должен стать ей мужем.
– Я по осени женюсь, – ответил Сава. – Завтра Тинка, дочка Иона Думинике, будет русалкой, им с Нику Бочоаке и свадьбу играть. А я себе положил осени дождаться.
– Ты-то тут при чем? – удивился мастер. – Я о старике толкую, о бате твоем. Батя твой посватался к Бурке. Оно и понятно: мужику бобылем при рисовом поле жить – тоска смертная, вот он и решил Бурку взять. А она, голова садовая, задумала и дом перетаскивать. Большие это убытки– дом по бревнышку разбирать да заново ставить. Половина добра задарма пропадет. Она баба умная, не всякий мужик с ней потягается. А тут сдурела. Да отец твой пятым будет, который к ней в постель уляжется. И, попомни мое слово, ненадолго, наподдаст она ему под зад коленом, уползет он от нее на карачках…
Под эти рассуждения мастер слез с лестницы и взял ее на плечо. Остальные сложили в корзину инструменты. Распрощались. Мастера направились к корчме, а Сава заторопился домой.
Голова у него шла кругом. Чушь какая-то, думал он. Вчера еще отец приставал: женись да женись, а сегодня дорогу заступает? Черт меня дери, если я хоть что-то тут понимаю. Саву разобрал смех: его батька – и жених! В шестьдесят годков наденет венец на лысину и пойдет с попом за ручку прыгать…
Да нет, конечно, чушь собачья. Захотелось мастеру пошутить– и пошутил. А почему бы и не шутить, когда работа кончена. Ох и мастер, ох черта кусок, экой забористой шуткой дело кончил!
На краю выгона Сава вспомнил, что сегодня канун Ивана Купалы и парни с девками рвут сегодня чертополох: под Брэилой верят, будто чертополох приносит счастье, и, очистив от колючек, закидывают на крышу, приговаривая по древнему обычаю:
На зорюшке, на заре Пастух кликнет на дворе. Как раскроется цветок, Даст мне счастья лепесток.
И цветок раскрывается: добегает сок до верхушки стебля, омывает его свежая ночная роса – и расцветает цветок.
Сорвал чертополох и Сава, вошел к себе в палисад, что аккурат возле выгона, и зашвырнул цветок на крышу, а потом отправился на кухню. Отец уже поужинал и сидел на пороге, привалившись спиной к косяку, задрав ноги на чурбак с ведром воды, курил. Фетровая шляпа, пропотевшая и блестящая, словно ее намылили, надвинута была чуть ли не на нос, загораживая глаза от яркого света лампочки, что болталась прямо над его головой. Рубаха у него на спине задралась, съехала с плеча и обнажила костлявую грудь, всю как будто иглой расковыренную. Да так оно и было: кабриолет господина брэильского префекта с двумя жеребцами в упряжке так заворожил Флорю Пелина, тогда еще мальчика на побегушках в зеленной лавке, что в один прекрасный день, пока господин префект изволил обедать в ресторане, Флоря вспрыгнул на козлы, хлестнул коней и помчался дивить народ в родное село. Недаром мечтал он быть кучером. И домечтался. Префект приказал привязать его к столбу возле кузницы и колоть раскаленной иглой от шеи и до пупа – для науки…
– Вечер добрый, батя, – поздоровался Сава.
– Добрый, – отозвался старик, не шевельнувшись.
– Ноги-то подвинь маленько, дай на кухню пройти, ты б еще улицу жердями своими перегородил…
– Ну и перегородил бы, – обиженным фальцетом заговорил старик, – кости все одно при мне бы остались – телеги-то все в Штибее: щебенку для новой дороги возят. Да. Вот оно как… А ты мог бы и повежливее с родным отцом разговаривать.
Сава насторожился: что-то с моим стариком делается, не иначе повода для ссоры ищет.
– Слышь, – сказал Сава миролюбиво, – люди на селе болтают, будто жениться ты надумал.
– Болтают? – заносчиво переспросил старик. – Экий народ! Я страданий принял не хуже Христа-спасителя, а и меня оговорили!
– Так их растак, – добродушно ругнулся Сава, – набрехали с три короба.
– Почему набрехали? – вскинулся старик. – Правду сказали. Я на Бурке женюсь. Сколько разов тебе говорил: веди Танцу в дом! – закричал он. – Да тебе хоть кол на голове теши! А раз не привел, стало быть, она тебе не по нраву. В этом все и дело. Теперь терпи, сестрой тебе будет. Поезд, сынок, не станет ждать, пока ты дурака валяешь. Фью – и нет его.
Ой-ё-ёй! – издевательски протянул Сава. – Поезд! Поглядите, люди, где меня поезд оставил! Одумайся, батя, и успокойся, чтобы не стать нам с тобой на все село посмешищем!
– Сава, голубчик, – смягчился старик, – садись, потолкуем с тобой по-хорошему. Только ты покушай сперва, потому как человек на голодное брюхо одно понимает, а на сытое – совсем иное. Гляди-ка, я тебе яички сварил, ну точь-в-точь как покойница мать варила. Только вода булькнет, она их сейчас и сымет, а ежели они переварены, собакам кинь!..
– Сам кидайся, хоть к чертям собачьим! – заорал Сава. – О чем еще толковать, когда ты пьян или с ума своротил! Немедля иду за Танцей и привожу ее в дом. Точка.
Поздно, – засмеялся Флоря. – Стреножили ее навроде лошадки, привязала мать к ножке кровати и держит. Сходи, сходи, сам убедишься. Стар я врать.
До зеленого змия упился, точно, думал Сава, перемахивая через изгородь. Но коли понадобится, я и с чертом поквитаюсь, не то что с Буркой. Сей же час пойду и заберу Танцу!
Бурка давно ему поперек горла встала. Как ни зайдешь к Танце зимой поболтать или просто поглядеть, как она шерсть прядет, Бурка всю комнату, словно печь, загородит, десять юбок на ней колом торчат, стоит – и ни с места. Вот ведьма толстозадая, так и норовит мне свинью подложить!
Хата Бурки, изукрашенная деревянной резьбой, стояла на отшибе неогороженная, четко выделяясь чернотой на фоне светлого неба. Спят, решил Сава, но и мертвого трубой подымешь! И потихонечку три раза свистнул под окном у Танцы.
Но вместо Танцы в окне появилась растрепанная, заспанная Бурка.
– Ишь шастают, полуночники! – закричала она. – Убирайся, покуда цел, кипятком ошпарю!..
– Это за что же, тетушка? – изумленно спросил Сава. – Или прогневал чем?
– А-а, это ты? – признала Саву Бурка. – А я было подумала– опять Кавалеру, разбойник. Он давеча приходил, Танцу уговаривал гусей на ярмарку нести. А тебе чего не спится? Ступай на Дунай, да и свисти сколько влезет, а людей не тревожь.
Та-ак, подумал Сава, без батьки не обошлось.
– Мне бы с Танцей поговорить.
– Вот и ищи, где она есть, твоя Танца. Ей, видать, и без тебя не худо.
– Сама замуж норовишь, а девку под замком держишь? – озлился Сава.
– Замуж? Да ты что, белены объелся?
– Ты мне голову не морочь, а то я не знаю, на чье плечо голову клонишь. Да только префектов жеребец раньше тебя копыто приложил! Седина в голову – бес в ребро! Стыд потеряли! Своих детей в глазах народа позорите. Не видать вам рисового поля! Ни тебе, ни отцу. Работать забыли, бьете по целым дням баклуши, вот вам всякая дичь в голову и влазит.
– Окстись! – проговорила Бурка и захлопнула окно.
– Ах ты, лахудра брэильская, – тихо ругнулся парень, – врезать бы тебе пару горячих пониже спины!
Июньская ночь, посеребренная нежным лунным светом, дышала горячей сухостью. Саву только сейчас обдало ее палящим жаром, и он расстегнул ворот на рубахе. Все равно Танцу вытащу, упрямо подумал он и, обогнув дом, полез по шаткой лестнице на чердак. Но и чердак оказался на запоре. Этого он не ждал и застыл, раздумывая, что делать дальше. В сонном воздухе над селом плыла протяжная песня – пели девушки. Пойду поищу Нику Бочоаке и Вили Маняке, решил он.
Он уже начал было спускаться по скрипучей лесенке, как вдруг заметил привязанную к водостоку бумажонку. Сава развернул и прочитал нацарапанные Буркой каракули:
«Штоба дал нам щастя бох, дал нам добры мысли бох будем с Флорей варкавать мы точно пара галубков».
– Ну и голубки! – рассвирепел Сава. – Черта вам лысого в ступе, а не голубков. Что Бурка, что Флоря, вот парочка – сдурели на старости лет!
И, смяв в ярости Буркин цветок чертополоха, швырнул его в навозную кучу и зашагал к виноградникам.
Несолоно хлебавши, Жан Кавалеру отправился после Бурки пытать счастья к Флоре Пелину.
– Вот гость дорогой! – встретил его старик. – Милости просим, милости просим. По гостю и честь. – Старик поклонился чуть не до земли и, усадив Кавалеру за стол, предложил: – Может, в картишки перекинемся?
– С превеликим удовольствием, дядюшка Флоря, – ответил Кавалеру, совершенно сбитый с толку ласковым приемом.
Старик взял с посудной полки колоду карт и принялся тасовать.
– Эхма! Ведь я тебя эвон каким махоньким помню. Ну, прям мышонок, мелочь пузатая, даже батька твой тогда убивался. И до того ты был мелкий, что сам даже через канаву перескочить не мог, вот он и приспособил овчарку– тебя переносить. Схватит она тебя за шкирку и на другую сторону – прыг! Люди-то про тебя и говорили: ваажный человек будет. Вот ты и стал важной птицей. Я нынче Саве своему говорю: «Уважь ты Кавалеру, дозволь гусей на ярманке закупать…»
– Не хочет, – вздохнул Кавалеру. – Сердит на меня, видно. Только вот какую я штуку удумал: буду с плота у переправы торговать. Пусть попробует меня вытурить. Скандал учиню!.. Я уж и объявление написал, в конторе повесил: кто, мол, имеет гусей на продажу, милости просим прямо на Дунай. Лишь бы пацанье не пронюхало…
– Так ты моего Саву обмануть надумал?! – взъерепенился старик. – И в кого ж ты такой вороватый да ушлый уродился, батька-то у тебя человеком был!
– Дядюшка Флоря, – обиженно протянул Кавалеру. – Да разве ж можно такими словами бросаться?
– Да по физиономии видно – пройда. Кого хошь спроси… Дама! – выкрикнул старик, входя в азарт. – Будь у тебя шестерка да семерка, было бы тринадцать. А так ты в дураках! Как же мне тебя наказать? На закорках меня понесешь до двери и обратно? Или, может, две плюхи тебе отвесить, а? Мы с твоим батькой друзья-товарищи были, потому можешь выбирать…
– Коли выбирать, – обрадовался Кавалеру, – тогда я проскачу от стенки до стенки на одной ноге.
– Ты что, в Дунае купался – вода в уши налилась? Какое ж это наказание? Удовольствие одно! Надо что-нибудь такое, чтоб на всю жизнь помнилось. Вот оно как!..
– Ладно, – согласился Кавалеру, – будь по-вашему, только рассчитываться потом будем… А вы мне лучше скажите, что вы насчет плота думаете?
Положь карты и нишкни! – кипятился старик. – Ишь чего надумал. Плот! Сава, он знает, что делает. Раз решил он, так тому и быть. Как он есть начальство, ему все видней. Сава себя обдурить не даст. Я его учу: «Поставили тебя начальником – соображай, вари котелком, управляй как след, а нет – мы из тебя живо потроха вынем да на угольях поджарим».
Вот вы и научите его, – уговаривал Кавалеру. – Я в долгу не останусь, подарок завтра сделаю. Телятинки на жаркое и три бутыли вина.
Брешешь! Нет у тебя телятины. И взять неоткуда – в закуте у тебя два жирных борова. И закон не дозволяет сейчас телков резать.
– Закон не дозволяет! – передразнил Кавалеру. – Это вы так считаете. А я не считаю. Захочу, так целое стадо зарежу. Если с умом за дело взяться, никакой закон тебе не помеха, еще спасибо скажут.
– Ну и как же взяться? – полюбопытствовал старик. – Говори!
– А вот как. Берешь бычью шкуру, кладешь в воду, чтобы хорошенько отмокла, и натираешь шкурой рельсы на путях перед приходом скорого. Телята-то рядышком там пасутся. Как почуют они бычий запах, тут же как оглашенные на него и кинутся. А по ним – поезд. Глядишь, у одного нога переломана, у другого хребет, и порядок, только от ветеринара бумажкой заручиться.
– Здорово! – восхитился старик. – А совесть куда девать? В бочку ткнуть, заместо бычьей шкуры? И кто ты такой есть, хотел бы я знать, честный работник или фармазон?
– Да ладно вам. Это ж я так, для интересу. Сдурел я, что ли, голову в петлю совать? Мне ж кооператив шею свернет. Башкой моей все стены пересчитают.
– И поделом! Жалованье от государства берешь, а на общее добро заришься. Что зенки-то вылупил, ровно валет, что у тебя в руке? Ну-ка выкладывай его на стол.
– Вы, однако, шутки шутить любите, и это мне в вас нравится, – сказал Кавалеру. – Нету у меня на руках картинок. Вот четверку могу дать… Учтите, я человек чуткий, я многим помог.
– Опять брешешь! – засмеялся Флоря Пелин. – Самолично знаю двоих, что пришли к тебе денег подзанять, а ты им от ворот поворот.
Деньги! Деньги – дело другое. От них кругом неудобство: даешь одной рукой, а потом десяти ног не хватит, чтобы получить долг обратно. Но я не скряга, нет. Хотите, одолжу фату моей жены и венок флердоранжевый для невесты… Вы ведь жениться надумали, как я слышал…
Свадебной гульбы устраивать не буду. Мне не двадцать годов, да и у Бурки дочь на выданье… скромно отпразднуем…
– Хе-хе! – хихикнул Кавалеру и погрозил пальцем. – Видел я, как вы с ней на берегу Дуная беседовали… Огонь баба! И тело сдобное, много тела!
– Ну чего ты видел? Чего видел? Что видно-то было? Привел я водовозную кобылку на Дунай поить, а тут Бурка аккурат у брода купается. «А ну! – кричу. – Вылезай, чего воду баламутишь?» А она мне: «Я бы вылезла, Флоря, да кобылки твоей стыжуся». Да за такие речи бабу мокрой вожжой приласкать надо. А тебя, говорят, жена и приласкала. Морда-то у тебя кирпича так и просит! Вот она тебя и отрапортовала, чтоб на ярманку завтра с гусями-то, а?.. и насчет пацанят она небось надоумила, а?