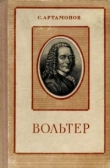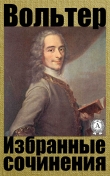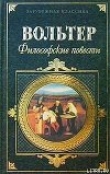Текст книги "Французская повесть XVIII века"
Автор книги: Франсуа Мари Аруэ Вольтер
Соавторы: Дени Дидро,Жан-Жак Руссо,Ален Лесаж,Франсуа Фенелон,Шарль Монтескье,Жак Казот,Клод Кребийон-сын
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 42 страниц)
РЕТИФ ДЕ ЛА БРЕТОН
МОНАХИНЯ ПОНЕВОЛЕ
Перевод Э. Линецкой
Читатель помнит, что в двадцать второй новелле{250} шла речь о матери семейства, чей муж, воротившись из Америки столь же бедным, сколь все полагали его богатым, ухитрился найти выгодные партии для шестерых своих дочерей и единственного сына. Ее старшая сестра отличалась не меньшей красотой, чем она, и еще большим любострастием. У их отца, прославленного адвоката, состоял на службе молодой писарь по имени Деброн, очень красивый собою. Вот в него-то без ума и влюбилась Эвстаки Грассе. Нечего было думать, что родители согласятся на ее брак с ним, поэтому влюбленная Эвстаки прибегла к способу, которым в таких случаях всегда пользуются девицы, равно лишенные щепетильности и почтительных чувств, когда хотят выйти за своих избранников наперекор воле тех, кому обязаны жизнью. Это было тяжким ударом для столь богобоязненных и степенных людей. Но беда уже случилась, и, чтобы хоть немного ее исправить, оставался единственный путь – выдать дочку замуж. И они обвенчали ее с Деброном.
На свет явилась девочка – несчастный плод этого первого порыва страсти. Все, что ее матери пришлось перечувствовать – раскаянье, стыд, сожаление, даже, быть может, угрызения совести из-за горя, причиненного родителям, – все это превратилось в ненависть к ни в чем не повинной Элеоноре. Она отлучила дитя от груди и до пяти лет продержала в деревне у кормилицы. Сделала это г-жа Деброн для того, чтобы никто из родных, особенно же ее муж, не привязался к малышке. Она забрала девочку домой, когда той уже сравнялось пять лет, не озаботившись хотя бы раз повидать ее до этого, в твердой уверенности, что сельское воспитание отвратит всех от ребенка, а также что мать вправе запереть свою дочь в монастырь. Но как жестокая просчиталась! Элеонора была чудом прелести, сельское простодушие лишь оттеняло ее невинность и чистоту; стоило ей появиться, и она полюбилась всем – отцу, деду, бабке, тетушке, тогда еще совсем молодой. Г-жа Деброн рвала и метала, но в ту пору ей пришлось смириться. Элеонора выросла в доме деда – он взял ее к себе, видя, что она не мила матери, приписывая, однако, эту несправедливость стыду и раскаянию и поэтому прощая. Прошло несколько лет, и Элеонора восхитительно расцвела; природа сочетала в ней все самое трогательное с самым прекрасным.
Через год после Элеоноры у г-жи Деброн родился сын. Уже говорилось, что в семье, к которой принадлежала и она, и г-жа Линар, дети всегда шли в мать и наследовали редкостную красоту; добавьте к этому, что муж старшей тоже был красивый мужчина, поэтому их сын блистал среди мальчиков, как Элеонора – среди девочек. Юный Деброн стал кумиром матери, и такова была злосчастная судьба этих первин любви и брака, что г-жа Деброн потеряла обоих: дочь – вследствие своей жестокости, сына – вследствие попустительства, еще, может быть, более преступного. Брат Элеоноры с детских лет испытывал к ней… скажу ли – нежность? Нет, никогда нежные чувства не пускали ростков в этом растленном сердце, которое впитало порок как бы с первым глотком воздуха, проникшим в младенческие легкие; он любил сестру подобно одержимому, и эта роковая приверженность еще более омрачила судьбу кроткого и пленительного создания.
Дед и бабка задались целью пораньше выдать Элеонору замуж и таким путем избавить от власти ненавидящей матери, хотя даже отдаленно не представляли себе, как яростна эта ненависть. Они собирались обеспечить внучку порядочным состоянием, чтобы та сделала выгодную партию. К несчастью, дед Элеоноры скоропостижно умер от тяжкой болезни, за ним последовала и его вдова. Она оставила завещание, но распорядилась в нем состоянием мужа как будто со своим собственным, так что воля ее при первом же рассмотрении была признана недействительной. И на Элеонору обрушились все беды, от которых ее хотели оградить почтенные старики.
Когда она переселилась к матери, г-жа Деброн, не в силах обуздать ненависть, в первый же вечер заявила мужу, что не может жить под одной крышей с дочерью. Тут следует сказать, что к этому времени у нее, кроме Элеоноры, было еще трое детей, трое мальчиков. Г-н Деброн питал горячую любовь к единственной своей дочери, но кто устоит против фурии в обличье жены? Пришлось уступить, пришлось отдать девочку в монастырь. Ценою такой жертвы он надеялся обрести спокойствие. Но, заперев дочь в четырех стенах обители, г-жа Деброн немедленно принялась уговаривать монахинь пустить в ход все средства, только бы заставить ее принять постриг. Надо сказать, что Элеонора к этому времени была уже весьма разумна; приученная бабушкой именовать своим муженьком юного сына одного из адвокатов, сотоварищей деда – этих детей хотели соединить впоследствии браком, – она от пострига отказалась. И тогда г-жа Деброн приступила к мужу с требованиями, чтобы он своей отцовской властью принудил дочь принять монашество. Сперва Деброн противился с твердостью истинного мужчины и хорошего отца, но года через два сдался: жизнь его пропиталась желчью, недовольство, ссоры полнили каждый день… А наши законы, наши варварские законы не ставят никаких препон этому преступлению, которое вершат женщины, – напротив, если муж в подобном случае отпустит одну-единственную пощечину, несправедливые законы карают его разделом имущества и запрещением управлять состоянием жены! О римляне, о греки, вы были в тысячу раз мудрее, чем мы, когда дали мужьям право над жизнью и смертью их жен! Женщина, обвиненная в том, что оскорбляла и тиранила супруга, должна была предстать перед членами обоих семейств, и, если ни у кого не находилось доводов в ее защиту, муж выносил ей приговор. Я взываю к тебе, благодетельный закон, положи и у нас предел обманам, преступлениям, мерзостям, злобным и коварным делам француженок, развращенных нашими умниками, этими низменными мужчинами, которые непрестанно внушают им, что и они, женщины, тоже мужчины!.. Но к чему я это говорю? Увы! Никто не прислушается ко мне, не поймет моих доводов, а некий А. или бесстыжий автор «Журналь де Нанси»{251} меня же и оклевещет. Так что ограничимся бесплодными пожеланиями.
Деброн отдал дочь на заклание и этим купил мир в доме. Жена продиктовала ему письмо к настоятельнице монастыря, он его подписал. После этого он зажил спокойно, но его несчастная дочка оказалась во власти монастырских фурий. Стоит ли описывать преследования, уловки, хитрости, обманы, интриги, с помощью которых пытались заставить Элеонору принять постриг? Увы, это невозможно, и я ограничусь тем, что приведу здесь слова, обращенные однажды к Элеоноре монахиней, на которую ей всегда указывали как на самую здравую и счастливую в обители.
«Дорогая сестра, – сказала она (ибо те, у кого нет ни отца, ни матери, ни детей, ни братьев, ни сестер, всех называют братьями и сестрами и всех принуждают именовать себя „отец мой“, „мать моя“, хотя Евангелие это запрещает), – в миру вы обречены на погибель, и тем она вернее, чем больше вы взысканы земными и плотскими преимуществами. И потому, чем вы красивее, тем угоднее будете господу, если принесете ему в жертву всю себя. Вам ведомо, скольким опасностям подвергается в миру спасение нашей души; особливо же трудно, почти невозможно, спастись тем, кто вступил в брачный союз. Женщина выходит замуж – и какие надругательства над чистотой претерпевает она, не смея оградить себя от них! Наш божественный Спаситель завещал нам блюсти целомудрие – и, значит, мы избрали благую часть, он сам сказал это Марте, ставя ей в пример Магдалину,{252} которая, сидя у его ног, внимала ему, презрев мирскую суету. Так что, дорогая сестра, достойные ваши родители пекутся единственно о вашей пользе; их любовь куда надежнее и благотворнее для вас, нежели любовь ваших дедушки и бабушки, которая лишена была духовности и, быть может, послужила бы причиной вечной вашей погибели. Ободритесь же душой, дражайшая сестра, господь ждет от вас не такой уж тяжкой жертвы, он лишь хочет, чтобы вы соблаговолили обрести счастье у подножия святых его алтарей, как обрели это счастье все мы… Стоит вам произнести обет и бесповоротно связать себя со Спасителем, и мирская жизнь начнет внушать вам не меньший ужас, нежели пучина моря или пасть дикого зверя человеку, которому удалось из них вырваться. Мирская жизнь враждебна господу, враждебна испокон веков; если хотите иметь истинное представление о ней, возьмите у меня на время эту книжечку и прочитайте ее: она написана блаженным Хуаном де Палафоксом,{253} епископом Осмийским, и называется „Духовный пастырь“. Эта полезная книга развеет последние ваши сомнения.[27]27
Когда же наконец будет покончено с этими нелепыми, жалкими бреднями сумасбродных голов! (Прим. автора.)
[Закрыть] Не отвращайте, дражайшая сестра, глаз от светоча истины – вам с рождения назначен счастливый удел, недаром небо, словно за руку, привело вас в эту святую обитель, отняв тех, кто мог бы удержать в миру, и свершив перемену в сердце вашего отца, который, питая к вам слишком земную привязанность, сперва противился святому вашему предназначению. Увы, как он был слеп!.. Будьте ж признательны, дражайшая сестра, за свою судьбу: вы уподобитесь святой гостии, которую мы, свершая благочестивый обряд, ежедневно приносим в жертву господу, и на ваше семейство снидет вышнее милосердие. У вас есть братья – сколько проступков свершат они в миру, а вы, дорогая сестра, вы с помощью жарких молитв станете орудием и причиной вечного их спасения; всевышний не отринет вашей мольбы, вы будете перед ним их предстательницей – о, какое это славное поприще!. Вы собственными своими силами вырвете их из пасти дьявола, и придет день, когда, торжествуя, приведете их всех, – отца, мать, братьев – к подножию трона, где восседает предвечный, и скажете: „Господи, вот они, те, за кого я так часто и так слезно молилась“. И тогда всевышний, и пресвятая богородица, и святой предтеча, и апостолы, и все святые улыбнутся и, вняв вашей молитве, примут их всех вслед за вами в лоно вечного блаженства».
Окончив эту речь, сестра Доротея залилась горючими слезами; Элеонора была ими растрогана, но, обладая на редкость здравым смыслом, сдаться на такие доводы не могла.
Настоятельница потому научила этой речи Доротею, что ни у одной из монахинь не было голоса нежнее, тона проникновеннее, души чувствительнее; теперь она подслушивала у дверей, и Доротея, зная об этом, закрыла рот Элеоноре, когда та, ничего не подозревая, хотела ей ответить. Настоятельнице так понравилась составленная ею речь, что она вложила копию с нее в письмо к г-же Деброн, добавив в конце, что «уже испробовала ее действие на нескольких юных особах и переломила их». Г-жа Деброн позабыла убрать письмо со стола, его увидел старший ее сын, о котором уже было кое-что сказано вначале, прочитал и пришел в бешенство. Схватив письмо, он бросился к матери, которая была в это время у себя и совершенно одна.
– Итак, сударыня, вы замыслили постричь мою сестру в монахини? – гневно приступил он к ней.
– Я не собираюсь отчитываться перед вами, сударь.
– А придется: я ваш старший сын, вы должны дать мне отчет, живет ли в вашей душе доброта, живут ли в ней истинно материнские чувства. И если вы бесчеловечная мать, я больше не признаю вас, гнушаюсь вами.
– Мой сын!.. Неблагодарный, я слишком сильно его любила!
– Любите меньше и выделите сестре ее часть.
– Господин Деброн, вы забываетесь, вы обязаны питать ко мне уважение.
– Мне не нужна нежность, отнятая у сестры, я не желаю делить с вами несправедливость, не то стану таким же преступным и бесчеловечным, как вы.
– Сын мой, вы настоящее чудовище.
– Что ж, значит, я пошел в вас. Вы тоже чудовище, если приведете в исполнение ваш мерзкий замысел. Итак, с помощью подобных благоглупостей, подобного пустословия собираются оскорбить природу, запереть в монастырь, приговорить к безбрачию превосходно сформированную девушку, созданную, чтобы любить, наслаждаться, давать жизнь мальчикам, таким же красивым, как я, и девочкам, таким же очаровательным, как она!.. Сударыня, скажу вам только одно: или моей сестре вернут свободу, или я подожгу монастырь и… (Конец угрозы этого сына, вполне достойного своей матери, надлежит обойти молчанием.)
Г-жа Деброн задыхалась от гнева, но так велика была ее слабость к этому избалованному, боготворимому чаду, что, когда он ушел от нее, она, лишь за него беспокоясь, ни слова не сказала мужу о разыгравшейся сцене. Меж тем Деброн унес письмо настоятельницы, дал своим приятелям снять с него копии и распространил так широко, словно это было печатное издание. Письмо вызвало негодование у всех порядочных людей, на г-жу Деброн посыпались упреки, но та, что не уступила своему избалованному отпрыску, сумела бы противустоять целому миру.
Меня спросят, как это возможно, чтобы сын разговаривал с матерью подобно Деброну? Ответить на такой вопрос лучше всего рассказом о поведении этой матери со своим распущенным сынком. К тому времени, когда ему исполнилось восемнадцать лет, а его сестре – девятнадцать, он уже года два как подвергал снисходительность г-жи Деброн жесточайшим испытаниям. Не будем останавливаться на чертах, отличающих всякую мать, слепо преданную сорванцу, который ловко этим пользуется; г-жа Деброн, безжалостная к дочери, лишь смеялась над непослушанием сына, над его дерзкими выходками, над нестерпимыми обидами, которые порою он ей наносил. Например, однажды, в многолюдном обществе он попрекнул ее тем, что дочь свою она ненавидит из-за… Все вознегодовали, но мать стала его оправдывать необузданностью нрава, вспыльчивостью, горячей кровью, которую он не в силах охладить, объясняя эти свойства припадками раздражительности, одолевавшими ее в пору беременности.
– Раз он унаследовал мои недостатки, – добавила она, – я должна их терпеть: он и без того несчастен, получив от меня такой подарочек.
Но вот какому испытанию подверг он снисходительность г-жи Деброн, когда ему едва сравнялось шестнадцать лет; узнав об этом происшествии, вы поймете, что подобный господин способен на все.
У Дебронов с самого дня их свадьбы жила в услужении кухарка. Другой прислуги у них не было, так что работать ей приходилось сверх меры. Наконец она попросила позволения у хозяйки взять себе в помощь племянницу. Г-жа Деброн охотно согласилась, довольная, что у этой превосходной служанки будет под началом девушка, которой она вправе командовать. (Такая добрая хозяйка и такая дурная мать! Человеческое сердце неисповедимо.) Племянница была очень миловидна от природы, а когда прожила несколько месяцев в городе и тетка приодела ее, да и у нее самой развился вкус, она стала по-настоящему соблазнительна. Тут вернулся молодой Деброн – он все эти месяцы провел с отцом за городом. Жаннетта необыкновенно ему понравилась, и он вбил себе в голову, что либо соблазнит ее, либо овладеет силой – ему это, в общем, было безразлично. Красивый собой, он, однако, в соблазнители не годился – слишком уж был надменный и наглый в обхождении. Так что успеха он у Жаннетты не имел.
Сопротивление разожгло в нем животную похоть. Он прикинулся, будто охладел, будто и внимания не обращает на служанку, и стал выжидать удобного случая. Случай представился, когда в какой-то праздничный день все ушли из дому. Считалось, что ушел и Деброн, иначе тетка ни за что не оставила бы племянницу без присмотра. Не испытывая и тени беспокойства, Жаннетта решила на досуге заняться туалетом; она мурлыкала песенку, даже не прикрыв дверей своей комнаты. Когда она почти донага разделась, Деброн, подглядывавший за ней, бросился на девушку, как тигр на добычу. Его лицо, жесты, нрав, хорошо всем известный, привели Жаннетту в такой ужас, что, обеспамятев, она упала. Но и это не остановило неистового Деброна, он обесчестил ее… Опомнившись, Жаннетта пришла в отчаянье. Она разрыдалась и, видя, что злодей не только смеется над ее слезами, но бросает взгляды, предвещающие новые покушения, обняла его колени, умоляя сжалиться. Но скорбь, но рыдания были для Деброна лишь острой приправой к блюду; он потребовал, чтобы на этот раз она уступила его желанию добровольно, обещая оставить затем ее в покое. И он не скупился на такие страшные угрозы, что, испугавшись за жизнь, Жаннетта смирилась и претерпела все унижения, какие только способен изобрести вконец развращенный молодой негодяй. Тем временем все воротились домой. Первая пришла г-жа Деброн и сразу кликнула для каких-то услуг Жаннетту. Та не отозвалась, хозяйка заглянула к ней в комнату и обнаружила ее там – растрепанную, еле живую, с окровавленным лицом, – Деброн закатил ей несколько таких пощечин, что у нее кровь хлынула носом; на расспросы Жаннетта отвечала лишь всхлипываниями. Понятия не имея, что сын ее никуда не отлучался, перепуганная г-жа Деброн решила, что в доме побывали грабители, но у Жаннетты хватило сил назвать имя ее отпрыска. Надо признать, что, глядя на девушку, такую еще молоденькую, она сама заплакала, потом побежала в спальню к сыну; тот в это время, напевая какой-то куплет, тщательно заклеивал английским пластырем царапины на щеках. Впервые в жизни она заговорила с ним жестким тоном, но наглец захохотал в лицо своей слабодушной матери и даже посмел заявить с издевкой, что женщины в таких случаях только прикидываются, будто недовольны.
– Взять, к примеру, хотя бы вас, – добавил он с неслыханным бесстыдством.
Г-жа Деброн занесла было руку для пощечины, но тут в комнату ворвалась как фурия тетка Жаннетты, узнавшая от племянницы, что произошло и кто виновник насилия. Внезапно набросившись на Деброна, она повалила его на пол и, не обращая внимания на вопли и заступничество матери – вполне достойной своего сына, – привела его в состояние, немногим лучшее, нежели состояние Жаннетты. Мерзавец выл как дикий зверь, но тетушка была неумолима, отталкивала хозяйку и твердила, что должна его убить. Шум стоял оглушительный, и в этот момент появился г-н Деброн. Не добившись объяснений, он оттащил кухарку от сына, однако, уверенный, что правота на ее стороне, запер того у себя в спальне, а уже потом занялся женой, почти лишившейся чувств. Едва придя в себя, г-жа Деброн, стремясь опередить мужа, пошла к тетке Жаннетты, разыскала ее в комнате несчастной племянницы и под страхом самой жестокой кары воспретила открыть правду г-ну Деброну, посулив одновременно всевозможные блага, обещав даже наказать сына и простить кухарке заданную ему трепку… Но можете ли вы представить себе, чем все это кончилось? Да тем, чего и следовало ожидать от преступного попустительства матери, способной в то же время бесчеловечной своей ненавистью сгубить родную дочь. Негодующая природа мстит ей, вселяя презренную слабость к другому ее чаду. Деброн сделал вид, будто он в отчаянье, будто сходит с ума, наподобие юного Антиоха, влюбленного в Стратонику,{254} будто умирает от любви (отлично себя при этом чувствуя), и его мать, его слабодушная мать так низко пала в своем попустительстве, что стала упрашивать кухарку согласиться на тайную связь племянницы с Деброном; она пустила в ход подарки, мольбы, слезы и в конце концов добилась своего… Не будем долее задерживаться на этой гнусности, вдвойне преступной, ибо несчастная Жаннетта утратила всякую благопристойность и, сперва удивив столицу роскошным своим существованием, ныне томится в исправительном заведении, куда тайно была заключена неким епископом, дядей ее последнего любовника.
Теперь, когда вы познакомились с Деброном, вас не удивит, если он и впрямь исполнит свою угрозу, если с десятком дружков впрямь подожжет монастырь, похитит свою сестру и даже обойдется, как с Жаннеттой, с любой не слишком уродливой черницей.
А Элеонору после таких угроз ее брата начали еще больше донимать монахини требованиями принести обет, стать послушницей. После разговора с сестрой Доротеей она ни разу не оставалась наедине с ней. Но однажды, по непредвиденному стечению обстоятельств, они оказались лицом к лицу в обширном монастырском саду. Сестра Доротея тяжко болела; никто не думал, что она решится выйти на прогулку, только поэтому и произошла встреча, которой с полным основанием опасались монастырские власти. Завидя молодую монахиню и полагая, что та снова начнет читать ей наставления, Элеонора попыталась свернуть в сторону.
– Не убегайте от меня, Элеонора, – слабым голосом позвала Доротея, – дни мои сочтены, и я всюду ищу вас: я не хочу, расставаясь с жизнью, мучиться из-за того, что способствовала вашему несчастью речью, которую подслушивала настоятельница; она сама сочинила эту речь. Я, как вы, жертва неправедной матери и приговорена к жесточайшей пытке – к довременному истлеванию. Меня, одаренную всем, что потребно для поприща жены и матери, избранницу юноши, который и мне был по сердцу, меня вырвали из отчего дома и бросили в этот гнусный вертеп, где под предлогом служения богу оскорбляют божество, принуждая нас отказаться от естественного предназначения. Чем вы красивее, говорят нам, чем чувствительнее ваша натура, тем достойнее вы господа! Какое страшное кощунство! Неужели эти презренные не разумеют, что они превращают бога в тирана, подобного им самим! Праведного бога, который только и хочет, чтобы мы не оставляли втуне дарованные нам способности и не в бездействии и бесплодии видит совершенство, потому что он есть Деяние и создал человека по своему образу и подобию! О времена невежества, как исказили вы все человеческие представления! Почему, почему просвещенная философия, ознаменовавшая наш век, не воцарилась семь столетий назад![28]28
Возможно ли исчислить блага, даруемые философией? О Вольтер, о великий человек, которого оскорбляют пигмеи, тебе обязан этот век своей просвещенностью! Deus nobis hoes otia fecit. (Прим. автора.)
[Закрыть] Мы с вами не по доброй воле будем принесены в жертву. Пусть бы жестокосердные люди, которых ничуть не тревожит подобный жребий, пусть бы они хотя день побыли на нашем месте, вот тогда бы они забили тревогу из-за неисчислимого множества несчастных женщин во Франции, в Испании, в Италии, во всех католических странах!.. Нет, дорогая Элеонора, не свои убеждения высказала я вам в прошлый раз; я-то считаю насильственный постриг ужасающим преступлением наших родителей; более того, даже когда мы сами его избираем, все равно я не вижу в нем добродетели. Разве что недужные имеют право сбросить с себя бремя долга, того долга, который предписан нам не деспотом, а Природой, нашей возлюбленной матерью, уснастившей его исполнение радостями, блаженством, наслаждениями. Вспомните, как смотрят на нас женщины, даже те самые, что принуждают заживо лечь в могилу, будто мы негодный хлам, как по-разному относятся они к нам и к достойным матерям семейств! Вспомните, какое высокое положение занимают эти матери в обществе, как все уважают их, как почитают! А мы, увы, по людским законам мы мертвы с того самого дня, как даем монашеский обет; мы жалко прозябаем, лишь обременяя землю, и, когда к нам действительно приходит смерть, первые радуются ей все они же, те, что обрекли нас столько лет заживо истлевать! Взгляните, дорогая сестра, взгляните на меня, обездоленную! Явившись на свет по случайному совпадению обстоятельств, я в необъятном океане вечности лишь пылинка, которой отпущен лишь миг, но и он показался слишком долгим тигрице, давшей мне жизнь, она отнимает его у меня, не позволяя мне продлить себя в детях, делает все, что в ее силах, только бы приговорить к бесследному исчезновению, и дивный, бесценный дар жизни превращен для меня в ничто! В каком я отчаяньи, милая сестра! Мне уже не сбросить цепей, не вырваться из этих стен. Почему, почему я не вырвалась из них, когда была здорова и сильна, не бежала на волю хотя бы с самым нищим из поденщиков! Я стала бы его подругой, трудилась бы наравне с ним, терпела бы холод и зной, была бы окружена нашими детьми, исполнила бы предназначенное природой. Может быть, кто-нибудь из этих бедных детей пробил бы себе дорогу в жизни… Но что я говорю! Нет, я не желаю этого – ведь, как знать, моей дочери был бы сужден вот такой же удел… Вы видите мое отчаянье, дорогая Элеонора, пусть оно послужит вам уроком: лучше, гораздо лучше принять любые мучения, нежели связать себя этими путами. Ни за что не соглашайтесь на постриг. Ваша мать, эта фурия, может статься, умрет… Но если бы сегодня умирала моя мать, она, бесчеловечная, радовалась бы в тайниках своего жестокого, свирепого сердца и твердила: «Та, кого я ненавижу, не переживет меня, она уже мертва… Все ее желания останутся втуне…»
Жестокосердные матери – какие это отвратительные чудовища! Прости меня, святой творец природы! Ты повелеваешь любить отца своего и свою мать, но нет у тебя заповеди, повелевающей любить своего палача. Когда же придет конец этому пагубному заблуждению, которое меня обращает в тлен? Когда же люди уразумеют, что обряды, свершаемые над нами, порождены кровавыми жертвоприношениями Молоху? Как, как могут терпеть подобное просвещенные служители церкви? О, я понимаю суетную причину их долготерпения – они жаждут умножить число своих подданных, а власть их над нами особенно велика. Их стремление повелевать, короче говоря, гордыня – вот источник наших бедствий.
С этими словами она, обессилев, упала на руки к Элеоноре; та, перепугавшись, стала звать на помощь. Сбежались монахини, Доротею перенесли в келью. Придя в сознание и чувствуя, что умирает, она собрала последние силы, сорвала наметку, разодрала куколь, отбросила все знаки монашеского сана, до которых смогла дотянуться, и произнесла:
– Да не предстану пред тобою, господи, с клеймом моей отверженности!
Слова эти, к великому неудовольствию настоятельницы и старейших монахинь, слышали все послушницы, все пансионерки. Минуту спустя Доротея умерла. Пустили слух, будто перед смертью она потеряла рассудок, но Элеонора, своими ушами слышавшая ее здравую, разумную, глубоко прочувствованную речь, была в ужасе от столь безмерного отчаянья.
Смерть Доротеи наделала шуму и побудила молодого Деброна ускорить исполнение своего дерзкого замысла. На следующий же вечер, часов в одиннадцать, он и несколько его приятелей, надев маски, подошли к монастырю, перелезли через садовую ограду, проникли в здание, вломились в первую попавшуюся келью и, приставив кинжал к горлу монахине, потребовали, чтобы она проводила их туда, где спали пансионерки. Четверых самых хорошеньких, отданных в обитель против воли, они увезли с собой. Так задумал Деброн, чтобы, во-первых, не остаться в долгу перед сообщниками и, во-вторых, боясь, как бы не стало слишком очевидным, что цель всей затеи – его сестра. Четыре почтовых кареты стояли наготове, и молодчики умчались, не причинив больше никакого вреда монастырю. Назавтра разразился страшнейший скандал. Здравомыслящие люди содрогнулись, дураки завопили о профанации, о святотатстве, родители девушек, истребовав ордера на задержание, бросились в погоню за похитителями. В том, кто они такие, ни у кого сомнений не было. Но, ко всеобщему удивлению, заподозренные юнцы вечером появились в городе – они вернулись с пирушки, устроенной в сельском доме совсем неподалеку. И с легкостью доказали, что не лгут, – их было не меньше двух десятков, так что отсутствия тех четверых, которые умчали юных пансионерок на уединенную ферму, никто не заметил, и свидетельство жителей местечка, где происходила пирушка, обелило всех без изъятия. Что касается девушек, то за стенами монастыря их сразу обрядили в мужское платье – каждый из похитителей прихватил с собой изрядный его запас. В этой одежде девушки прибыли на ферму, и фермер с домочадцами если упоминали о постояльцах, то лишь в мужском роде.
После первого взрыва негодования семьи похищенных пансионерок словно воды в рот набрали, и молодые распутники почувствовали себя в безопасности. Надо сказать, что всем хотелось считать их ни в чем не повинными, а матери четырех девушек были даже довольны происшествием – оно давало им право обойтись с дочерьми со всей жестокостью, на какую были способны их злобные сердца. Следовало бы здесь поименно назвать этих гнусных матерей, дабы общественное мнение предало их позору, но наш развращенный век так щепетилен, что не желает изгонять порок из его последнего укрытия; посторонняя рука все равно вычеркнет эти имена, а если и воздержится, издатель навлечет на себя хулу и осуждение за поступок не столько смелый, сколько справедливый.
В этой истории может удивить то обстоятельство, что из двадцати юнцов, знавших о тайне, ни один не проболтался, но вспомните, все двадцать были порочны и все, как один, притязали на четверых пансионерок. Так что, едва явилась возможность незаметно отлучиться, десять из двадцати под водительством Деброна отправились на ферму и препроводили свою добычу в другое убежище, расположенное в лесу. Оставшиеся десять, узнав об этом, решили, что юные особы отнюдь не корчили из себя святош, поэтому четверо молодчиков помчались в новое обиталище, и там, заперев двери на ключ, дерзнули приступить к пансионеркам с предложением того, что было целью их путешествия. Получив решительный отпор, они пустили в ход силу, но с тем же успехом. Вовремя осведомленные о замысле своих сообщников, те десять, что перевезли девушек, бросились на помощь похищенным, но что называли они помощью! Хозяева дома, не посмевшие вступиться за новых своих жильцов, ибо считали их мужчинами, коротко рассказали Деброну и тем, кто был с ним, о диком шуме, который вот уже более трех часов доносится из комнаты, где четверо приезжих заперлись с постояльцами. Деброн с девятью товарищами взломали двери и, увидев, в каком беспорядке одежда девушек, набросились на четверых своих сообщников и чуть было не убили тех. Удержали их сами девушки, втолковавшие разъяренным беспутникам, каковы будут следствия такого преступления. Тогда Деброн придумал месть иного рода: пусть красотки охотою позволят им то, чего другие добивались силой… Подумать только, что пришлось испытать этим девушкам, добродетельным по натуре, но глубоко несчастным! Сестра Деброна пыталась урезонить его, но он ответил, что ее-то никто не тронет. У него были другие виды на Элеонору, еще более преступные, о которых пристойнее умолчать. Своего юнцы не добились. Девушки сопротивлялись, а когда стемнело, сделали попытку убежать, но Деброн с тремя приятелями перехватили их и увезли на ферму, еще более уединенную; там они заперли пленниц и уехали – им пора было показаться в городе. Все четырнадцать – избитые, равно как избивавшие – вместе пустились в путь и, помирившись дорогой, дали друг другу слово держать язык за зубами.
Меж тем Элеонора и три ее товарки с ужасом думали об участи, уготованной им двумя десятками неистовых юнцов, которые, чтобы утолить похоть, не остановились бы даже перед насилием, а потом превратили бы девушек в презреннейшие из существ. Утешаясь единственно мыслью, что сами они неповинны в похищении, пансионерки одобрили предложение Элеоноры написать о случившемся родителям одной из них и всем под этим посланием подписаться. Составить его поручили той же Элеоноре, и она, обратившись к своему отцу, поведала о том, что с ними произошло, и какая им грозит теперь опасность, и как необходима безотлагательная помощь. Письмо они передали через зарешеченное окно конюху, и тот, не теряя времени, вскочил на коня и еще до рассвета доставил его г-ну Деброну.