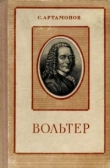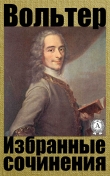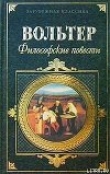Текст книги "Французская повесть XVIII века"
Автор книги: Франсуа Мари Аруэ Вольтер
Соавторы: Дени Дидро,Жан-Жак Руссо,Ален Лесаж,Франсуа Фенелон,Шарль Монтескье,Жак Казот,Клод Кребийон-сын
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 42 страниц)
– Как!.. – вскричал граф, заливаясь слезами. – Мелани велит мне не видеться более с ней!
– Не надо нам волновать чувств друг друга… Расстанемся… В вашем присутствии я чувствую себя виновной пред самой собой, пред богом, кому единственно я принадлежу. Этим словом все сказано; он покарал меня, и я признаю его справедливый суд: да свершится он! Да, это я вонзила кинжал в грудь Люси. Я чувствую всю чудовищность моего преступления… Еще раз скажу, видеться нам не надо более… Прощайте навек!
– О жестокая, – говорит д’Эстиваль, – вы думаете только о сестре, которой лишились, а о моей смерти вам нечего сказать. Ужели вы полагаете, что я хотя бы на мгновение переживу эту роковую встречу с вами? Ужели приятно вам терзать сердце, бившееся доныне единственно ради вас? Сделайте милость, взгляните только на меня… Взгляните на свою жертву: она умирает; это вы, дорогая моя Мелани, вы сведете меня в могилу!
– Я свела туда сестру свою, я еще слышу ее голос, я вижу, как она указывает мне на свой гроб. Ее жалобы, ее укоры звучат даже здесь, в этом печальном убежище, где мне не найти покоя. Что же вы осмелились предложить мне? Чтобы я, над прахом сей несчастной… Прах этот, д’Эстиваль, еще не остыл, а я соединилась бы узами с вами! С мужем сестры моей… Стала бы вашей женой! Ступайте прочь, бегите этих мест, не разжигайте во мне ненависть. Я ужасаюсь себя самой.
Она готовится уйти, граф удерживает ее за руку.
– Сударь, – говорит Мелани отцу графа, – я молю вас о помощи против него, против себя. Д’Эстиваль, – добавляет она, взирая на него очами, затуманенными слезой, – разве я не достаточно изменяла долгу? Долг запрещал мне видеть вас, слышать вас, думать о вас. Д’Эстиваль, если вы любите меня, если я вам еще дорога… Что я говорю, несчастная! Дайте же мне умереть, не совершая новых злодеяний. Нет, вам не знать, вам никогда не знать всех мук, что вы мне причинили, они ужасны, и только смерть может положить им конец.
– Взгляните на своего возлюбленного…
– Возлюбленного! Что я слышу! О, небо, Люси! О, боже мой! Идите, ступайте прочь, говорю вам, прочь навсегда, забудьте, забудьте меня… Ах, я и так слишком поддалась слабости! Прощайте, д'Эстиваль… Прощайте, сударь… Скоро оба вы будете оплакивать мою кончину.
И она порывистым движением бросается вон из приемной, как бы убегая от самой себя.
– Мелани, одно слово, одно только слово! Молю, выслушайте меня! Мелани, одно мгновение! – восклицает граф.
Но Мелани навсегда скрылась из глаз его. Д’Эстиваль впадает в беспамятство, и отец увлекает его к карете.
У бедной Мелани достало сил отринуть все, что было ей дорого; нетрудно понять, что изо всех обуявших ее чувств самым неистовым была любовь. Она сумела пресечь свидание к графом, но все еще следила за ним глазами из монастырского окошка, что-то говорила ему взором; не отрываясь, смотрела она на того, кто был ей всех милей, кого она могла бы любить, чьей женой могла бы стать, если бы не власть непреклонной добродетели, упорно преграждающей путь ее нежным чувствам. Но и жестокая эта добродетель, беспощадно мучившая ее, возможно, отступилась бы, если бы взоры Мелани дольше были прикованы к д’Эстивалю. И впрямь, что это было за зрелище для влюбленной девы, и была ли хоть одна из них влюбленней и несчастней, чем Мелани! Граф, умирающий, навеки разлученный с нею, обреченный, должно быть, на смерть после этого свидания, и она своими руками убивает его, влечет к могиле, в то время как могла бы одним лишь словом вернуть к жизни и сделать счастливейшим из смертных: вот какая картина представала перед ней, разрывая ей сердце! Могла ли требовать еще большей жертвы сестра, чья тень, казалось, никогда не перестанет оглашать воздух жалобными стенаниями? Наконец, когда д'Эстиваль сел в карету, когда она отъехала, когда исчезла, когда он навсегда скрылся вдали, Мелани грянулась оземь как громом пораженная; несколько мгновений лежит она без памяти, затем поднимается, бежит к окну и снова падает, заливаясь горькими слезами:
– Итак, я более не увижу его! И я сама произнесла этот приговор! Я, я, все еще горящая любовью! О, небо, похвально ли я поступила? Люси, довольно ли я была беспощадной, довольно ли жестокой? Довольно ли подчинилось сердце мое велению, суровость коего оно предчувствовало? Я могла соединиться с графом, а теперь умираю; я угасаю, прикованная к алтарю, пред которым молю небо ниспослать мне силы, чтобы победить себя, пред которым любовь… Но нет, я не умру. Любовь, что терзает меня, любовь, что питается слезами моими, не даст мне испустить последний вздох и будет впредь разжигать мои муки! Жизнь моя так ужасна, что мне остается надеяться только на кончину, как на единственное благо. И эта столь желанная смерть все медлит… все медлит избавить меня от несносного пребывания на земле! Тщетно я взываю к ней! Тщетно припадаю к гробу моему! Как желала бы я быть погребенной в нем навеки! Но ненавистный свет вновь бьет мне в очи и отдает меня опять во власть моих безумств и преступлений! Ах, несчастный д’Эстиваль, тщетно ли буду я повторять все то же? Честь, вера запрещают мне видеть тебя, любить тебя, помышлять единственно о тебе! Малейшая мысль о тебе преступна… Великий боже! Простишь ли ты меня? О боже, боже! Сжалься над моими страданиями, над моими слабостями, над моим раскаянием… Кто я такая, жалкое создание? Ужели без конца суждено любви возвращаться в сердце, не осмеливающееся впустить ее?
Напрасно Мелани прибегает к помощи добродетели и благочестия, дабы бороться с воспоминаниями, без конца осаждавшими ее душу и обретавшими над ней все большую власть; забыть д'Эстиваля она не может; сама рука ее, помимо воли, чертит на бумаге образ, слишком глубоко запечатленный в сердце. Мелани то берется за карандаш, то бросает его, кляня свою слабость, снова берет его, двадцать раз мечется от портрета к алтарю, а от алтаря – к изображению, порожденному страстью, вновь роняет из рук карандаш и подбирает его еще быстрее. Наконец рисунок завершен, в жестокой битве, в стенаниях, в грозных схватках между любовью и благочестием. Чем дальше чертит карандаш, тем больше слез и мук совести.
– Да, – восклицает Мелани, – вот черты милейшего из смертных, вернейшего из влюбленных!.. Какое слово я сказала! Прости, всевышний, прости меня! Увы! Ужели оскорбляют тебя мои слезы, пролитые над ничтожным рисунком? Ужели мне будет отказано и в этом, столь слабом утешении? Ах! Могу ли я еще сомневаться, боже мой! Вся вина моя – нет, что я говорю! – все вероломство мое предстает предо мной! Я более не смею заблуждаться. Что ни мысль – то измена клятве! Осветим же это сердце беспощадным светом: оно упивается своим злодейством! Оно вбирает и лелеет все, что питает единую мысль… Я слишком понимаю!.. Мысль эта захватила, заполонила мою душу. Нет, я уберу прочь роковой портрет; я не сохраню его, не стану поддерживать преступную нежность, которую должна задушить… Надобно спрятать его, убрать подальше от глаз, уничтожить, вырвать его, если возможно, из сердца.
Она хочет выполнить это благородное намерение, рука ее дрожит, она вновь обращает взор к портрету, столь опасному для нее, вздыхает, прячет его на груди, прижимает чуть ли не к самому сердцу. Каждый день обещает она всевышнему уничтожить свидетельство осужденного чувства и каждый миг смотрит опять на этот образ, орошает его слезами, поверяет ему свои жалобы и сожаления, как если бы говорила с самим д'Эстивалем.
Граф не мог оправиться от тяжкого уныния, охватившего его после новой немилости Мелани; уговоры, ласки, слезы отца не в силах были вернуть его к жизни; он все глубже погружался в печаль, упорствовал в скорби; да где нашел бы он средство для ее облегчения? Он дорожил ею, ему любо было распалять ее. Есть у любовных горестей особое очарование, знакомое только сердцам, познавшим любовь.
– Нет, – восклицал д’Эстиваль, – нет, отец мой, полно советовать мне вырвать из ран убийственное острие! Пусть эта рана станет еще глубже, пусть унесет она меня в могилу! Отец, я не могу обладать Мелани, и вы хотите, чтобы я остался жив! Я умру, умру, заполнив все свое сердце обожаемым образом! Жестокая! Она причина всех моих мук, и я все еще целую руку, убивающую меня. Но как вы думаете, отец, ужели она не смягчится, ужели вечно будет отвергать меня? Этот обет, обет, смертельный мой приговор, ужели он никогда не будет ею нарушен? Неужто это бесповоротное решение, неразрывные узы? Разве нет примеров обратного? Несчастный! Я потерял рассудок! Куда завела меня страсть? Ах! Я знаю, навеки, да-да, навеки потерял я Мелани! Отец, если бы я мог хотя бы увидеть ее! Пусть я ее увижу! Добейтесь для меня этой милости; если она откажется говорить со мной, пусть глаза мои, глаза мои пусть заглянут ей в очи! Пусть ее порадуют мои слезы! Пусть я испущу последний вздох у ног ее!
Отец д’Эстиваля устремляется в монастырь, но к Мелани он не может проникнуть. Напрасны все его настойчивые просьбы и слезы; он умоляет о едином мгновении встречи с ней, но во всем встречает отказ. Мелани, терзаясь и томясь, с плачем бросается к ногам почтенного монаха, молит дать ей сил для борьбы с собой, раскрывает ему душу, раздираемую смертной мукой, признается, что готова уступить желанию увидеть отца, графа, самого графа, взывает о помощи святой церкви. Монах, соболезнуя Мелани, льет слезы вместе с ней и мало-помалу возвращает ее к сознанию долга, препятствует, наконец, ее желанию сдаться и встретиться хотя бы с отцом д’Эстиваля. Мелани победила, но торжество это – одна лишь видимость: слишком дорогой ценой далась ей жертва, за которой могла последовать только медленная смерть. С этой поры от нее не слышали ни единой жалобы, слезы ее иссякли; только изредка вырывались у нее глухие стенания, раскрывавшие глубину ее отчаяния. Из всех страстей любовь долее всего сохраняет свою силу, одиночество только распаляет ее. Именно в уединении и безмолвии зарождаются и крепнут могучие порывы души чувствительной, а ежели она не охвачена священным восторгом веры, то монастырская тишь только способствует ее уходу вглубь, позволяет ей испробовать и познать свою мощь, приводит ее подчас к неистовым взрывам, обуздать которые дано единственно смерти. Едва случится нам оторваться от всего, что окружает нас, тотчас же пробудится воображение наше, разгорится с сердцем наравне, и предмет, нами потерянный, станет во сто крат милее и дороже, он будет представляться нам все краше, ибо в этом ищем мы оправдания своим сожалениям; и, преувеличивая ценность утраты, испытываем своего рода наслаждение, упиваясь собственной скорбью.
В таком примерно состоянии пребывала Мелани; горе ее не знало пределов, и это было, возможно, единственным оставшимся ей утешением.
Ей приносят шкатулку, куда вложено письмо и серебряная коробочка; она поспешно берет письмо, со страхом узнает почерк графа и читает:
Я повиновался вам; я пожертвовал своим счастьем, жизнью своей; я более не пытался увидеть вас, а жить, вас не видя, я не в силах; осмельтесь же прочесть письмо мое: когда вы его получите, участь моя уже свершится. Перестану ли я любить вас? Сможет ли душа моя утратить это чувство, единственное чувство, поглотившее ее полностью? Неба моя любовь не оскорбит: не может быть любви более чистой и более достойной всевышнего творца, создавшего нас друг для друга. Я не смог отдать вам себя, но отдать себя не могу никому, кроме вас. Это я навлек беду на вашу семью, я повинен в смерти сестры вашей, моей жены, я свел в могилу вашего отца, я безжалостно убил обоих; но как жестоко вы меня покарали! Иного выхода, чем смерть, у меня не было; и вот она наконец положила предел всем мукам.
Я прошу вас об одной лишь милости: сохраните единственный дар, который вам дозволено принять от меня, последний дар любви моей. Прощайте, дорогая Мелани. Покажется ли вам обидным это обращение? Подумайте, ведь я умираю, так и не назвавшись супругом вашим.
Д’Эстиваль.
Мелани, растерянная, потрясенная, убитая этим новым ударом, остается поначалу неподвижной, потом касается руками коробочки; неподвластная ей сила, какое-то влечение, побуждающее несчастного бросаться грудью на убийственное острие, торопит ее, велит немедля узнать, что же скрыто в коробочке, каков обещанный дар; она поднимает крышку, сотрясаемая мучительной дрожью, и взору ее предстает записка:
Это сердце страстно любило вас, дышало единственно вами; ужели непреклонная Мелани не прольет над ним слезу?
– Сердце д’Эстиваля! – восклицает Мелани.
И впрямь, таков был посланный им роковой дар. Она лишается речи и чувств. Ее переносят на ложе, где она и умирает немного дней спустя, вымолвив только одно:
– О, д’Эстиваль! О, боже мой…

ДИДРО
ДВА ДРУГА ИЗ БУРБОННЫ{216}
Перевод Г. Фридлендера
Жили в наших краях два человека, которых можно было бы назвать бурбоннскими Орестом и Пиладом.{217} Одного из них звали Оливье, другого – Феликс. Они родились в один и тот же день, в одном и том же доме, от двух сестер. Были вскормлены тем же самым молоком, потому что одна из матерей умерла во время родов, и другая взяла на себя заботу о детях. Росли вместе и всегда держались в стороне от других. Любили друг друга так, как другие живут или видят, – не задумываясь: они это чувствовали каждую минуту, но, может быть, даже себе никогда в этом не признались. Оливье спас однажды жизнь Феликсу, который возомнил себя искусным пловцом и едва не утонул, – ни тот, ни другой об том не вспоминали. Сотню раз Феликс выручал Оливье из положений, в которые тот попадал по причине своего пылкого нрава, – и ни разу Оливье не пришло в голову поблагодарить его – они возвращались вместе домой молча или разговаривая о чем-нибудь другом.
Во время жеребьевки при наборе рекрутов первый роковой жребий вытащил Феликс. Тогда Оливье сказал: «Второй – мой». Отслужив свой срок, они вернулись на родину. Я не решусь утверждать, что они стали теперь друг другу еще дороже, чем были прежде, ибо если взаимные услуги укрепляют сознательные привязанности, то вряд ли, братец, они могут прибавить что-нибудь к тем, которые я бы охотно сравнила с инстинктивными привязанностями животных или членов семьи. В армии в одной из стычек Оливье угрожал сабельный удар, который неминуемо раскроил бы ему череп; но Феликс, не задумываясь, бросился навстречу удару и сохранил навсегда глубокий шрам на лице. Некоторые утверждали, что он гордился этой раной, но что касается меня, то я этому не верю. При Хастенбеке{218} Оливье вытащил Феликса из груды трупов, среди которых тот остался лежать. Когда их расспрашивали об этом, то каждый говорил иногда о помощи, которую оказал ему другой, но никогда не упоминал о той помощи, которую оказал другому он сам. Оливье рассказывал о Феликсе, Феликс говорил об Оливье, но никогда они не восхваляли самих себя. Некоторое время спустя после возвращения на родину оба они полюбили; и случаю угодно было, чтобы они влюбились в одну и ту же девушку. Между ними не могло быть и мысли о соперничестве. Первый, догадавшийся о страсти друга, пожертвовал собой: то был Феликс. Оливье женился, а Феликс, потерявший вкус к жизни, хотя он и не понимал, отчего это произошло, занялся разного рода опасными делами и в конце концов стал контрабандистом.
Вы знаете, братец, что во Франции есть четыре трибунала – в Кане, в Реймсе, в Валансе и в Тулузе, – которые судят контрабандистов. Самый суровый из них – это реймский трибунал, где председательствует некий Коло, едва ли не самая жестокая душа из всех, какие природа производила на свет. Феликс был пойман с оружием в руках; он предстал перед грозным Коло и был приговорен к смерти, так же как до него пять сотен других. Оливье узнал о судьбе Феликса. Ночью он покинул супружеское ложе и, ни слова не сказав жене, отправился в Реймс. Там он идет к судье Коло, бросается к его ногам и молит о милости – разрешить ему повидаться с Феликсом и обнять его. Коло молча смотрит на него минутку, затем знаком приглашает его сесть. Оливье садится. Через полчаса Коло вынимает часы и говорит Оливье: «Если ты хочешь увидеть и обнять своего друга живым, то поспеши, так как его уже везут на казнь. Если мои часы идут правильно, не пройдет и десяти минут, как он будет повешен». Тогда Оливье, охваченный яростью, поднимается с места и наносит судье Коло палкой ужасный удар по голове, от которого тот падает замертво. Затем он бежит на площадь, с криком бросается на палача и стражу, поднимает против них народ, возмущенный этими казнями. Летят камни. Освобожденный Феликс бежит. Оливье тоже думает о спасении; но один из жандармов, не замеченный им, пронзил ему грудь штыком. Оливье добрался до городских ворот, но не мог идти дальше. Сострадательные возчики взяли его в свою повозку и доставили до дверей его дома за минуту до того, как он испустил дух. У него осталось время, только чтобы успеть сказать жене: «Подойди ко мне, чтобы я мог тебя поцеловать. Я умираю, но Феликс спасен».
Однажды вечером, когда мы, по обыкновению, отправились на прогулку, мы увидели стоявшую перед одной из хижин высокую женщину с четырьмя маленькими детьми около нее. Печальный и строгий вид ее привлек наше внимание, которое от нее не укрылось. Помолчав немного, она сказала: «Вот четверо маленьких детей, я их мать, и у меня нет больше мужа». Величественность, с которой она просила о сострадании, не могла нас не тронуть. Мы предложили ей нашу милостыню, которую она приняла с достоинством; при этом мы узнали историю ее мужа Оливье и его друга Феликса. Мы рассказали о ней нашим знакомым, и я надеюсь, что наши просьбы помочь ей не будут безрезультатны. Вы видите, братец, что величие души и высокие моральные качества присущи одинаково всем общественным положениям и всем странам: нередко человек не оставляет после себя памяти лишь потому, что у него не было другого, более широкого поприща, на котором он мог бы их проявить, и что вовсе не нужно отправляться к ирокезам, чтобы отыскать двух друзей.{219}
В то время как разбойник Тесталунга опустошал со своей шайкой Сицилию, его друг и наперсник Романо был схвачен полицией. Он был ближайшим помощником Тесталунги и его правой рукой. Отец этого Романо был арестован и заключен в тюрьму за преступления. Романо-сыну обещали помиловать и освободить его отца, если он изменит своему атаману и выдаст его властям. Борьба между сыновним чувством и верностью клятве дружбы была тяжелой. Но Романо-отец убедил сына отдать предпочтение дружбе, считая для себя постыдным получить жизнь ценой предательства. Сын послушался отца. Романо-отец был казнен, а Романо-сына самые жестокие пытки не смогли заставить выдать его товарищей.
Вы хотели, братец, узнать о дальнейшей судьбе Феликса? Это любопытство столь естественно, и причина его столь достойна похвалы, что мы сами слегка упрекнули себя в том, что не испытали его раньше. Желая исправить свою ошибку, мы прежде всего подумали о г-не Папене, докторе богословия и священнике прихода св. Марии в Бурбонне; но матушка передумала, и мы отдали предпочтение его помощнику г-ну Оберу, весьма доброму и честному человеку, приславшему нам следующий рассказ, на правдивость которого вы можете положиться:
Человек, именуемый Феликсом, еще жив. Вырвавшись из рук правосудия, он бросился в леса своего округа, все пути и выходы из которых он успел изучить в то время, когда был контрабандистом. Он стремился постепенно приблизиться к жилищу Оливье, об участи которого ничего не знал.
В чаще леса, который вы иногда посещали во время прогулок, жил угольщик, хижина которого служила убежищем для контрабандистов; она была также складом их товаров и их оружия. Туда-то и направился Феликс, ускользнув от жандармов, которые гнались за ним по следу. Кто-то из его товарищей успел принести сюда известие о том, что в Реймсе его посадили в тюрьму. Поэтому угольщик и его жена уже считали, что Феликс казнен, когда он неожиданно предстал перед ними.
Я расскажу вам всю историю так, как слышал ее из уст жены угольщика, которая недавно скончалась здесь.
Ее дети, бегавшие вокруг хижины, увидели его первые. В то время как он остановился, чтобы приласкать самого младшего, который был его крестником, остальные вбежали в хижину с криком: «Феликс! Феликс!» Отец и мать вышли ему навстречу, повторяя тот же радостный крик; но несчастный так ослабел от усталости и голода, что у него не было сил ответить. В полном изнеможении он упал в их объятия.
Эти добрые люди помогли ему чем могли, дали ему хлеба, вина, овощей; он поел и заснул.
После пробуждения его первое слово было: «Оливье! Дети, вы ничего не знаете об Оливье?» – «Нет», – отвечали они. Он рассказал им все, что произошло в Реймсе. Ночь и следующий день он провел с ними. Он часто вздыхал, произнося при этом имя Оливье. Думая, что тот находится в реймской тюрьме, он хотел идти туда, чтобы умереть вместе с ним. Угольщику и его жене стоило большого труда отговорить его от этого намерения.
В середине второй ночи он схватил ружье, взял под мышку саблю и тихим голосом позвал угольщика.
«Феликс!» – откликнулся тот. «Бери свой топор и пойдем». – «Куда?»– «Хорош вопрос! К Оливье».
Они пошли, но при выходе из леса были окружены отрядом конных жандармов.
Я повторяю то, что мне рассказывала жена угольщика, хотя и трудно поверить, чтобы двое пеших могли бороться с двадцатью всадниками; должно быть, последние действовали разрозненно или хотели захватить добычу живьем. Как бы то ни было, произошла жаркая схватка; пять лошадей были искалечены, семь всадников зарублены топором или саблей. Бедный угольщик остался на месте, убитый наповал чьим-то выстрелом. Феликс же снова добрался до леса; наделенный невероятным проворством, он перебегал с одного места на другое; на бегу заряжал свое ружье, стрелял и время от времени свистел. Эти свистки и выстрелы, раздававшиеся время от времени с разных сторон, внушили жандармам опасения, что в лесу прячется целая шайка контрабандистов, и потому они поспешно отступили.
Когда Феликс увидел, что всадники удалились, он вернулся на поле битвы. Взвалив на плечи труп угольщика, он двинулся обратно к хижине, где жена убитого и ее дети мирно спали. Он останавливается перед дверью, кладет труп на землю и садится, прислонившись к стволу дерева и обратив лицо ко входу в хижину. Таково было зрелище, ожидавшее вдову угольщика утром, когда она должна была выйти из лачуги.
Но вот она просыпается и не находит мужа подле себя, ищет глазами Феликса – напрасно! Она поднимается, выходит, видит труп, вскрикивает, падает в обморок. Прибегают ее дети и, увидев труп, тоже начинают рыдать. Они бросаются к отцу, затем кидаются к матери… Жена угольщика, пришедшая в себя от шума и криков детей, рвет на себе волосы, раздирает лицо ногтями. Тогда Феликс, который продолжал сидеть неподвижно у подножия своего дерева, отвернувшись и с закрытыми глазами, произнес дрожащим голосом: «Убей меня!» Наступила минута молчания, затем скорбь и вопли семьи возобновились, Феликс же повторял снова и снова: «Убейте меня, дети, убейте меня, молю вас!»
Так провели они три дня и три ночи, предаваясь отчаянию; на четвертую Феликс сказал женщине: «Возьми свою котомку, положи в нее немного хлеба и ступай за мной». После долгого обходного пути по здешним горам и лесам они достигли дома Оливье, расположенного, как вы знаете, на окраине города, в том месте, где дорога разделяется на две, одна из которых ведет во Франш-Конте, а другая – в Лотарингию.
Здесь-то Феликс услышал о смерти Оливье, оказавшись в обществе двух вдов, мужья которых были убиты из-за него. Войдя, он тотчас спросил у жены Оливье: «Где Оливье?» По молчанию женщины, по ее одежде и рыданиям он понял, что Оливье нет больше в живых. Ему стало дурно; он упал и при этом разбил себе голову о квашню, в которой замешивали хлеб. Обе вдовы подняли Феликса; они были залиты его кровью, и, в то время как они хлопотали вокруг него, пытаясь своими передниками остановить кровь, он сказал им: «Вы были их женами, и вы заботитесь обо мне!» Несколько раз он снова лишался чувств; когда же сознание возвращалось к нему, он говорил, вздыхая: «Почему он не оставил меня? Зачем нужно было ему идти в Реймс? Как позволили вы ему туда пойти?..» После этого у него в голове мешалось, он приходил в ярость, катался по земле и рвал на себе одежду. Во время одного из таких припадков он выхватил саблю, намереваясь пронзить себя, но обе женщины бросились к нему, призывая на помощь. Прибежали соседи, его связали веревками и пустили ему семь или восемь раз кровь. Вместе с падением его сил начала утихать и его ярость. В продолжение трех или четырех дней он оставался неподвижным, как мертвец; только после этого к нему вернулось сознание. В первый момент он несколько раз обвел глазами все окружающее, как человек, который пробудился от глубокого сна, затем сказал: «Где я? Женщины, кто вы?» Жена угольщика ответила ему: «Я угольщица». Он повторил: «Ах, да, угольщица… А ты?» Жена Оливье молчала. Тогда он зарыдал, потом повернулся лицом к стене и проговорил сквозь рыдания: «Я у Оливье… Это кровать Оливье… И женщина, которая стоит здесь, была его женой! О!»
Обе женщины так ухаживали за ним, они внушали ему такую жалость, они столь настойчиво умоляли его остаться жить и столь трогательно повторяли ему снова и снова, что он их единственная опора, что в конце концов их мольбы убедили его.
В течение всего того времени, которое он провел в их доме, он больше не ложился спать. По ночам он уходил и скитался по полям; он бросался на землю и призывал Оливье; одна из женщин следовала за ним и приводила его обратно на рассвете.
Многие знали, что он находится в доме Оливье, и среди соседей легко могли найтись доносчики. Вдовы предупредили Феликса об опасности, которая ему грозила. Это было однажды после полудня, в то время когда он сидел на скамье, положив саблю на колени, опершись локтями о стол и закрыв глаза кулаками. В первую минуту он ничего не ответил. У жены Оливье был сын, которому шел восемнадцатый год, а у жены угольщика – пятнадцатилетняя дочь. Внезапно он сказал, обращаясь к угольщице: «Иди, найди свою дочь и приведи ее сюда». У него было поблизости несколько клочков луговой земли – он их продал. Угольщица вернулась со своей дочерью, и сын Оливье женился на ней. Феликс отдал им деньги, которые выручил от продажи, обнял их, попросил у них со слезами прощения; они устроились в хижине, где живут и сейчас и где они стали отцом и матерью для остальных детей. Обе вдовы поселились вместе; таким образом, дети Оливье получили одного отца и двух матерей.
Скоро уже почти год, как угольщица умерла; жена Оливье до сих пор каждый день оплакивает ее.
Однажды вечером женщины, наблюдавшие тайно за Феликсом (ибо одна из них никогда не выпускала его из виду), увидели, что он залился слезами. После этого он молча простер руки к двери, которая отделяла его от них, и принялся укладывать свой дорожный мешок. Они ничего не сказали ему, так как хорошо понимали, насколько необходимо было, чтобы он удалился. Они поужинали все трое в полном молчании. Ночью он поднялся с кровати – женщины не спали; он подошел к двери, неслышно ступая на носках. Здесь он остановился, посмотрел в ту сторону, где стояла кровать обеих женщин, осушил свои глаза руками и удалился. Женщины сжали друг друга в объятиях и провели остаток ночи в слезах. Никто не знал, где он укрылся; но не проходило недели, чтобы он не прислал им какого-нибудь вспомоществования.
Лес, в котором живут дочь угольщицы с сыном Оливье, принадлежит некоему г-ну Леклерку де Рансоньеру, человеку весьма состоятельному и сеньеру другой деревни этого округа, которая носит название Курсель. Однажды, когда г-н Рансоньер или Курсель, как вам больше нравится, охотился в своем лесу, он очутился возле хижины сына Оливье. Войдя в нее, он начал играть с детьми, которые прелестны; он задал им несколько вопросов; лицо жены, которая недурна собой, ему понравилось, а твердость ответов ее мужа, унаследовавшего многое от отца, заинтересовала его. Он выслушал повесть о судьбе их родителей и обещал выхлопотать Феликсу прощение. Он принялся за дело и добился своего.
Феликс поступил на службу к г-ну де Рансоньеру, который дал ему место лесничего.
Прошло уже около двух лет, как он жил в замке де Рансоньер, отсылая вдовам значительную часть своего жалованья, когда преданность своему господину и пылкость характера вовлекли его в одно дело, ничтожное по началу, но имевшее самые дурные последствия.
У г-на де Рансоньера был в Курселе сосед по имени г-н Фурмон, советник президентского суда в Шомоне. Оба дома были разделены лишь межевым столбом, этот столб мешал открывать ворота г-на де Рансоньера и затруднял въезд в них экипажей. Г-н де Рансоньер приказал отодвинуть его на несколько футов в сторону г-на Фурмона, последний же передвинул столб обратно на такое же расстояние в направлении к г-ну де Рансоньеру – и вот начало ненависти, взаимных оскорблений, тяжбы между двумя соседями. Процесс из-за межевого столба породил два или три других, более важных. Так обстояли дела, когда однажды вечером г-н де Рансоньер, возвращаясь после охоты в сопровождении своего лесничего Феликса, повстречался на проезжей дороге с г-ном советником Фурмоном и его братом, военным. Последний сказал своему брату: «А что, брат, как вы думаете, не раскроить ли нам рожу этому старому подлецу?» Вопрос этот не был расслышан г-ном де Рансоньером, но, к несчастью, его услышал Феликс, который, обратившись смело к молодому человеку, ответил ему: «Будете ли вы, господин офицер, настолько смелы, чтобы привести в исполнение то, о чем сейчас говорили?» И в ту же секунду он положил ружье на землю и схватился рукой за рукоятку сабли, без которой никогда не выходил из дому. Молодой военный обнажает шпагу и бросается на Феликса. Подбежавший г-н де Рансоньер вмешивается, стараясь удержать своего лесничего. Тем временем военный завладевает ружьем, лежавшим на земле, и стреляет в Феликса, но неудачно; последний отбивает саблей его удары, выбивает из его рук шпагу и отсекает своему противнику кисть руки. И вот – уголовное дело в придачу к трем или четырем гражданским; Феликс – в тюрьме; ужасный судебный процесс; и последствия этого процесса: советник лишен своего звания и с трудом сохранил свою честь, военный исключен из своего сословия, г-н де Рансоньер умирает с горя, а Феликс продолжает сидеть под арестом, оказавшись всецело во власти Фурмонов. Конец его был бы самым плачевным, если бы его не спасла любовь: дочь тюремщика почувствовала к нему склонность и помогла ему бежать: может быть, это и неправда, но таково по крайней мере общее мнение. Он отправился в Пруссию, где служит сейчас в гвардейском полку. Рассказывают, что он пользуется любовью своих товарищей и известен даже королю. В полку его прозвали Печальный. Вдова Оливье говорила мне, что он продолжает ей помогать.