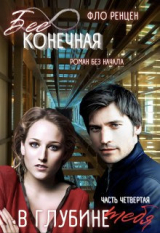
Текст книги "В глубине тебя (СИ)"
Автор книги: Фло Ренцен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц)
– ...рассчитывали, что он по воровству засыпется?.. – будто автомат, повторяю слова сегодняшнего «протокольного» субъекта.
– Вот-вот, – одобрительно кивает старик, будто хвалит меня за осведомленность. – Да там не только это... короче, жадный он был мужик. Не делился ни с кем – со своими только. А свои – это у него были Инга и Рик, как ни странно.
Ничего странного в этом нет, думаю и мысль эта проламывает мне мозг, просто принял их в свою стаю.
Только не хочу я верить этому старику. Не хочу принимать его утверждение, будто Рик во всем на того похож.
Но я хочу услышать еще. Хочу знать все. Рассказывай дальше.
Не гнушаюсь повторить еще одно бормотание «протокольного»:
– Суд решил, самооборона?..
– Не-е, какой суд... Вальтер-то... прожил потом пару недель в тюряге – дольше не протянул. Аневризма – чпок, – Хорст опрокидывает заупокойную и с глухим стуком ставит ее на стол. – Медэкспертиза показала – не мог сам так долбануться. Ножевых ранений не обнаружили. У Рика алиби нашлось надежное, подтвердили. Но главное, сам Вальтер – до упора: не он. Не он. Сам, мол, по пьяне упал, убился. Ему не верили. Рику не верили. Мы все не верили. Все на его стороне были, но не верили. Ну не мог... не способен он был всего этого «так» оставить. Ты б видела его, тогдашнего.
Старик берет пепельницу и, будто собираясь нюхать, почти вплотную подносит ее к лицу.
Я «вижу» его, тогдашнего. Я помню, как за одну какую-то пощечину, залепленную мне, он мочил Миху, как никто и никогда того не мочил и – вижу его, тогдашнего. Тогда тот выродок мать у него отнял и – да, не мог он этого так оставить.
– Он и не оставил, – рассказывает старик пепельнице. – А потом залег где-то. То ли на своих учебах, то ли еще где. На много лет залег. Долго его на Котти, да что там – в Берлине видно не было. Поговаривали, Рик... он на север куда-то мотался. Отца родного разыскать, родняться с ним. Да только разве ж то отец… Наверно, не принял он его. Вальтер в Райникендорфе ласты склеил, давно уж кости сгнили. Годы прошли, дело о Вальтере закрыли – парень осмелел, вернулся. Его потом-то спрашивали, мол, фамилию менять не будешь?.. А он, мол, что я баба – фамилии менять?.. Так и остался Херманнзеном. Получается, Вальтер – он ему все оставил. Машину, ту самую, в которой – тоже...
Додж Челленджер семьдесят второго, ядовито-зеленый. Гробяка без царапины. Его забрала Рита, а Рик отдал без сожаления. И как он не поджег его тогда...
– Думали, наследники у Вальтера родные объявятся все же, но я ж говорю – то ли не было их у него, то ли соваться не рискнули. Рик и нарисовался снова, сунулся – тут вроде мирно. Только одна Рита первее него тут оказалась.
– Какая Рита? – брякаю я.
– Рита Херманнзен.
– Почему Херманнзен?
– Ну, я ж говорю, родных детей-то у Вальтера не было или не роднялись просто. Не знали, бабла у него сколько. Кто она ему была – вроде дочки? Или, может, падчерицы?.. Я не знаю. Мамашу ее тоже не знавал – да мало ли у Вальтера их было. Небось, не одну бывшую республику Зовьет Униона объездил – может и расписался где с кем. Ну, как расписался, так и кинул, ради Инги-то. А если б он при жизни когда ее, Риту, увидал, то была б она очень бы в его вкусе. Ну вот, возникла она, и крыша у нее была, и бумажки в порядке – «Рита Херманнзен». А Рик – после нее уже. Они-то с ним, конечно, вроде как «сводные» да с одной фамилией – снюхались, ничего. Так-то оно бы и лучше, чем воевать. Он-то думал... – мямлит Хорст, – он думал у него семья с ней будет...
– А откуда вы знаете? – цепляю его я. – Это он вам сказал?
Пьяный старикан – он, когда надо, очень даже трезвый. Вместо ответа он кладет руку мне на плечо и проникновенно смотрит в глаза, все смотрит и смотрит. И там, в этом абсолютно трезвом взгляде я за секунды успеваю много чего прочитать. Всю историю читаю, рассказанную только что. И еще что-то читаю, нечто зашифрованное, находящееся под неким кодом. Видимо, расшифровать его можно лишь, напившись в хлам.
Похоже, и у него тоже своих детей нет, думаю.
– Рик, в общем, давай дела Вальтера осваивать. Ну, кроме как «Дом Короля» – это она сама уж...
Она сама?.. С-сука-Ри-ита, вскидывается во мне истерический смешок.
«Я давно ее знаю. Она не конченая».
Как же, как же...
– ...не-е, это ж не притон тебе какой-то был, да что-о ты... – рассуждает Хорст. – Все аккуратно, тихо, уютно. Как дома. Мужик придет – душой отдохнет, не только телом. Они там в шоколаде были... На себя пахали, все как хотели, так и воротили... хозяйке только бабки отстегивали за помещение. Кого не хотели, того не обслуживали...
Так... Значит, и «молоденькая» Олеся... Оливия сама хотела обслуживать Вальтера. Прям хотела. Хотела, хоть он и бил ее... Что ж, нравилось ей это или платил он по особому тарифу?.. Да не-е-е...
Как бы там ни было, пытаться как-то открыть глаза этому защитнику квартирных борделей теперь уж дохлый номер...
– Нет, им хорошо там жилось, чего уж... Ну, при Рите, оно, как знать, наверно, стало и похуже. Она-то насчет аренды поблажек не давала, девка строгая. Сама ж, наверно, из говна вылезла. Да там в скором времени Рик взял да и завинтил ей это. Что-то его там не устроило. Может, гулять она от него начала... а может, особо и не переставала... Он перво-наперво девчонку ту... Оли... Оле... темненькую сбагрил. От того-то все и понеслось... Да тебе хахаль ее, Риты, сегодня, что ли, не рассказывал?..
«Привет, дорогой...» – всплывает зачем-то пышненькая Оливия.
Ведь Рик еще с тех времен знал ее – значит, вытащил из «комнат» и в Лотос за стойку пристроил... Может, вытолкал взашей, мол, хорош ерундой заниматься, а может, она сама его попросила помочь вылезти по старой дружбе... или не дружбе...
А «хахаль» Риты – значит, сегодняшний «протокольный» субъект, который намекал мне, чтоб, мол, носа не совала?.. Мне хочется бежать обратно в «дом» – разыскивать его, чтобы насесть и попинать зачем-то. Желанием этим заглушается даже мысль о том, как Рита «гуляла не переставая», а Рик, значит, терпел...э-э... вряд ли... не терпел, скорее всего...
В глазах мельтешат и дергаются лампочки на опустевших игровых автоматах. Мужик ушел с блондинкой, а может, они просто одновременно вышли на воздух, а там разошлись в разные стороны.
В ушах шумит и уже не так отчетливо слышится Хорст. А он бубнит себе под нос, переливает из пустого в порожнее:
– И ведь не сдал его Вальтер... наверно, думал, за нанесение телесных повреждений в тяжелой форме его из «школы» той могут исключить... окажется, зря он тогда его учил... бабки в него вкладывал... ну, или что там...
Только вряд ли, думаю, Рик оценил заботу, которую проявил по нему люто ненавидимый отчим.
– Ему тогда как раз «за двадцать» стукнуло... по взрослой статье пошел бы... а-а, вспомнил... Это ж Вальтер тогда с Ингой... это ж они тогда поругались, потому что он... парень... день рожденья свой с ними отмечать не приехал. Инга... Вальтер незадолго до того лупцевал ее по пьяне, Рик тоже там оказался, полез защищать и отгреб сильно, вся морда – в «радуге»... но он не уехал, как обычно, весь в кровище перемазанный, а сам пристал к ней и давай за руки тащить: поехали, мама, отсюда, я тебя заберу. Ну, она – ни в какую, мол я его, сынок, спровоцировала. Он поорал-поорал да так сам, без нее и свалил. Не впервой такое у них было. Сказал, мол – все, будь он проклят, больше не приеду. Ни-ког-да. Но матери звонил все равно. А в день рожденья его Инга Вальтеру возьми да брякни... мол, сына из-за тебя не вижу... уйду от тебя, мол...
Не успела уйти, а может, никогда не ушла бы. А может, просто не повезло, что Рика не было рядом. А может, повезло, что не было. Ему.
Не знаю, почему мне сейчас так плохо. Их давно нет. Все, что он говорил мне о матери, то немногое, что мне о ней говорил... ничего не говорил – ставь это в прошедшее время. Ее давно нет. Его давно нет. Ее не стало в день его рожденья. И его не стало.
Его нет. Десять... или одиннадцать лет уже прошло, а такие пацаны – горячие, озлобленные, обездоленные, рано познавшие пьяное насилие, ужас смерти и горечь утраты – они не живут долго. Они уходят из жизни и в лучшем случае перерождаются. Его больше нет. И нас с ним нет больше. Почему же мне тогда так плохо?..
Дождь. Назавтра будет наводнение и всех нас смоет. Сейчас просто льет дождь.
Выхожу на Котти и меня с плачем встречают фонари. Мне кажется, это пьяные слезы. Пьяные, как у меня, пьяные, как у старика. Мне кажется, они источают сладко-горькое зловоние испитых побоев и семейных драм. Мне кажется, что свет их режет и печет, как кровоточащая рана, а может, давит перманентной ломотой, как гемотома под одеждой. Мне кажется, они сияют выплаканными до воспаления глазами и гложущей болью слов, не приведенных в действие. И темнотой на них и вокруг них ложатся незнание и безразличие остальных. Мое недавнее незнание, мое недавнее безразличие.
Фонари встретили меня с плачем и с плачем провожают. Фонари посадят меня в такси, когда оно за мной прикатит.
Захлебываюсь пьяной болью впитанных открытий и не знаю, куда мне с ней теперь.
Вот куда мне с ней теперь?.. Это не мне все нужно знать, думаю, это нужно знать... да хотя бы ей... той, которая с ним сейчас. Она же из-за него вон, какие козни строит, значит, любит как-то там, по-своему... ей, короче, виднее...
Все это ей надо знать, не мне. Я в прошлом, это лишнее. Это больно очень и тяжело... это не хилее, чем с Каро. Только Каро я могу чем-то помочь, попытаться как-то, а... ему... Да поздно помогать ему уже.. Да не мне ему помогать, в конце концов. Да... зачем оно так колотится, сердце... глупое какое сердце... неумное...
И вообще – кто сказал, что она не в курсе?..
«Я с ней говорить не могу, как со взрослой» – как-то так, кажется. Но что, если тут он сделал исключение. А может, она сама как-то прознала и после этого даже не отвернулась от него. От такого, вылезшего из асоциального, отмороженного болота.
Ладно, она не поехала бы с ним в замусоренную, нетопленную, прокуренную квартиру, в которой его отчим годами избивал его мать... убил его мать... почти убил... в которой он убивал своего отчима – и убил-таки... Нет, она не стала бы спать с ним там на грязных простынях, но она ведь все равно приняла его таким, как есть. Одну его сторону. Единственную известную и видимую ей. И эту сторону решила повернуть в хорошее русло – на заочку его записать, чтобы... ох, блин... рыдаю уже, как помешанная.
Конечно, он мужик и все решает сам. Так он мне сам звездел и то же повторял его бесподобие доктор-псих-мед Симон Херц: не думай, что мужчину можно что-то там заставить. Не мечтай даже. А она и не заставляет – он же согласен. Он согласен.
У меня явно бред. Может, я простыла, а может, просто перепила. Ко мне цепляются какие-то и все нет долбаного такси. И я решаю их не слышать, а продолжать слышать только пьяные, плачущие голоса в моей раскроенной раздраем голове.
Ночь бежит куда-то по своим ночным делам, а меня больше не мучает мой стандартный вопрос «а мне на фиг надо?» все это. Сказать по правде, давненько я себе уже этот вопрос не задавала...
Затем такси, наконец, подходит. Немного успокаиваюсь, но не из-за такси, а потому, что успела внушить себе, что «она, безусловно, знает».
***
Глоссарик на ГЛАВУ ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЮ Пьяные фонари
технический дью дилидженс – проверка техничесой документации и технического состояния и исправности объекта перед покупкой
Jägermeister – немецкий крепкий ликер, настоянный на травах, название переводится, как егермейстер, т.е. главный охотник
Зовьет Унион – Советсткий Союз
ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ Карточный домик
Начнешь увлекаться этим самым «неравнодушием» – затягивает так, что больше и не спрыгнуть.
В наши утра пробрался зубастый сентябрьский холод, поэтому должно хотеться чаю, но меня все не отпускает его давнишняя история. Впечатления от драмы, услышанной вчера, я вместо чая спешу заесть своим любимым лакомством.
– Ну, ты экстремал...
Увидев, как я, покашливая, собираюсь приняться за мороженое, Рози выскакивает ко мне из подсобки, готовая вырвать из рук ложечку.
Я зачем-то пришла сегодня к Сорину – действовать на нервы. Им обоим.
Они теперь пытаются угощать меня нахаляву, но я железно отказываюсь, мол, а то это тогда уже «не то», не тот культ, в статус которого мы с Рози некогда возвели ДольчеФреддо.
Да это и теперь уже не то и дело даже не в том, что они, похоже, собрались переименовывать кафе. Но ладно, я ведь рада за Рози.
– Обойдется... – принимаюсь я за поглощение мороженого, которое запиваю двойным эспрессо.
– Застудишь горло! – сокрушается Рози, но Сорин и ей ставит вазочку, чтобы не скучала. Вкусив его чувственный поцелуй, как «стартер», Рози тоже начинает лопать.
– По фиг, мне допинг надо... – хапаю я его ложками. – Успокоительное, that is.
– От чего это?
– От прошлого.
– О-о-о, не люблю прошлое...
– За что?
– Во-первых, за то, что оно прошло – порой это его главный минус, – рассуждает Рози. – А во-вторых, оно, хоть и прошло, имеет свойство напоминать о себе, нет-нет – а это уж вообще стремота. Я вот, к примеру, не люблю детство свое вспоминать.
Я прекращаю есть, беру ее за кончики пальцев и говорю:
– Тебе тяжко было.
Рози есть не прекращает, а просто кивает, сжав мои пальцы:
– Мама в Берлине в кафе-мороженом работала. Спала с хозяином-итальяшкой, который любил на работу румынок брать. Мы ж и красивенькие, и чернявые, но куда дешевле итальянок. И с нами можно, в случае чего.
Я слышала эту историю давно – уже и подзабыть успела.
– Жена у него была настоящая итальянская стерва. Оч-чень ревнивая. Но он тоже был хитрожопый гад и шифровался по-жесткому. Маме квартиру снял в другом районе. Подарки дорогие покупал, а она всегда их продавала, а деньги отсылала мне. Потом он маму замуж выдал... за одного, там. С ПМЖ. Мама меня сразу в Берлин привезла. Ну, поселилась я у них... Тот и давай меня лапать.
Рози и дальше преспокойно «набирается» мороженым.
– И лапал, и лапал... Нормально, короче, полапал... Я ж уже в тринадцать лет была почти как щас... – она хмыкает, – только не крашеная. – Ну, а как покрасилась... и школу кончила... ниче так кончила, умненькая ж – поняла, что надо что-то делать. Сбежала в общежитие, выучилась на секретаршу. Конфет, да это ж даже не самое страшное было, – толкает меня она – видно, я сильно так закисла. – Как ни крути, жить одной в Констанце было в сто раз хуже.
И бьет меня по спине, когда я все-таки закашливаюсь:
– Вот говорила тебе – нельзя тебе мороженое!
Да, думаю, бывает хуже.
***
Не прошло мне даром мое путешествие – наверно, простудилась под дождем. Или на Котти один уже воздух микробный. Или же Рози оказалась права насчет мороженого.
В общем, миновав недолгий инкубационный период, а за ним – характерную для меня фазу отрицания, обнаруживаю, что нормально так заболеваю. Халатно нарушаю обязанность предупредить об этом в стройведомстве – черта с два, ведь тогда снова придется переносить все к чертовой матери.
Сижу у чиновницы Дорен, и мы с ней вместе рассматриваем на ее мониторе планирование ремонта «Котти». Из-под монитора на меня смотрит улыбчивый портрет красивой девочки с «маллетом», такой же зеленой челкой, как у Дорен, и множеством сережек-пирсингов.
Я знаю эту девочку и узнаю ее. Чертами лица девочка не похожа на Дорен, но ведь и не должна быть похожа.
Задерживаю свой взгляд на девочке и даже прикидываю в уме, как бы завести о ней разговор с Дорен, но у меня в который раз уже отчаянно свербит с носу и до ломоты в башке тянет чихать. Сдаюсь и чихаю прямо к себе в маску, да так безудержно, что меня бросает в дрожь.
– Что это с вами – болеете? – подозрительно косится на меня Дорен, осуждающе побрякивая колечками в бровях. Тех, что у нее в носу, не видно под маской.
– Аллергия... пчхи... на цветение... пчхи... – истово сжимаю нос платком и часто-часто моргаю слезящимися глазами.
Дорен, зыркнув на ливень за окошком, недоверчиво покачивает головой, а я поспешно прибавляю: – Тест «негатив» ... – и спешу сменить тему:
– Так что там слышно про махинации? Вы обещали.
– Не обещала, – сухо-пресно говорит Дорен. – Но расскажу – теперь могу подробнее. Вы же помните – некто Вальтер Херманнзен, архитектор?.. Так вот, его сын пошел-таки по его стопам.
Сын... бахает у меня в голове... Да, правильно, откуда ей знать, что не родной – фамилия та же. На бумаге – сын...
– Но на него удалось-таки найти управу, – строчит свои пулеметные очереди Дорен. – Два года назад ему из-за коммерческой неблагонадежности запретили заниматься строительным бизнесом – что здание на Коттбусских ЭфЭм приобрели с молотка, вы ведь знаете?..
– Ну да, – вру я. – Так здание ему принадлежало?
– Его фирме. Ушло на удовлетворение исков от кредиторов. Но вместо того, чтобы заслужить реабилитацию, а затем восстановиться по всеми правилам, этот мошенник втихаря продолжал орудовать в других местах. Берлин у нас большой... Недавно он, наконец, попался.
На чем же... – думаю, – о-мой-Бог, на чем же он попался...
– ...на том, что подписал акт о сдаче геверка – подряда – по совершенно другому проекту, где тоже успел украсть. Знаете, есть территория...
О, нет... о, нет-нет-нет...
– ...бывшей сигаретной фабрики в Панкове.
– Знаю, – брякаю, чуть не икая. – Я там живу, в Панкове...
– Тогда вам известно, что был утвержден редевелопмент этого страшилища. Я не смотрела планы, но слышала, проект составлен был дельно: прогрессивный жилой комплекс, социальный корпус...
...детсад, подростковый центр – могу продолжить за нее...
– ...детсад и подростковый центр. Панковские коллеги радовались, никто и не подозревал, что там нечисто. И вот проект продолжается, только Херманнзен-младший и его фирма – если можно назвать это фирмой – отстранены.
Насморк и кашель мой мгновенно проходят.
– Отстранены? – спрашиваю намеренно скучающим тоном. – Что так?
– Коллеги панковские вычислили подноготную его, информацию получили...
Кто?.. – думаю. – Какая тварь?.. Из кентов его слил кто, не поделился он с кем-то?.. Да нет, не выгодно ж самим было б – он их всех такими заказами обеспечил... Аднан ли, сука?.. Может, Рик из-за меня все-таки по башке ему надавал, вот тот и отомстил, падлюга?..
– Хорошо, коллеги из нашего сената его вспомнили, а то он там прятался. Нагрянула к нему проверка – подряды, конечно, все по-черному. Нарушений мер по безопасности куча... Правда, проект почти достроен, до внутренней отделки дошли – не ломать же его теперь. И не представить, какие делишки он, наверно, через него отмыть хотел. Но я вам ничего не говорила! – категорично заявляет Дорен.
– Не говорили, – соглашаюсь я... категорично. Я ж тоже так умею, категорично. – А я ничего не слышала. И поверить не могу, если честно. И что касается г-на Херманнзена... младшего...
– Вы его знаете?
– Знаю! – «повышаюсь» я. – А вы знаете меня и знаете, что человек я здравомыслящий и в деле... кхе-кхе... не первый год. И не впервой сталкиваюсь с клеветой и... и... кознями по устранению конкурентов!
Да, думаю. Да. Дело ясное, прозрачное, как стеклышко. И как я сразу не догадалась.
– Конкурентов? С чего вы взяли?..
– Дайте я скажу, что за фирму ваши «панковские коллеги» подключили теперь к редевелопменту. Дайте скажу – а вы не расценивайте это, пожалуйста, как критику в адрес властей – наоборот, я знаю вас, как безупречного чиновника и знаю, что вы меня поймете правильно.
Поднялась-таки температура – чувствую, как меня поколачивает. Ну и пусть.
Вколачиваю свои бредовые рассуждения если не в нее, то просто в пустоту. Пустота распространяется и внутри меня – его проект, наш проект отняли, отобрали у него. То, над чем мы так тяжело и трудно работали, над чем пыхтели, чем болели и из-за чего расстались. Неважно, что сейчас она призовет меня к порядку, а эмоции попросит оставить за дверью ее кабинета, неважно, слышит ли она меня вообще – мне нужно поведать хоть в какую-нибудь сферу, что так нельзя...
– Ведь так нельзя! Так нель-зя! – говорю не резко, но решительно. – Вы знаете, сколько человек Херманзен внедрил в этот проект? Вы знаете, сколько рабочих мест обеспечил? А его самого знаете? Человек зашивался на этом, с такой отдачей работал... В кратчайшие сроки закончил... «Разбирательство» ... – да он же кровное свое вложил в это дело... Он не мог не знать, что его поймают...
Скорее, ему было по фиг, и он тупо молотил до упора. Но я все равно толкаю ей про Herzblut – так по-немецки говорят, «кровь сердца», когда подразумевают «кровное».
– Я сразу вижу, когда человеку не наплевать, – продолжаю я. – Тендер-тендером, а Херманзен все это не ради отмыва денег... Не знаю, надо ли ему там было что-то отмывать, я не бухгалтер. Но знаю только, что он душой болел за это дело... Ведь вы поймите, тут же дети... и подростки...
Ведь она хоть и «нетрадиционная», но у нее тоже есть дети... одна... дочка...
– Ведь он ради детей старался, – распинаюсь, – чтоб все с умом сделать и вовремя... Известно ли вам, какое у него было тяжелое детство... Очернить ведь любого можно, но только не его... только не его...
– А вы, наверно, сильно его любите, – произносит Дорен, сочувственно глядя мне прямо в слезящиеся, итит их мать, глаза.
– Конечно, люблю! – горячо соглашаюсь я. – Как же его не любить?!!
Меня несет уже по-полной.
– Ведь он один такой. Таких, как он, больше нет.
Она понимающе кивает головой, даже не думая возражать..
А мою взбудораженную горячность сменяет холодная ярость. Эти твари, они ведь тупо на его проекте навариться решили, на моей идее. Кто-то слил им, они и подхватили. Наверно, в Панкове ведомстве крыша есть, да мало ли. Гореть им, думаю, синим пламенем. Щас я им устрою Варфоломеевскую ночь.
– Безосновательно «свистеть» не в моих правилах, – продолжаю я уже гораздо хладнокровнее, жестко даже. – Но тут особый случай: прошу, нет, требую разобраться. Фирмой, которой ваши панковские коллеги собираются передать финализацию редевелопмента «сигаретной», руководит вот кто.
Показываю Дорен протокол о принятии «Котти», а на нем – имя-фамилию «протокольного субъекта». – Так вот, они с сожительницей – тоже работницей этой фирмы и в прошлом – домовладелицей, хозяйкой второй половины здания, ныне принадлежащего ЭфЭм – содержали бордель, в простонародье именуемый «Домом Короля». Располагался он в этом здании, которое мы с вами собрались ремонтировать. Нелегализованный, само собой – в налоговую не было отведено ни цента, – да, про налоги, про налоги ей, а то иначе за них не ухватиться. – Все безусловно потому, что женщины, работавшие там, были пригнаны туда насильно.
Да нет, скорее всего, фигня это все. Скорее всего, не насильно. Хорст не совсем пургу гнал, как ни взбесил меня тогда. Скорее всего, им вообще нравилось там работать на себя да на аренду – все тебе не Лотос или другой бордель похуже.
«Есть места и похуже».
А мне плевать, сказала.
«Она не конченая».
А это мне решать.
Выношу резолюцию:
– Вот кого следует лишить разрешения на бизнес. Наглухо. И наказать по-полной.
Лишить и наказать – ну и что...
На этом мое воспалившееся было красноречие иссякает. При всей моей взбешенности считаю завал Риты и ее хахаля-«субъекта» делом второстепенным.
Дорен все слушает, слушает... Лишить и наказать... Она-то не сможет ни лишить, ни наказать, даже если прониклась всем этим сейчас. Может, хоть доложится куда-нибудь auf dem kurzen Dienstweg, то есть по своим внутренним каналам.
А я чувствую теперь глухое опустошение и добавить мне уж больше нечего. Наговорившись, беру себя в руки и переключаю нас с ней на мое дело.
Делаем вид, что мы с ней обе профессионалки и обсуждаем «Котти», ради которого я, собственно, пришла.
К тому, которого я «люблю», мы больше не возвращаемся и прощаемся как ни в чем не бывало.
***
Мне херово. Мне совсем херово. Мне херовее, чем херово.
Когда строишь, будь готов к разрушению. Будь готов, что в один далеко не прекрасный день проект твой развалится, словно карточный домик.
Выпуливаюсь из дверей сената, бегу на метро в сторону дома.
Но мне хочется не домой. Мне хочется... на стройку, посмотреть, как там он, наш карточный домик. Мне хочется залезть в обломки и бродить среди них – пусть хоть завалятся надо мной. Пусть погребут под собой меня.
Я, кажется, начинаю бредить. Не знаю, сколько у меня – нет градусника. Но знаю, прекрасно знаю, что кроме суки-Риты, которая никак утихомириться не может и которой хрен ее знает, как вообще стало известно, что он делает «карточный домик», настучать на него в бауамт могла лишь... я.
Да-да, я. Ведь так он и думает. В его глазах, в его восприятии я с ней давно сравнялась – и он меня «простил». Ведь со мной он точно так же «накосячил», как с ней. Ведь для него я от нее ничем не отличаюсь. Он «знает» про мои «шашни» с Франком, он видел меня с ним. Он слышал кучу всякого про «нас». И Франк забрал у него «дом», а я теперь с ним «заодно».
Дом, дома, коробки... Как надвигаются на меня все эти стройки... Когда же они построятся... Сколько ж сил надо на это положить.
Зачем же он скрывал... Зачем не рассказал, что он под запретом... Дурак...
Зачем у меня в голове теперь еще вдруг возникает и... старик Хорст с его залитыми вусмерть, но абсолютно трезвыми глазами...
Зачем сейчас, именно сейчас прозрение о том, что там еще такого было в его взгляде, такого, чего он не сказал:
«А ты не злись, милая, не злись. Не рассказал он тебе, потому что ты хорошая... потому что не такая, как та... Потому что он думал, жизнь с тобой новую начнет... без всего этого...»
«А вот не надо было думать» – «отвечаю» ему мысленно, с горечью и желчью, – «когда не просят. А за меня думать вообще и в принципе не фиг».
И бегу, бегу все дальше.
Еще один толчок – нет, не раскат грома – прозрение: что это я недавно вздумала? Он даже мне не сказал, то ли дело – Нине. Нина, конечно же, ни о чем не в курсе – и как же мне отчаянно хочется, чтобы мне было на это наплевать.
– Ты все не так сделал, – «твержу» ему на бегу, задыхаясь. – Все через жопу. В проектах у тебя бардак. И с бабами бардак. Все не в свое время. Сдался тебе ребенок той суки... твой «сводный» сын-племянник... сдалась тебе эта... Сдался мне ты... Сдалось мне загоняться из-за тебя, из-за того, что мы с той сукой для тебя одинаковые, а эта – не такая, как мы... Что ты наверняка уже успел мне «все простить», и даже в этом я для тебя от той не отличаюсь. Ты и не услышишь теперь, что все это – не я. А это все – не я...
Грозно-сердитая влажность давит прямо в нос. В грозовых тучах снова кипеш, у них там дождь кучкуется, а я, как обычно, без зонта.
Ха, да вот и «карточный». Отремонтированный такой, перестроенный. Он же не знает, что он на самом деле рухнул. Стоит, конечно, куда же денется. Он ведь рухнул не для всех.
Да там свет горит... С улицы видно мужскую фигуру в сером свитере... Кто-то – кто бы это? – работает – или что там можно делать в абсолютно пустом помещении. Разве, сканировать проводку...
Поднимаюсь наверх и вижу в коридорах и на лестничных площадках шеренги отделочной техники. Технику выставили, потому что закончили – или просто сматываются, сворачиваются.
Конечно, он не сам все это, но его заставили убрать его бригады и теперь ему приходится... тушить свет? Вот хохмы.
Вот он, в сером свитере и джинсах. Он стоит в двух метрах от меня и... «тушит свет» – разъединяет толстый провод и переноску, подключенную к системе строительного тока. Самого распределительного щита не видно.
Не могу больше.
***
Рик... Ждал он меня здесь, что ли?
Он смотрит не мигая. Какой бесстрастный, но сосредоточенный взгляд – совсем как в прошлый раз, когда на работе увидел меня с Франком.
Он, кажется, не удивляется, что я пришла. Или это неприязнь? Конечно, ведь он же думает, что это я его подставила.
Рик открывает рот и, кажется, начинает мне что-то говорить, а я не могу так больше, поэтому перебиваю его.
– Это не я, – говорю ему то единственное, что он должен знать.
Пусть услышит это от меня.
Это не я... не я... не я, хочется кричать мне, повторять. Пусть попытается меня заткнуть – не заткнет.
Но вот я произнесла это – и говорить уже больше не могу, только головой мелко трясти да шевелить губами, как истеричка помешанная.
А Рик уже подошел ко мне вплотную, поднимает руку... неужели ударит?.. Что я буду делать – в ответ ему заеду?..
Пытаюсь решить сама с собой этот вопрос, но мое лицо уже заключили в обе руки, придвинули вплотную к своему лицу и требуют:
– Посмотри на меня!..
Поднимаю глаза, смотрю исподлобья, тяжело, силясь разглядеть.
Да, это его лицо, его глаза. И теперь он взволнован.
Я, кажется, давно не видела его. Надо поглядеть, пока разрешают.
Смотрю, но не слышу – кажется, он говорит мне что-то?..
– Я знаю... я знаю... знаю...
В отличие от меня, Рик повторяет, все повторяет и повторяет.
– И я тебя ни в чем не виню. Никогда не винил.
Не винит. Хорошо.
– Хоро... – начинаю я, но он не дает сказать и закрывает мне рот губами.
И... вот. И все. Отсюда – все. Приехала... могла бы простонать ему... или себе... и стону, но только без слов и тихонько так, умиротворенно... Кажется, он тоже тихонько стонет, будто сдержать все это не в силах... все это... что оно там такое... Ах да, губы его...
Какие они у него... холодные?.. Или это я горю?..
Он целует меня, все целует и целует. Будто вбирает в свои губы жар моих воспалившихся губ, в глаза – лихорадочный блеск моих воспалившихся глаз, в мысли свои – вихрь моих воспалившихся мыслей.
– Ты температуришь, – бормочет он моим губам между поцелуев. – Тебя знобит, – целует, трогает мой лоб, прижимается к нему лбом.
– Не обращай внимания, – прошу его, но он уже вдавил меня в стену, и теперь язык его у меня во рту обтанцовывает мой.
«Давай потанцуем» – соглашается мой язык и перевивается с его языком.
И... больше это не танец. Мы соединяемся в этих поцелуях, сливаемся друг с другом вне времени, как будто оба на мгновение лишаемся чувств... Мгновение длиной в вечность... Мгновение, в каком не видно и не слышно ничего... Мгновение, в каком не понимаешь, кого и что ты чувствуешь и... ничего думать не в силах.
Так было однажды – вернее, не было. Мы не отрывались, не прерывались, не расставались... – мы целовались... Все эти месяцы... годы мы не переставая целовались... Ведь так бывает... Так было с нами... Так бывает, когда хочешь, чтобы длилось бесконечно... когда не хочешь, чтобы прекращалось...
Но прекращается: Рик бросает мой рот, под конец слегка зажав губами мою нижнюю губу, и теперь судорожно целует мою шею, а я закрываю глаза, запрокидываю назад голову.
– Не я, – вбрасываю опять зачем-то, напоминаю.








