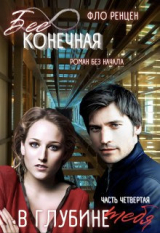
Текст книги "В глубине тебя (СИ)"
Автор книги: Фло Ренцен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 17 страниц)
Да ему ко мне и не надо – ему вредно быть со мной. Правда, и до меня дошло, наконец, что его нужно удерживать, чтоб не пил и не курил, да он же все равно не слушает. И на учебу не я его отправила – не додумалась. И не знаю даже, как он сейчас с учебой успевает, с его нынешними-то заморочками. Рассказывал, что даже сдает там что-то вроде. Молодец, конечно...
Он держится за эту жизнь и возвращаться ко мне не собирается. Тащить его к себе я не пыталась и, честно говоря, не знаю, как он отреагирует. Подумает, прикалываюсь.
Он ведь меня только такой и знает, которая «посерединке» и у меня уже не выйдет сделаться в его глазах другой.
Меня скоро выписывают и надо определяться, а на фоне этих рассуждений я плохо представляю себе какие-либо эксперименты.
«Не бойся» – говорит мама, но я не боюсь – не верю просто, что что-то может из этого получиться...
Короче, я решаю прибиться опять к знакомому, да и его не теребить, не подавать надежд на что бы там ни было. Черт его знает, чего он еще от меня хочет.
Залежалась тут, заболелась – «на воле», вон, столько дел ждет – глядишь, затрется снова. Да и лучше одним махом обрубить – только не этот онанизм, испытанный неоднократно.
Все это целесообразно и вполне разумно. И только сердце впервые мириться с разумом не желает.
***
Еще у меня восстанавливается нога, но восстановление это такое болючее, зараза.
Приходит мой мучитель-физиотерапевт, который проводит со мной занятия по поддержанию остаточной мускулатуры – пытка, да и только. Особенно добивают столь «полюбившиеся» мне ледяные ванны от опухолей, до колена – в лед, до полуотмирания ступни почти. А чтобы я раньше времени не вылезала, этот садюга всей своей тушей наваливается на здоровую часть моей ноги.
Провожаю его и, как всегда, чуть не плачу, но не от того, что жаль с ним расставаться – скорее, жалею, что не могу пнуть его под зад.
После физиотерапевта приходит женщина-остеопат. Она и сама будто чем-то загружена.
Быстро разбираюсь, что у них, остеопатов, это профессиональное: будто принимают они на себя твою боль, как физическую, так и душевную.
Когда она филетирует мою физику, а я осведомляюсь, не будет ли вслед за ней еще и психотерапевта – профилетировать мою психику, она не удивляется, не лезет с расспросами, а просто кивает невесело и понимающе. По счастью, психотерапевта ко мне не присылают.
Когда они все уходят, а я от их лечения чувствую себя основательно раздраконенной, мне вдруг хочется, чтобы тут появился Рик и как-нибудь все это дело успокоил. Как раньше.
Худая и страшная – да у него на меня и не встанет, как раньше вставал.
Вспоминаю, как когда-то он предлагал меня лечить – но это он от гриппа предлагал. Сейчас это невозможно, поэтому пусть тогда хоть позвонит поскорее... А-а-а... кажется, сегодня не позвонит, потому что воскресенье... Что это у него там обычно бывает... после чего он бухать ходит? Подозреваю, что это не работа и не лекции... да нет, какие сейчас к хрену лекции... семинар... практика... да не знаю я...
Мне плевать, думаю и пусть это не вяжется с тем, что мне не все равно, и я люблю его и жалею, правда: сейчас мне очень хочется быть с ним. А я ведь решила, чтоб, типа, окончательно и бесповоротно.
От «окончательно и бесповоротно» становится так хреново, что рвет на части, саднит тело и грызет душу. Будто уходит что-то. Окончательно и бесповоротно.
Может, теперь, когда я люблю его, стоит совершить еще один наскок и попробовать?..
«Ты совершаешь ошибку. Ошибку колоссальную. Быть может, самую большую в твоей жизни. Беги к нему, лети к нему. Сейчас»
Порываюсь бежать, лететь, но из-за гребаного оттерапированного перелома и с места не могу сдвинуться – больно, подмечаю со старушечьим ойканьем.
«Летать не можешь – ползи. На карачках. Он же лечить собирался – пусть забирает. Давай, хватай, выгрызай его зубами у этой... Нины. Отпихивай ее... – Не-е, зачем отпихивать, она ж... хорошая... – Да ты ли это – она хорошая?.. – Нет, отпихивать не надо – надо аккуратненько его у нее взять, спасибо ей сказать, что сохранила и до сих пор на себе не женила. – Ой, а вдруг женила, пока ты тут валялась? Да куда это он постоянно ходит, рыщет».
В полубреду я закемариваю на четверть часа, не больше.
В туманах пауэр-нэпинга вижу себя: бегу босая, в летнем платье, бегу в проливной дождь, бегу через весь город – или просто пробегаю насквозь Веддинг. Куда бегу? Наверное, на день рождения к Рику. Наяву ни разу не была. И он у меня не был. Наверно же, конец июля. Июль поливает на меня, я промокаю до нитки. Бегу быстро, как девочка из рекламы кроссов или дезодоранта. Камера показывает мой бег замедленно, издалека, то сбоку, то сверху, а с неба на меня очень художественным крупняком падают преувеличенно огромные дождевые капли. Взбегаю на мнимое крыльцо мнимого особняка – таких сроду нету в Веддинге – где мнимым образом живут Рик и Нина. Когда Рик открывает дверь, я не даю ему подарка – лишь молча протягиваю ему обе руки, как будто для наручников: давай, вяжи, мол. И все.
Проснувшись, корчусь, содрогаюсь от смеха – больно, блин. Жаль, не досмотрела, чем кончилось. Взял, не взял руки... Или не кончилось – не потому ли, что окончательное решение Рика в моем сне – это не главное? Не зря я там так долго бегала, по лужам шлепала – не в этом ли был смысл? Не в том ли решении, которое сама приняла и которое заставило меня выбежать из дома? А раз все так и не кончилось, значит, не должно было.
«Ты хотела, чтобы это было бесконечно...»
И после их свадьбы ничего не кончится, думаю. Все эти кольца и фата и что там у них еще намечено – для него это ничего не значит. Хотя если она фамилию его – отчима его, но и его же, возьмет, может, и проймет его. Они же, мужики, слезливы насчет этого, он – в особенности. Припоминаю его откровения про сына, и как он липнул к сыну Риты, когда та, должно быть, уже и имя его позабыла. Волчара, думаю. Не забывает. Порода его такая – стаю не бросать.
А ты, разве, хотела, чтобы кончилось?..
Конечно. Еще в супружеские измены эти долбаные влезать. А если ломанут детей заводить... усыновлять, то бишь... один хрен... Ладно, с Михой – там особый случай был. Да может, даже отыграться тогда хотела, хрен ее-меня сейчас знает с натурой моей блядской. А тут – семейное счастье дебилам этим ломать. Если он, дебил, вообще собирается на ней жениться и быть с ней счастливым.
А вот мы его сейчас и спросим, думаю и быстренько набираю последний номер в истории звонков моей сотки – его номер.
– Кати? – поспешно, встревоженно спрашивает он, даже гудка первого не додержав. Правильно, может, я там уже при смерти. Предсмертный звонок любимой женщины. Блин, нельзя смеяться.
Вместо подавляемого мной хихиканья, от которого все равно больно, умудряюсь произнести с умеренной бодростью:
– Привет.
И начинаю болтать с ним.
Не спрашиваю, не мешаю ли и где он сейчас – вижу только его лицо и предоставляю ему до поры-до времени сохранять интригу, пока не услышу, как он бросит ей через плечо: «Я – щас».
– Не ходил сегодня на мальчишник?
Трезвый, кажется, что меня, вообще-то, радовать должно.
– Не-е, – смеется Рик.
– Что за мальчишники у тебя там такие? – спрашиваю по-пацански, грубовато-весело. – Колись.
– Нормальные. Мужские.
– Мальчишник бывает перед свадьбой, я думала.
Он улыбается задорно-нагловато, покачивает головой, а я не знаю, как это понимать и спрашиваю:
– Женишься, что ль?
Смеется. Нет, что ль?..
– Так ты что – совсем не любишь Нину?
– Ну... – он смеется опять, затем говорит серьезнее: – Хер ее знает. Люблю, наверно.
М-да, вот тебе, думаю, и речка с мостиком, и ты на нем без памяти.
А это-то побольнее будет.
Хрясь...
Так и говорю ему:
– Хрясь...
– Чего – хрясь?
– Ничего.
Не поясняю, что «хрясь» – это как будто мою голову только что откромсало от позвоночника, как на гильотине. Не поймет еще, решит: чокнутая.
Рик смеется, опять смеется – бляха, да понял он все, что ли?..
Нет, решительно, пьяным он мне больше нравился.
А моя отделенная от туловища голова, заходясь в беззвучных рыданиях – блин, еще и реветь нельзя: и палево, и больно, и смешно – остервенело соображает, стасовывает детали, соединяет фрагменты в одно единое целое: он ее «любит, наверное», а ко мне у него когда-то было «ну, что там чувствуют». Кому как, но мне порядок значимости ясен. Неважно, что полюбил он ее по-дебильному – через привычку, а затем и в стаю принял. Неважно, что говорить с ней по-взрослому не может и что, уже будучи с ней, трахал меня до умопомрачения – своего и моего. Неважно. И неважно, что он, спасая меня от одиночества на больничной койке, подарил мне без малого семь вечеров своей драгоценной, почти семейной жизни – кончались эти вечера в ее постели, а не в моей... койке. И неизменно встречи наши, если я, конечно, впредь их допущу, так и будут кончаться, а эта бесконечная путанная хрень между нами так и останется бесконечной путанной хренью. Потому что у той новообретенной жизни, которая так крепко держит его, оказывается, есть имя и имя ей «Нина».
Остервенелые соображения моей отсеченной головы вихрем проносятся под его раздолбайский смех – а я в него включаюсь. Со смехом – сама же, мысленно вычищая «место после казни» – предлагаю:
– Так ты женись тогда, чего ты ждешь. Она хорошая вообще-то. И любит тебя, по ходу.
– Да чего ты все – «женись, женись...»
Брехня, это она все – женись, женись, а я сейчас только в первый раз сказала. Он меня с ней еще и путает. Дожили.
– Ты скажи мне лучше, тебя когда выписывают? – спрашивает он.
– Послезавтра, – вру я.
– Во-о, наконец-то.
***
Глоссарик
пауэр-нэпинг – короткий, но глубокий и качественный сон
ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ Это серьезно
На самом деле меня выписывают завтра. В день рожденья, будто бы специально. За мной приезжают папа с мамой. Вместе с костылем меня грузят к папе в машину, в которую я ныряю по мере физических возможностей поспешно и не оглядываясь, как будто не хочу встречаться глазами с кем-то.
Мама же, напротив, озирается по сторонам, ищет взглядом. Но того, кого она ищет, там все равно нет – я об этом позаботилась. Мне кажется, когда она садится в папину машину, то тихонько вздыхает даже.
А я не посмотрела, был ли там где-нибудь Рик, может, каким-то образом узнал и приехал все-таки, но подходить не стал, а может, узнал и наоборот, обиделся и не приехал.
Как бы там ни было: не он забирает меня из больницы, и я не знаю, чего во мне сейчас больше, облегчения или разочарования.
Дома меня ждет Эрни, кроме того, ждет праздничный обед, хоть в этот раз и нет торта «Катика». Зато Эрни привез с собой Дебс и Рикки.
Обед приготовила мама и теперь идет накрывать на стол. Когда я, ковыляя, лезу пытаться ей помочь, меня отгоняют чуть ли не кулаками, грозясь уложить «отдыхать» на диване в гостиной. Справиться со мной мама, понятно, не в состоянии, поэтому вынужденно терпит у нее под ногами мои путания, вернее, спотыкания, правда, при этом тихонько со мной переругиваясь.
Движимый каким-то новоявленным и необъяснимым рвением, папа пытается было составить нам, вернее, мне компанию, что быстро ему наскучивает – от него еще меньше пользы, чем от меня. Оказавшись прозорливее, молодняк, чтобы не мешать, скромно забуряется ко мне в спальню вместе с папой и собакой. Предполагаю, что смотрины Дебс успели состояться ранее и прошли более или менее благополучно. Не могу не признать, что для такой компании у меня тесновато.
Когда в дверь звонят, мы с мамой, как по команде, вздрагиваем, мгновенно бросаем перебранки, замираем и переглядываемся. Только в этот момент замечаю, что, оказывается, все это время продолжала ждать и бояться чего-то.
Но Эрни с басовитым криком: – Приехали! – метелит открывать.
Когда через минуту у меня в прихожей появляются еще трое – Пина с девчонками – становится даже удивительно, что моя квартира еще не трещит по швам.
Пина кажется настолько худой и изможденной, что даже на фоне и в отличие от старшей ее на десять лет мамы кажется женщиной предпенсионного возраста.
Все эти годы мама избегала папину жену и их детей, но ни разу при мне и слова недоброго о них не сказала,.
Однако про Пину скажет мне после тет-а-тет:
«Ничего, вот досидишься ты с голодовками твоими – тоже такой будешь».
Давно мы, все-таки не виделись.
Симпатичная, стройная и не такая изможденная, как Пина, девица-Паула по первой держится несколько смущенно. Однако это не мешает ей в этом самом смущении передать не мне, а моей маме подложку с большим и невероятно вычурным тортом. Позднее я узнаю от абсолютно разнесчастного отца, что Паула прекрасно-пафосно печет и собирается бросать универ, чтобы всецело посвятить себя фудблогерству.
Но сейчас, в дверях меня «вырубает» даже не Паула, а высоченная, светловолосая девушка-дылда, сильно похожая на... меня. Только подороднее да и ростом меня повыше.
– He-e-e-ey, hatt du uns nen Schrecken eenjejagt! Хе-е-ей, как ты нас напугала! – восклицает по-берлински девушка – и норовит броситься мне на шею, и только возгласы Пины и мамы ее удерживают. Чисто по логике это, конечно, Лея (просто больше быть некому), но – да блин, как давно мы не виделись.
– Здоров, двойник, – смеюсь я. – Ты когда так вымахала?
По все той же логике ей не может быть больше тринадцати.
Да, с ее ростом Рикки ей как раз подошел бы. Да он ведь тоже тут как тут и видя их вместе, чувствуешь, что эти двое были созданы друг для друга.
– Хоть у тебя с ним поиграю! – смеется Лея.
Под конец вечера у нее действительно опухают и слезятся покрасневшие глаза, из носа течет – она уничтожает почти весь мой запас разовых носовых салфеток, а лицо покрывается красными пятнами. Несмотря на это, сестра весь вечер не отходит от собаки, успевая, правда, сообщить мне, что ходит на кикбоксинг, а через пару лет мечтает уехать по обмену школьниками на Бали или другой какой-нибудь уголок в юго-восточной Азии.
Паула поначалу больше занята просмотром комментов к своим кондитерским видеороликам. Затем она, несколько воодушивившись просмотрами, оттаивает и делится со мной своим ближайшим графиком кулинарных курсов, воркшопов и вебинаров, о которых рассказывает вполголоса, чтобы лишний раз не травмировать папу. Чай-кофе пьем с ее тортом. Вкусно, мощно – неоспоримо, но вот, кажется, отвыкла я от такого. Да и не «Катика».
В целом мы неплохо проводим время – впервые в таком составе. За столом, кое-как расставленном и накрытом в гостиной, один за другим рождаются тосты, толкаемые в мою честь папой, благо повод по его словам у нас сегодня не только мой день рожденья. Его женщины-жены – бывшая и актуальная – послушно поднимают бокалы, отпивают и даже тихонько беседуют друг с другом. Возможно, Пина рассказывает маме о своей работе фармацевта. Ума не приложу, о чем рассказывает ей мама, но когда приходит время убирать со стола, Пина даже немножко ей помогает.
Мама держится молодцом, как будто иначе и быть не могло. Вообще, как я уже сказала, чисто визуально Пина рядом с ней сильно проигрывает. И все же мне хочется обнять маму, покрепче прижать к себе и сказать ей, что только ради меня точно не нужно было всего этого устраивать.
Я давно мечтала о семейном празднике и коза я, конечно, неблагодарная и вечно недовольная – но чувствую теперь, что все это меня немного утомляет. Наверно, это нога все.
Но в конце концов моим семьям до такой степени удается отвлечь и развлечь меня, что я почти не вздрагиваю, когда в самый разгар «праздника» мне несколько раз кажется, что я слышу звонок в дверь. Кроме меня и, может быть, мамы, которая не вздрагивает, а только на пару секунд прерывает какой-то разговор, звонок этот не слышит никто. Дело в том, что после прихода Пины с девочками я его «прикрутила», справившись, что теперь мы же, мол, в полном составе?..
Я не подхожу к окну – глянуть, кто – а мало ли... И если... да черт его знает, как узнал...
Вечером все разъезжаются. Паула увозит мать и сестру в Веддинг, они с ее молодым человеком живут там же. Папа, Эрни и Дебс увозят Рикки, вернее, завозят его и Дебс домой. Рикки, кажется, думает, что его ведут гулять. Уверенный, что сейчас вернется, он радостно прыгает и на прощанье лижет мне руки.
Эрни всерьез предлагает на некоторое время оставить его у меня, чтобы мне было не так скучно.
– Только попробуйте! – возмущается мама. Она остается со мной дольше всех, но в конце концов уезжает тоже.
Оставшись одна, зачем-то проверяю «обеззвученный» телефон – а мне как раз звонят. Так значит, звонки в дверь – это еще не все. Он не просто хотел попасть ко мне на день рожденья...
Вижу, что Рик звонил мне весь этот день на сотку, продолжает звонить и сейчас. Черт его знает, зачемт.
Черт его знает, зачем звонит и на следующий день, за ними – еще... Явно не для того, чтобы обложить матом, мол, «назавтра» приперся забрать меня, а меня, козу, уже забрали. А ведь надоедливым может быть, оказывается... Решаю специально не блокировать его номер – пусть сам поймет и пусть отстанет сам.
Когда мне, наконец, приходит на телефон:
ты это серьезно
– вопрос его оставляю без ответа.
***
Серьезно или нет, но теперь, когда не отвлекаюсь на ежедневные разговоры с ним, мне легче сосредоточиться. В эти дни, когда по мере своих возможностей делаю дома уборку, я вновь много о чем думаю.
Во-первых: мы с ним – стреляные воробьи. Мы хорошо знаем друг друга и друг друга ни в чем не упрекаем. Возможно, это – своеобразное признание за другим его силы и его прав, а может, просто натура дурацкая. Волчья натура. Не клеится к ней любовь. Он волк, я волчица. Может, это он меня научил, а может, я еще до него такой стала. А когда он захотел нормальным стать, не догнала – ведь я же только что превратилась, а мне предлагалось – снова. Не совпало это с моими стремлениями, вернее, я не совпала. А он? Как из волков-любителей волчиц превращаются в нормальных? Таких, которые нормальных любят? Очевидно, ему как раз для этого и понадобилась такая, как я... Такая – посередине... Как переход такой. Что ж, думаю снова, на здоровье, Нина. Пользуйся.
Во-вторых, Нина влюбила его в себя через привычку. Через спокойный, нормальный быт и через запланированные, укрепленные отношения. В них не было бурь, которые были у нас с ним. Она внушила ему то сформировавшееся чувство к себе будто не совсем по его воле. Но это чувство проросло в нем и теперь с ним ничего не поделаешь. Ей, Нине, он достался таким, именно таким, о каком она говорила. Вернее, ей достались те его стороны, какие она в нем увидела. У него «разный» характер, подмечаю в который раз. Или не в характере дело, а это он показал ей ровно столько, сколько захотел показать. «Обыкновенный». Что-то я ничего обыкновенного с ним не видела, или, может быть, когда он мне это обыкновенное показывал, как раз отворачивалась, в сторону смотрела. А ей он не показал всего остального... По-моему, так и не показал. Даже то палево в карточном домике – не в счет. Узнай она его, такого, может, дала бы деру. А может, еще сильней запала бы, как... я?.. Кто ее знает... Да Бог с ней, не о ней сейчас речь.
В-третьих, он... тоже странный какой-то. «Хитровыебанный», как сказал бы сам...
Жили вместе – он недоволен был, чего-то ему не хватало. Разбежались – его бомбануло... прорвало... Поэтому мне кажется: стоит мне прибежать или приползти «невестой», как в том моем придурочном сне – что он сделает?.. Скорее всего, «отправит». Честно – так я и думаю. Почему?.. Ведь это очевидно. Он сам ответил на этот вопрос. У него есть уже невеста. И она хорошая. И он ее, кажется, любит. А я не для этого вообще и при чем тут я. Это все его стайное чувство к ней, вожака стаи, волка, который соплеменников своих не бросает. Необратимым образом Нина прочно укоренилась в этой стае и занимает в ней фактически первое место. Место его подруги, подруги вожака стаи.
Но я ведь сильная. Почему бы не задаться целью разорвать такую связь? Что удалось Нине, удастся мне гораздо быстрей. Но какая-то гордость, а может, глупость держит, требует не делать этого, побуждает наврать ему насчет дня выписки, не брать телефон, не отвечать на сообщения, не допускать новых встреч и говорит мне теперь: «Хочет вылезти из Нины – пусть сам, а ты не убивайся».
***
– Ма-а-ма-а-а!
– Че ревешь!
Прихрамывая, подхожу в подъезде к плачущей девчурке и ее старшему брату лет пяти.
– Мы пати-ались! – рыдает девочка, а пацан недвольно тыкает ее в спину:
– Ниче не потерялись... Я просто этажом ошибся...
Должно быть, они с родителями заехали недавно, пока я валялась в больнице.
Мне удается узнать у мальчика их фамилию, затем я сверяюсь с наклейками на домофоне и вычисляю, на каком этаже они живут.
Передаю их ошарашенной молодой мамаше, которой явно неприятно, что ее детей приводят домой чужие.
– А я тебя знаю, – неожиданно выдает мне пацан. – У тебя нету гирлянд. Рождественских. На окнах. Ты никогда не вешаешь. На Пасху тоже – ни яичек, ни зайчиков.
– Мы... жили тут же... в другом корпусе... недавно переехали сюда, – смущенно и немного неприязненно признается молодая женщина – наверно, это она обращала внимание своих детей на сей плачевный факт.
Улыбаюсь и киваю головой в знак подтверждения.
Помню, еще давно, когда мы с мамой возвращались домой, это было нашим любимым занятием – смотреть, как у кого украшено и не лучше ли, чем у нас. А у нас с мамой каждый год была одна и та же гирлянда – большие, крупные звезды. Ни у кого нигде таких не видела. Много лет мы вешали звезды на кухонное окно, пока они не перегорели.
На заднем фоне раздается плач младенца.
– Спасибо, – торопливо говорит женщина и спешит захлопнуть дверь у меня перед носом.
– У тебя в нозке «ауа»? – замечает в закрывающуюся дверь девочка.
– Ничего, заживет, – говорю закрытой двери я.
***
Нога заживает медленно и мучительно.
Учусь обходиться без обезболивающего. Учусь ходить и потихоньку выходить на работу.
Сейчас «zwischen den Jahren», но работы в предпраздничную пору хоть отбавляй, и я решила не ждать до «после Нового Года». Пока вышла на несколько часов в день.
На объекты высылаю Ханну, гораздо сильнее влюбленную во Франка, чем в его проекты – кажется, они изрядно ее достали. Франк – да-да, поселил ее в квартирке подле себя, в Шпандау. Что касается Ханны, то она мечтает развести его с женой и семьей, даром что они о ней в курсе. Посвящает меня в сии мечтания во время обеденных перерывов в суши-баре. Уж и не знаю, что он посулил ей, что бы их обосновывало. Хожу с ней, а сама скулю: когда там Рози вернется из своего круиза?..
Если находятся «выездные» задания такого уровня, для какого Ханне «рановато», через Мартина объявляю в нашем отделе «тендер» под заголовком: «Кто может..?»
В конторе, где и в былое время не располагала собственным кабинетом, подолгу не выдерживаю: достают сочувственные – не злорадствующие и ладно – взгляды. Кажись, потускнела и подурнела в глазах Йонаса, который совсем больше не клеится – о старых происках вроде забыл, а, может, нашел кого, остепенился. Или правильно я когда-то заметила – к «больным» он не клеится в принципе. Это, конечно, радует.
***
По-моему, все мы неплохо справляемся с моей работой, но замену меня Ханной очень скоро замечают на ЭфЭм. Замечает кто надо. Вернее, кто не надо.
И вот, поутихшие было после моего дня рожденья, звонки в эту предновогоднюю пору начинают «звенеть» с новой силой.
Ага, значит, я бессовестно врала насчет своего выздоровления. Значит, приуменьшала степень тяжести травмы, скрывала, что дела у меня из рук вон плохо – так он, наверно, думает, когда сегодня, сейчас после очередной безуспешной попытки дозвона кидает сообщение:
ну как тебе там выздоравливается
Я как раз дома и на сообщение не отвечаю.
Когда еще в больнице он сказал, что любит ее, я поняла, что будет больно, жестко и мучительно. И разумеется, как обычно в моей жизни, сказала себе, как отрезала: «Я справлюсь».
Ту первую ночь дома, когда все разъехались после моего дня рожденья, я с полчаса поразглядывала лишенный права голоса телефон, понаблюдала, как он подобно просыпающемуся посреди ночи младенцу то и дело заходится его звонками. Затем, и вовсе его отключив, уложилась в кровать, где рыдала до икания – и до утра почти. Рыдала от боли в ноге, несчастной любви и одиночества. Рыдала ночь, так же и вторую, но затем изреванные ночи постепенно сошли на «нет».
Сейчас, когда Рик упорно решил вновь начать интересоваться моим здоровьем, мне от этого его участия становится так стремно, что я снова начинаю реветь.
Реву, захлебываясь плачем, и думаю: «Как мне тут выздоравливается, ага... Плевал он на меня. Плевал на мои чувства. Как тупо, безмозгло, бестолково как. Ему достаточно, что я жива-здорова, что у меня кости срослись... срастутся скоро... когда-нибудь... что никто меня не пиздит... по лицу... или каким там еще частям тела... что моей жизни, моему здоровью ничто не угрожает... Ему этого хватает... теперь он вновь может вернуться в нее, в свою зону комфорта... Его зона комфорта – это, да будь она трижды проклята, Нина. И ее он «наверно вроде любит, кажется», а меня – «ну, что там чувствуют».
В самом деле, что там чувствуют? Ой, зудит где-то, свербит и трахаться охота – вот это, видно, я.
«Ну и иди, ну и иди давай...» – в который раз решаю я сейчас, а его расспросы оставляю без ответа.
Сколько раз уже я его спроваживала – не сосчитать. Мысли о нем спроваживала – не сосчитать еще больше. Теперь, на очередном кругу спроваживаю и мысли о нем, и самое его, почувствовав или мне кажется, что почувствовав, что он меня не любит. Или любит, но не так. Или так, но мне так не надо.
«И иди... Иди тогда...»
Весь этот день, после того, как я решаю «и иди тогда», Рик звонит мне еще много раз. Я неизменно не подхожу.
а у меня тоже подарок для тебя был
я отдавать не хотел тогда
но ладно отдам так и быть
Э-э-э... так хотел или не хотел отдавать?.. Этим он немножко интригует, но в итоге тоже не прошибает меня.
В конце концов Рик, уже явно мучаясь, начинает кидать голосовые, справляясь о моем здоровье, будь оно неладно.
хоть скажи как ты как нога
Но я проявляю невиданную доселе стойкость.
Через полчаса после прихода сообщения во входную дверь звонят. Стойкость моя дополняется прозорливостью. Поэтому не открываю, не подхожу к домофону, отключаю сотовый. Домофон вырубить не могу. Спустя полминуты в него звонят опять, я сдаюсь, с колотящимся сердцем рву к кухонному окошку и... не вижу, кто пришел. Увидь я, как он там, внизу трезвонит с матом, ломится ко мне, эм-м... да впустила бы, конечно. Блин.
Но я не вижу – поэтому мне легче сохранить стойкость. Если он специально спрятался под козырьком на входе, рассчитывал, что открою хотя бы из любопытства, кто ж это там, итит его мать, такой – просчитался.
Потом все-таки приходится включить телефон, на котором читаю:
может надо чего
скажи
Мгм. В магазин сгонять. Правда, пеше – без прав же ж... Блин, так а такси на что, точно... Чего не сделаешь ради больного друга.
Снова начинаю рыдать.
«Не надо» – объявляю самой себе, совсем как тогда, после неудавшегося залета. «Мне ничего от тебя не надо».
Ему же не отвечаю.
***
Так продолжалось с неделю, может, дольше. Потом достал недосып, отстал Рик – кажется, отстал – и незаметно я «выходилась». Произошло это гораздо раньше, чем более или менее сносно зажила злополучная нога.
Понимаю, что то была моя попытка стремительно, стихийно выплакать и выстрадать, чтоб больно было, чтоб разрывало, но, чтобы скорее вышло и прошло.
Кажется, мне удается это. Сердце надорвано, не спорю, и будет заживать, надеюсь. Но лучше так, чем бесконечные страдания, недодавания-недополучания, получания, но «не так», и, в сущности, топтание на месте.
***
Я больше не «выкладывалась» ни перед мамой, ни перед подругами и период жесткого отвыкания перенесла самостоятельно.
Затем после Нового Года звонит Каро и говорит неожиданно, будто о ком-то другом:
– Кати, да оказывается, это Рик привез тебя в Шарите?..
– Оказывается, он.
Так, думаю, ну, не Нина же.
Наверно, мама? Ишь ты, а. Когда ей надо, мама кого угодно где угодно достанет. А тут шутка ли – дочь обмолвилась, мол, подруги отговаривают от того, кого она, мама, наметила себе в зятья. Невольно улыбаюсь.
– А что, Рик не приезжал к тебе в больницу? – допытывается Каро.
– Да не пускают же. И мы с ним не... и давно уже... не того... – говорю терпеливо и вот честно, не расстраиваюсь даже.
Но Каро по-своему смотрит на любую ситуацию. Кроме того, не в ее правилах щадить чувства, замалчивая горькую правду.
– Я что подумала: как ты так – не распознала его? Он же хороший.
Если честно, думаю, то и правда хороший.
Тогда я, значит, дебилка?..
– Теперь уже все равно, – говорю. – От аварий спасать он, конечно, умеет, но в остальном – не про меня его хорошесть и со мной не проявлялась. И по-моему, у него со мной та же фигня. Мы оказались непригодными для нормальной жизни вместе, для совместной серости. С Ниной у него, кажется, лучше идет. А – все равно.
Каро придавлено молчит, затем все же подает голос:
– Не все равно. Прости меня – я заблуждалась, все время не то тебе советовала. Просто не знала всех нюансов.
– Значит, – улыбаюсь я, – у психоаналитиков на любой букет диагнозов разработан подходящий сценарий?
– Кати, я позвонила не потому, что у меня есть сценарий. А позвонила я, потому что люблю тебя и мне не все равно. И еще мне кажется, что я теперь прозрела и вижу то, чего пока не видишь ты. Я знаю, ты не любишь о нем вспоминать, но я прошу тебя: вспомни Миху. Ведь это все он. Это он во всем виноват.
Ей просто больше обвинить некого в моей фигне, думаю.
– Да, позднее пришлось и ему страдать, – говорит Каро, – но тот удар, который он нанес тебе, был сокрушительным. На том мосту ты прожила несколько жизней, сняла с себя не одну кожу так же брутально и безвозвратно, скальпелем по живому, прямо без наркоза, как раньше делали пластику. Ты обновилась, но изувечила себя. Жаль, что ты ничего не помнишь. Ты всегда была такой бесстрашной, но этот ужас, эта внезапность и боль его измены – это было больше, чем ты могла стерпеть. А ведь Миха довольно скоро, почти сразу понял, что самим собой наказан – но ты не желала этого принимать. Тебе этого было мало. И твое горе...
...если эта «вещая» чокнутая сейчас скажет, что мое «горе» убило тогда моего ребенка...
– ...ослепило тебя настолько, что ты не распознала, откуда еще грозит опасность: он «отнял» у тебя ребенка. Только сейчас я поняла, как тебе, наверно, было больно. А тебе не с кем было об этом поговорить. Когда я нашла тебя после, все уже свершилось. Все уже случилось с тобой. В тебе. Тебя, прежнюю, было не вернуть. От этого все теперь так, как есть.








