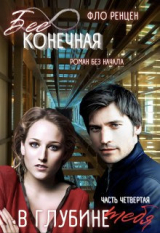
Текст книги "В глубине тебя (СИ)"
Автор книги: Фло Ренцен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)
ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ Змеи или Если вас укусил волчонок
«Берегись змей, они тут повсюду» – говорит Каро...
Что делать, Израиль – жаркая страна, а змеи тепло любят...
Ай-й-й, как больно...
Не доглядела я, как видно. Эх, зря пренебрегла ее предостережениями...
Укус змеи – это так больно, будто тебя пытают током, кажется...
Оказывается еще, от этого сразу становится жутко холодно. Но раз холодно, значит, это не Израиль...
Меня знобит, а над ухом что-то глухо воет и пованивает зверем. Зверенышем...
Так, если это змея, то почему она не шипит и почему воняет?..
А потому что не змея это вовсе. Кажется, мне так жутко больно, потому что меня укусил... волчонок.
Но я не в лесу и не в парке – я же уехала оттуда.
Спасите...
Я думала, тут нормальный приют для животных. Откуда мне было знать, что они там волчонка держат?
Рикки, ко мне... Ты где, мой песик?.. Тебе там хоть не досталось от этого зверюги?..
Это же твой родной приют. Ведь я, кажется, специально приехала сюда – найти тебе товарища, еще одного такого же лохматого засранца... чтоб ты не скучал дома один, пока я на работе, не выл, не грыз мебель, не таскал мои лифчики и не дербанил фотоальбомы... Хорошо, у меня нет фотоальбомов... Ты же у меня хоро-о-ший. Я же так привязалась к тебе... даже, кажется, полюбила... И ни за что не сдала бы тебя обратно в этот приют. Ни за что. Где ты, Рикки?..
– Где пес?
– Отбежал куда-то... злой такой... кидался на всех, лаял... не подпускал...
– Найдите... Подзовите... Кто-нибудь знает, как зовут пса?
– «Ricki». Рикки. Он чипирован...
– По чипу не звонили?
– Рикки, Рикки...
– Покормите его. Он голодный, потому и лаял.
– Рикки, ко мне, на!
Рикки... Как хорошо – о тебе позаботились. Я не могу, мне больно... Мне так больно...
Обычно маленькие, когда так больно, зовут маму... Но кажется, у меня нет сил звать.
– Катика!.. Катя!!!.. Пропустите меня, я отец!..
И правда – отец.
– Папа... пап... Прости меня, дуру...
– Моя девочка... это ты меня прости, старого дурака...
***
Пока я ничего не помню, но в этот раз мне почему-то кажется, что вспомню. Симон ведь так и говорил: может, ничего страшного.
Он думал, я совсем ни в зуб ногой – ан нет. Он ведь не ожидал, что я возьму, да и полезу в Сеть и все там подробно прочитаю: если «все серьезно», значит, хана: нужны таблетки. Это если у меня и правда невроз... психоз... нет, диссоциативная фуга. Бегство от суровой реальности, такой болючей, что даже маму звать не хочется, а хочется бежать и стать кем-нибудь другим.
Но если та хрень на мосту после «мишек» – не диссоциативная фуга, а случай единичный, а скорая – еще нечто другое (к примеру, если я ее возьму, да вспомню), то, значит, и сейчас – тоже. А тогда, г-н профессор-доктор-псих, наш бесподобный популяризатор Симон Херц, как сами вы изволили заметить, «причин для беспокойства нет», а существует лишь некоторая необходимость регулярного наблюдения у специалиста.
А ведь все дело в том, что «скорую» я теперь вспомнила.
Да-да, вот провалиться мне на месте:
«Пожалуйста, можно мне с вами...»
«Вы ее подруга? Ее спутница жизни?»
«Да, спутница. Можно, я буду держать ее за руку? Смотрите, когда я беру ее, она успокаивается».
«Хорошо. Наденьте маску».
Страшный вой в ушах. Сейчас оглохну. Рябит в глазах до боли, до слез от неонно-оранжевого цвета «скорой». Тошнит от запахов, от звуков. Не вижу мигалки, но она все равно будто мелькает перед глазами взбесившей вертушкой из холодно-синего. Симон, зараза не подходит. Каро царапается, то и дело всидываясь, вскрикивает. Ей больно.
Брыкалась и глючила уже на лавочке:
«Уберите... как больно... я не хотела... это не я... это не мое... я боюсь... я умру... я умираю... мне бо-о-оль-но-о-о...»
Где ж они... Как долго... Я подробно описала, где мы – они подвезли прямо к лавочке носилки.
А сейчас?.. Тоже ведь было, наверно, что-то такое... Кто-то держал меня за руку, кто-то говорил со мной, а кто-то вкалывал мне что-то. А кто-то просто жал на газ, врубив мигалку и сирену... Так и спасли, наверно... Если вообще было, от чего спасать...
Итак, я вспомнила «скорую», значит и про «сейчас» я вспомню тоже. И нет причин для беспокойства.
***
– Спит?
– Спит.
Когда я была маленькой и засыпала, они, наверно, так же переговаривались вполголоса, соображали, чем успеют заняться. И так же, как сейчас, не сразу замечали, что «не спит».
Не помню тех моих неспячек. Но то, что только что произошло, вспомнить обязана – я ведь объяснила, как это важно.
– Кого она там только что звала?
– Собаку, кажется... Как ты мог, Анатолий?!!.. Как ты мог!
– Сейчас ничем не поможет твоя истерика.
– О, у меня нет твоего хладнокровия!..
– Я не меньше твоего переживаю за дочь.
– «Переживаешь»! Это все из-за собаки вашей! Она совершенно убивается на работе – ей только собаки не хватало. А вы! Вам неинтересно, как она живет. Что она кучу денег тратит, только бы с вашей собакой кто-то гулял. Как ты мог навязать ей эту псину?!!
– Да это не я совершенно навязывал...
– Меня не интересует, кому из вас первому надоела собака! Вы безответственные! Все вы!.. Это свинство, что все ваше дерьмо вы неизменно выливаете на мою дочь!..
– Да успокойся, наконец, ну что ты... Да я ж ведь тоже...
– ...тебе это аукнется! Да-да!!!
– Так, хватит. Я уже решил. Я все улажу – она проснется... Так кого она там звала?
– Да собаку же...
– А по-моему, не собаку.
– Что – его? Да он даже ни разу ей не позвонил. И за что она так в него влюбилась...
– По-моему, нормальный парень.
– Ну конечно, если для моей дочери, так тебе любой нормальный... Да они давно уже и не вместе, кажется.
– Л-лилия! Что это значит – «кажется»?!..
– Это значит, что я не знаю наверняка.
– Что ж ты за мать такая – не знаешь, с кем живет твоя дочь?!..
– А ты знаешь?!
– Где мне! У меня, между прочим, не один ребенок, а четверо.
– Четверо! Но из этих четверых тебе важны только трое!
– Что ты несешь?! Ты не имеешь права меня обвинять!..
– А ты не смеешь утверждать обратное!..
Я хоть и амнезичка, но покамест не юродивая ясновидица. И все же я форменно вижу, не открывая глаз: родители, то ли, чтобы не ругаться в палате «при ребенке», то ли, чтобы просто закончить разговор, выходят, а затем разъезжаются.
ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ПЯТАЯ Переломная
«Что за жизнь у тебя – черт ногу сломит...»
«С твоей работой можно голову сломать...»
А вот и нет. Никогда себе ничего не ломала, в школьные годы занималась одними лишь танцами, но там тоже благополучно обошлось без переломов. Всегда умела избегать проблем. Даже болезням трудно было меня зафиксировать. По сей день.
Теперь, вот, зафиксирована. Валяюсь тут и... на манер Карлсона не могу не признать, что, пожалуй, любой не против заболеть.
Не верится, чтобы со мной могло случиться что-нибудь серьезное.
Да и что случилось-то?.. Вспомнить пока не вспомнила, а, подслушивай, не подслушивай – не понятно ни черта. Собаку забрали, мама с папой поругались – это все, что я знаю. Значит, хорош – пора «просыпаться». Да и медицинские приборы не проведешь, как ни старайся.
И вот я официально «очнулась».
– ЧМТ первой степени: сотрясение мозга и открытая фрактура голени, – говорят мне. – Перелом ноги...
– ...в желудке? – завершаю я с улыбкой, нахальной, но безобидной.
Сама не знаю, отчего мне так весело.
Д-р Доро (не знаю фамилии) не смеется.
– Нет, просто – ноги. И все. Представляете?
– По-моему, и этого достаточно... уй-й-й...
Взвываю, сделав, очевидно, чуть резковатое движение.
– Да вы хоть понимаете, как вам повезло?
– Ну, наверно, понимаю...
– Если б не ваша скорая... Ну что там у вас – вернулась память?
– Да, по-моему.
– Что там у вас случилось?
Что «случилось», я, может, все еще не помню, но совершенно точно знаю теперь, что во всем виноват переломный момент.
Так, переломный момент – а, Илья... Припоминаю: он же кидал голосовое. Вот так и есть – если сразу не прослушать, потом забываешь... Наверно, хотел узнать номер палаты, в обеденный перерыв прийти проведать.
Илья посадил меня на метро, возможно, запрыгнул – не дал закрыться двери и довез. Но это самое неинтересное. Потом, кажется, Рикки что-то увидел. Увидел опасность и оттолкнул меня и... наверно, так и отделалась этим «ЧМТ-1» с переломом.
Рикки, ты ж у меня умный, под колеса лезть не станешь. Хоть ты, вообще-то, и не мой пес, но я дала тебе, сколько смогла. Жаль, что тебя забрали.
Рассказываю, сколько могу, д-ру Доро.
– Не знаю, кто вызвал скорую.
– Действительно – кто. Не сама же приехала, – многозначительно говорит она и как-то странно, на меня смотрит, насмешливо почти. – Я забрала к себе вашу собаку.
– Спасибо, но это не моя собакаю.
– Как – не ваша? Да она никого не подпускала к вам, пол-отделения чуть не искусала... И не ваша?
– Вашей дочери. И моего брата.
– А-а... м-да-а? Хм-м... – задумывается д-р Доро. – То-то я погляжу, пес прямо-таки реагирует на то, что говорит ему Дебора. Только на это и реагирует. А на нас лаять пытается, будто ее от нас защищает.
Она удивлена не столько моим выяснившимся родством с Эрни, «развратителем» ее дочки, сколько тем, что Дебс, оказывается, «завела собаку». В отличие от моего отца, она, как видно, не была в курсе, а Дебс даже теперь побоялась обо всем рассказать.
– Оставите у себя Рикки? – спрашиваю с надеждой, просительно почти, как дети просят у родителей разрешения оставить подобранного на улице щенка. – Он хороший. Он очень добрый. Только невоспитанный – я... не успела. Мне с ним гулять некогда. Работа, знаете... А Дебс обрадуется – это ж она его выбрала в приюте.
– Это вы так называете Дебору – «Д-е-б-с»? – неодобрительно спрашивает д-р Доро.
– Она сама меня просила. Вы будете смеяться, но я с ней не только познакомилась, но даже полюбить ее успела. А если всем у вас будет некогда, можно позвать Эрнеста, – не отстаю я – пробиваю не у Дорен, так у этой. – Это ведь они вдвоем усыновили Рикки.
При слове «усыновили» ее заметно передергивает, она даже встает, отходит от моей койки и некоторое время смотрит из окна.
– Он хороший, – настаиваю. – Эрнест. Он любит Дебору. Они дети еще, но... он мой брат, я его знаю – любит.
– Вы знаете, – оборачивается ко мне д-р Доро, – тогда, с Каролин Херц...
– Она, кстати, родила благополучно.
– Да? Как они?
– Неплохо, – вру я. – Переехали. В Израиль уехали.
– Не жарко там?
– Жарко.
– Тогда я приняла вас за труса, – д-р Доро говорит резковато, отрывисто – без пяти минут главврач. Как пить дать, скоро им станет. – Думала, вы нас там всех обманываете – отказываетесь от усыновленного ребенка. Раздумали и собираетесь обратно биологическому отцу подбросить.
– Понимаю, – киваю я с улыбкой. – Теперь-то вы видите, что я не такая?..
Д-р Доро не улыбается. По-моему, просто не имеет такой привычки. Дорен, ее спутница жизни и вторая, неродная мама Дебс, сама сухарь-сухарем – и та поулыбчивее. А неулыбание д-ра Доро – это в чем-то защитная реакция, возможно, привычка, приобретенная ранее из боязни, что ее обидят. И не воспримут всерьез. Такие, как Дорен, начинают красить волосы во все цвета радуги да пирсингами увлекаться, а д-ру Доро такое баловство по чину не положено, ее стратегия – строгость, суровость.
– К вам приезжал отец, – сухо информирует меня она. – Пока вы «спали». Довольно властный, требовательный мужчина.
Папа – и «властный-требовательный»?..
Как бы там ни было – «мужчина» из ее уст звучит если не как ругательство, то, по крайней мере, как диагноз.
– Ваш с Эрнестом отец – явно против людей, чья ориентация не отвечает его гетеро-нормативам.
«Дебс как раз бояться нечего» – хочу сказать ей, но, естественно, не говорю. Как я понимаю, ориентация Дебс – это у них в семье больной вопрос.
Говорю честно:
– Да, это правда. Отец у нас в ТУ преподает. Физик. Завкафедрой по «физмеху» – физике трения и механике. Что поделаешь – точные науки... Как многие «естествознатели»-мужчины, папа придерживается определенных, возможно, несколько консервативных взглядов.
Что он вдобавок узбек по месту рождения и по воспитанию, пока умалчиваю – хорошего понемножку. Однако, может, в мозгу д-ра Доро профессор-гетеро-нормал – это не одно и то же, что, скажем, нетерпимый к их ориентации слесарь-сантехник.
– Но вы ведь понимаете, – продолжаю, – что Эрнест – не наш отец? Вот и я, к примеру – не наш отец, уж это точно. В какой-то мере я и сама не отвечаю его нормативам.
Д-р Доро не понимает, о чем я, и смотрит недоверчиво.
Тогда я уточняю:
– Вы у Дорен спросите. У вашей Дорен. Да-да, не удивляйтесь – я с ней имею дело по работе, и мы прекрасно ладим. Привет ей, пожалуйста, передавайте.
Так Рикки остается в семье д-ра Доро.
Насчет Эрни я больше не ковыряю, но думаю, теперь, когда он к ним придет, они, даст Бог, не спустят на него Рикки. Надо только, думаю, сказать ему – Эрни – чтоб дал им время и по первой у них не глазах не сильно облизывал Дебс. Пусть сначала попривыкнут.
***
После того, как я официально «просыпаюсь», первым меня навещает папа. Я рада, что случается это не в смену д-ра Доро и в остальном тоже рада ему.
Папа не плачет, теперь ведь нет основания полагать, что я «на волоске от смерти». Так, вероятно, полагал он, когда плакал у моей койки, а я подслушала, валяясь «без сознания».
Как и в своем полубреду, спешу заверить его первая, что раскаиваюсь в своих словах, что нет у меня никакой на него обиды. Я говорю это ему в грудь, к которой он, кажется, впервые в жизни меня прижимает, говорю, а он гладит меня по голове и не дает мне досказать:
– Как же я рад, Катика, как рад... Так рад...
Он имеет в виду, что я дешево отделалась.
Вообще-то, объективно говоря, радоваться тут нечему, но верно сказала д-р Доро – Glück im Unglück, то бишь, то самое счастье, которому несчастье помогло.
Не оттащи меня Рикки и не вызови прохожие так быстро скорую, меня ждала бы травма посерьезнее, или, глядишь, вообще не ждало бы больше ничего.
– Я везучая, пап... – убеждаю папу.
– Доча моя... Пусть всегда так будет. Я виноват перед тобой... я знаю, виноват... прости...
Затем отец торжественно продыхает, как будто перед тем, как выпить чарку:
– Катика, мы с Пиной посоветовались и решили взять к себе собаку...
Поздно, хочу сказать я, я уже обо всем договорилась.
– Оказывается, у эрделей шерсть вовсе не настолько аллергенна, а Лея отреагировала на поводок из приюта – он непонятно от какой другой собаки и весь в ее шерсти был. Лея, вообще-то, тоже очень собаку хотела...
Если это не выдумка, то очень трогательно, а если выдумка, то трогательно вдвойне.
Но теперь уже поздно и я просто говорю:
– Не нужно, пап. Все устроилось: Рикки теперь живет в семье у Дебс, то есть, у Деборы – девушки Эрни. Ее мама – главврач отделения здесь, в Шарите...
Врушка я все-таки: должность д-ру Доро новую присочинила. Ну и на здоровье – все равно она скоро ее добьется. А папа пусть обдумает свое отношение. Ведь главврач из Шарите – это вам уже не то, что непонятные панки-лесбиянки замест родителей.
– Хм-м... – бурчит он себе под нос. – Ну надо же.
– А ее другая мама – начальница в бауамте, – качаю дальше, тоже слегка подсочинив, повысив ее в должности. – Так получилось, что я их обеих знаю – очень и очень адекватная и респектабельная семья.
Настоящая.
Надеюсь, теперь папа и вправду согласен «подумать».
Дальше не качаю, как и недавно с д-ром Доро. Не говорю вслух того, что думаю: пап, да ты вообще радоваться должен, что сын твой – не «с другого берега». Что как ни пудрили ему мозги в школе насчет «радужных» отношений – умудрился же он в этом нашем берлинском котле страстей разобраться, что не мальчиков любит.
Соображаю, что всегда есть тот самый момент, когда следует предоставлять событиям развиваться самостоятельно – только события подготовить как следует надо.
Когда уезжает папа, вспоминаю про сообщение Арсеньева.
В нем говорится:
«Кати, прости, что так, по телефону. Ты бомбическая девушка, но я с тобой не справлюсь. Ты слишком сложная, а я не Симон Херц. Давай не будем. Без обид, о‘кей?»
Отвечаю также голосом:
Илья, какие обиды. О‘кей, конечно. Ты хороший мальчик. Тебе – только хорошего.
Задумываюсь, не посчитает ли он обидным, что его обозвали «мальчиком», только, когда сообщение уже отправлено и прослушано.
***
Лежу в Шарите уже пару дней. Оказывается, отсюда даже во время короны выбраться трудно, если уж попал. Но мне опять везет – сейчас снова послабления. Ко мне приходят и мне терпимо.
Каждый день приходит мама, предварительно сделав корона-тест – ей со школы не привыкать. Мама сидит у меня в маске, что тоже для нее привычно, и проверяет контрольные.
Если не вместе, а по очереди, ко мне пускают и Эрни, и – в силу блата – Дебс, которая подробно рассказывает мне, как у них живется Рикки и перечисляет все новые и новые проделки этого засранца.
Оказывается, у них квартира на самом нижнем этаже со своим отгороженным закутком в садике. Стоит ли упоминать, что Рикки в первые же два дня удается основательно загадить закуток? Так что прогулок с ним это не отменяет. Зато теперь, как замечает Дебс, у них в декабре пошел расти газон. Я не навязываю ей собственного опыта, приобретенного с псом – просто вспоминаю, что и как он делал у меня, а сама думаю, что они-то уж точно побыстрее приучат его слушаться. Они даже допускают-таки к себе Эрни: гулять с собакой. Даже Дебс с ними можно. Брат не в накладе. Во время выгулов он дрессирует Рикки, обучая командам на русском, который таким образом учит и Дебс.
От д-ра Доро мне становится известно, что ко мне в палату пытался пробиться «некто Милецки» – он же «Мартин» – условно, чтобы навестить. Но безусловно – уж я-то знаю – чтобы долбить меня работой на больничной койке и сделать вброс рабочего ноутбука, чтоб продолжала без него. Поскольку у шефа блата нет, но есть отягчающие обстоятельства – он мужского пола – его ко мне не пропускают.
Мне звонят девчонки – Каро, Рози. Рози купается в полупьяных волнах счастья, то бишь, Персидского залива. Я искренне радуюсь столь удачному применению ваучера. Чтоб, не дай Бог, не омрачить, рассказываю о своей аварии, максимально ее приуменьшая и забегая вперед в процессе выздоровления.
Приблизительно так же привираю и Каро, тем более, что у нее свой стресс – помимо не отмененных никем болячек у нее и у малого ей, как-никак, нужно обустроиться на новом месте, наладить отношения с родней мужа и научиться справляться с грудным ребенком в сочетании с собственным недугом. Да и проблемы со здоровьем у Каро, в отличие от меня, серьезные. Поэтому ей не до того, чтобы заниматься мной или начать подозревать неладное – она довольствуется моей «вспомненной» байкой: приехала к себе на Винету, «поскользнулась» и чуть не попала под машину, меня спас Рикки и так далее. Кажется, Каро убалтывается и не переживает на мой счет, а вот я реально переживаю и за нее, и за Ярона.
Так я «лежу», рада бы «выйти», но еще не «выхожу», особо не страдаю, пока однажды вечерком, день приблизительно на третий после моего «пробуждения», мне не звонит еще кое-кто.
ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ-1 Семидневка на расстоянии. День один-два-три
Один.
У него новый номер, но вот клянусь: у меня безотчетливо и беспричинно екает сердце, когда беру телефон.
Будто догадавшись, спрашиваю по-русски:
– Привет?..
– Привет, Кати...
Я слышу все и сразу же все понимаю.
Рик где-то на улице, он куда-то идет, и он... мертвецки пьян или расстроен просто, а может и то, и другое одновременно.
– Н-ну че, к-как ты?..
Точно – и то, и другое. Плюс – не знаю, от кого, скорее всего, Мартин слил Франку – но ему всё известно: где я, что со мной – всё.
Поэтому рассказываю без лишних пояснений:
– Норм. По обстоятельствам.
– Д-да? – не верит Рик. – Бл-лять, Кать-ка...
Я слышу, что он совсем расклеился, самым ненужным образом напредставлял себе там всякого и что теперь ему, пьяному, что называется, «в жопу», что только ни расскажешь – все будет бесполезно. Не знаю, почему он так настроен, из-за чего и где напился.
Стараюсь не заострять на этом внимание – просто болтаю с ним обо всем и ни о чем. Рассказываю, что меня обещают скоро выписать и слышу, что он этому не верит.
Да в конце концов, думаю, нельзя же так бухать из-за чего б там ни было... Ведь он всегда контролировал себя.
Поэтому, когда где-то там на его конце связи истошно взвывает сирена, интересуюсь осторожно, где он сейчас, куда идет, откуда.
– Да блять, домой. С ма... с мальчишника... на Котти... Авария, кац-ца... ебать, тут понаехало ментовок... не слышу нихуя... Лан-но, д-до завтра... Я поз-звоню... Отдыхай...
Два.
Как обещал, Рик звонит и завтра. И назавтра звонит он тоже не просто пьяный, а «в хлам». Не переспрашиваю уже, а что, мол, теперь у тебя каждый день мальчишники на Котти?.. Тем более, что разговор он ведет не буйно, дорогу, кажется, переходит аккуратно и, говоря со мной, исправно добирается «почти до дома».
Я теперь так и спрашиваю: «Дошел?» – на что он – мне: «Дош-шел. Почти дома». От этого я успокаиваюсь и спокойно засыпаю.
Уже после первого я успеваю привыкнуть к нашим разговорам, его звонка жду, как обязательной программы, а он не разочаровывает меня. Ума не приложу, какие у него снова регулярные дела на Котти, но я у него «застолблена», я это чувствую.
На второй день по моем завершении разговора с ним ко мне с видео-звонком стучится мама. Мама пеняет мне, мол, вот и давеча вечером не дозвонилась – с кем это я треплюсь часами?..
– Чего ты?.. – допытывается мама, когда я посмеиваюсь смущенно вместо ответа.
– Ладно, каюсь, – признаюсь маме с виноватой улыбкой. – Рик звонил.
– Да? – заинтересованно спрашивает мама. – А где он сейчас?
– Не знаю, наверно, уже до дома дошел. Я не разобрала толком, он... так невнятно говорил. Представляешь, каким-то образом узнал, что я в аварию попала, теперь названивает. И постоянно – подшофе... Сказал в первый раз, был на мальчишнике, я только не поняла, на своем или на чужом...
– «На мальчишнике»? – переспрашивает мама, затаив дыхание.
– Ну да, когда женятся, устраивают такой... мальчишник...
– «Женятся»??..
– Ну, или...
– И ты просто так его отпустишь?!..
Ушам своим не верю. Мама, ты ли это?..
– Ты ж сама его не любила.
– А и не надо, чтобы я его любила.
Мама выразительно смотрит на меня.
Сейчас как-то трудно ей о чем-либо врать, поэтому соглашаюсь:
– Ладно... ну... люблю. Может быть. Разлюблю, подумаешь. Ну и что?
– А то, что если любишь, то надо действовать. И нельзя ничего бояться. Ты у меня не трусиха, не идет это тебе.
– Что не идет? – не понимаю я.
– Он семью хотел и бизнес. И чтобы ты его во всем поддерживала. Как нормальная жена – нормального мужа. Ты отказалась. Испугалась, да?
– Мам Лиль?!!..
– Я говорила с ним, – сухо произносит мама.
– То есть, ты взяла и позвонила ему: «Алло, Рик, это Лилия, Катина мама..»
– «...я звоню, чтобы спросить, почему вы с Катей расстались» – безжалостно довершает мама. – Именно так.
Как ученику – на экзамене устном. Вот те, на. Только он не ученик и не мальчик, и вообще...
– Не пори ерунду, Катерина. Естественно, я ему не звонила – я разговаривала с ним в предбаннике. Здесь, когда он был у тебя.
– Он у меня был?!
– А ты ничего не помнишь? Ведь это он привез тебя в больницу.
– К-как – он?.. Так я думала, скорая... Илья мне скорую вызвал...
– Нет, никакой «Илья» – о котором я, кстати, первый раз слышу – тебе никого не вызывал, а он оказался твоей скорой. Я не муссировала, думала, ты знаешь. Не понимала, почему он не звонит – а он, оказывается, еще и звонит.
– Мам Лиль... – не выдерживаю, – ты не знаешь его. Помнишь, ты сама мне говорила? Так вот, на самом деле он даже хуже.
– То-то ты забыть его никак не можешь. А он – тебя. Кстати, он оказался вполне адекватным. Фактически не матерился.
– Да?.. – только и нахожусь, что спросить, будто совершенно обескураживаясь этим.
– Да. Даже когда у него из-под носа со стоянки «скорой» эвакуировали его машину, а его самого забрала полиция. И даже несмотря на то, что, кажется, его всего искусала эта твоя ужасная собака.
Значит, «моя ужасная собака» не сдержалась при виде волка?.. Вот ведь волк какой попался незлопамятный...
Я шокирована и изо всех сил стараюсь выглядеть шокированно.
– Конечно, – рассуждает мама, – в мои двадцать лет он был бы абсолютно не в моем вкусе, но...
...а мне и не двадцать лет, думаю беспомощно, барахтаясь в эмоциях.
– ...но, как я уже сказала: не мне его любить.
Мама смотрит на меня деловито, я бы даже сказала, оценивающе.
Мои слова про то, какой Рик бэд гай, упорно пропускает мимо ушей. И знать не хочу, сколько ей известно о наших с ним похождениях, и спрашивать никогда не стану. Да знала бы она, да разве ж бы она меня к нему толкала...
Оправдываюсь:
– Мне подруги, наоборот, кричат, мол, кинь, угробит...
– Ты поменьше подруг своих слушай и побольше – мать, – говорит мама твердо, даже строго.
– Мам Лиль... но ты же это не потому, что у меня... ну, там... поезд уходит... «останусь на бобах...»
– На черта мне твои поезда... и бобы... Я не про поезда и не про бобы совершенно.
Начинаю хныкать, будто меня заставляют съесть что-то полезное, но невкусное или проглотить какое-нибудь противное лекарство, но мама непреклонна.
– Я понимаю, если б он ушел, – многозначительно говорит мама. – Совсем ушел. Такие нам ни к чему. А он до сих пор не ушел. И не уйдет, это же очевидно. Организуйся, наконец. Ты же умеешь. Организуйся там, где это по-настоящему нужно.
Это что значит – бегать за ним, отбивать у той и себя в жены предлагать? Так, что ли?
Да я ж не то, что бегать – и ходить-то сейчас толком не могу...
Боязливо ежусь до того, что даже самой смешно немного становится:
– А как же гордость?.. Там, цену себе знать...
При слове «гордость» мама с дисплея моего смартфона на одно мгновение, очень короткое мгновение смотрит мне в глаза. Мама смотрит с такой невыразимой тоской, что мимо меня со скоростью мысли проносится флэш – мамина жизнь или то, что я о ней знаю, только в обратном порядке. Тоскливый взгляд сменяется взбудораженным перешептыванием с отцом у моей больничной койки, и под него, под этот шепот в мгновение ока роскошная белая лилия словно имплодирует – сворачивается-омолаживается в бутон, который оказывается моей мамой лет двадцати. Двадцатилетняя белая лилия среди мозаик мечетей и минаретов, благоуханная и царственно прекрасная, какой я никогда не была. В жарких объятиях южной ночи она вся обратилась в слух. Она жадно внемлет узбекским серенадам в свою честь и, слушая, влюбляется в того, кто их поет. Лицо ее сияет, на губах нежная улыбка. Из красивых глаз ее в самаркандскую ночь струится волшебный свет, а в нем – любовь и жажда жить. И горькая тоска, и долгие годы глухого одиночества.
«Мамочка, ты все еще так сильно любишь папу?» – думаю, а у самой колошматит сердце и сейчас лопнет голова. Все-таки сотрясение мозга – это вам не хухры-мухры...
Но мама «собирается» и, разогнав тоскливые воспоминания, говорит:
– Ты у меня взрослая и умная. У тебя не моя жизнь, а твоя. Не упускай ее, пожалуйста.
Мамочка, я так и не научилась врать тебе. Но слушаться тебя тоже не научилась.
Три.
Все эти переживания про мальчишники и про его возможную женитьбу вытесняются в моем сознании тем, что ближе: это Рик привез меня в больницу. Это он наравне с псом спас мне жизнь. Это он, как когда-то, оказался рядом, когда было нужно.
Назавтра я – плевать, что Рик снова пьян – требую от него разъяснений:
– Почему сразу не сказал, что ты?..
Он понимает сразу:
– Ну, не сказал. На хуя?..
– Мне д-р Доро про «мою» скорую говорила – это она тебя имела в виду?
Не наезжаю, говорю мягко и проникновенно.
И вообще:
– Слушай, сейчас я тебе перезвоню...
– Э-э, ты куда...
Мне надоело. В конце концов, сколько можно...
Набираю видео-звонок – не знаю, почему не додумалась раньше.
– Привет.
– Ну, привет.
Его лицо нависло над трубкой. Подмечаю, что у него немного отросли волосы и теперь чуть длиннее, чем он обычно носит. Он идет, покачиваясь по-своему, как он обычно ходит, но не шатается вроде. Кругом то и дело промелькивают огоньки фонарей и прочие фрагменты ночного, уже знакомого мне района.
Он смотрит на меня так, как будто ему больно смотреть:
– Бля... какая ты худая...
– Ри-ик... – улыбаюсь ему, обнаруживая, как сильно по нему соскучилась, соскучилась по его лицу, его глазам, хоть они и пьяные сейчас.
Он тоже улыбается, не выдерживает моей улыбки, требует:
– А ну, покажи себя... че там с ногой у тя...
Показываю себя, как он просил, свою палату, свою ногу, потом возвращаю свое лицо и говорю ему:
– Спасибо тебе.
– За что? – удивляется он.
– Что оказался рядом. Что так быстро привез в больницу. Что жизнь мне спас. За «мою скорую».
Удивление его моментально сменяется недовольством, да каким... Вижу на его лице – не вру – раздражение, даже ярость. Вижу, как он, приложив пьяное усилие, подавляет в себе эту ярость и раздражение, и говорит максимально внятно и по слогам:
– Ка-ти, а ну-блять пре-кра-ти щас же!
– Нет, Рик...
– Я сказал, бл-лять!!!.. – взрывается он, – Я сказал, что, блять, видел, как ты чуть не умерла... и я сказал, блять... если ты, блять, еще раз меня поблагодаришь за то, что я тупо отвез тебя в больницу, отвез тебя такую, как ты там была, я, блять, не посмотрю, что к тебе не пускает эта сука-лесбиянка – щас приеду в твой ебнутый Шарите... разхуярю там всю эту их, блять, ебаную шарагу...
– Зачем?.. – спрашиваю я, закусив губы.
Меня ни капли не отвращают его пьяные маты. Мне и смешно, и плакать хочется. А плакать мне хочется и от благодарного умиления, и от осознания того, какой все-таки хороший этот мой бэд гай, насколько он лучше меня.
– Чтобы пробиться к тебе и чтоб надрать тебе жопу, Ка-ти... Потому что ты ж не понимаешь ни хуя... какая это, блять, видуха, когда на твоих глазах... с-сука... вот че за н-нахуй...
Вижу, как он судорожно затягивается. Блин.
Мне кажется, теперь я знаю, почему он пьет – и не хочу, чтобы он пил.
– Я правда-правда легко отделалась – прооперировали, завинтили, все-все вовремя сделали, – потчую его подробностями, чтобы он не думал, будто я ему вру. – Башка в порядке. Гипс не нужен. С завтрашнего дня – «физио» и тогда реально пойду на поправку.
Он косится на меня с пьяным, угрюмым недоверием, а я не расслабляюсь:
– Рик, пожалуйста, не пей больше. И не надо опять начинать курить. Ты же бросал.
– Л-ладно, эту докурю щас. Выкидывать жалко.
– Ладно, – соглашаюсь я.
Кажется, ему нравится, что соглашаюсь, нравится, что прошу не курить-не пить – он все-таки бросает недокуренную, кажется, не затаптывает даже.
Я смотрю на него и улыбаюсь. Улыбаюсь и улыбаюсь, просто и нежно.
Из меня так и прет нежность и к тому, как он закуривал, и к тому, как выбросил ее, и к матеркам его. К его лицу, только что обиженному, а теперь встревоженному, по-пьяному отчаянно-расстроенному, смотрящему мутно, но пронзительно – мне прямо в душу. Как будто умоляет он меня о чем-то, заведомо зная, что это невозможно.








