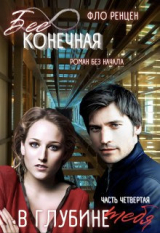
Текст книги "В глубине тебя (СИ)"
Автор книги: Фло Ренцен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)
И хоть мне все-таки очень сильно хочется говорить ему «спасибо», петь ему «спасибо» и «спасибо», уже не за то, что спас мне жизнь, а просто так – за то, что он сейчас со мной, я только улыбаюсь, улыбаюсь и улыбаюсь.
Теперь вижу, что он уже «пришел» и на прощанье говорю ему, как могу, нежно:
– Давай теперь всегда по видео общаться?
– Давай, – соглашается он.
Наверно, так и начинается наша недоделанная видео-любовь по телефону.
ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ-2 Семидневка на расстоянии. День четыре-пять
Четыре.
«Любовь» ...
«Любовь» у меня не означает «любовь» у него. А у него «любовь» не значит, что он будет меня слушаться. Тем паче, выполнять мои просьбы, которые выполнять ему не в кайф.
Итит твою мать, думаю, вот волчья же твоя порода – назавтра он звонит с видео и – кажется, снова навеселе, хоть и не так вусмерть, как прежде. Курево, наверно, зашифровал – покурил заранее. Ладно. Все-таки, Нина в этом плане толковая, конечно. Вон, курить его было отучила. Это он со мной срывается. Как и на другие вещи.
– Расскажи, – прошу, улыбаясь нежно. – Расскажи, что случилось.
– А ты не помнишь? – внимательно вглядывается он мне в глаза.
Ранее я упоминала, что и врачам заявила, будто вспомнила (сама же кратко пересказала им «сказочку», услышанную мной от мамы).
– Я подъехал – встретить тебя с метро. Там рядом с тобой стоял один упырь... орал на тебя... Ты – на него...
– Высокий, молодой такой? В очках?
– Нет, не тот твой чмырило из парка.
– Так ты нас видел?..
– Я вас видел, да...
– Поэтому поехал за мной?
– Приехал к тебе. Поэтому-не поэтому, бл-лять... Вы с ним сосались.
– Ты разве видел?
– Блять, видел.
– У меня с ним ничего...
– Мне похуй. И я понял.
– Я – так, на всякий случай... Откуда ты знал, что я поехала домой?..
Ведь могла же и к тому... собиралась... чуть не поехала...
– «Оттуда», – недовольно передразнивает он. – Короче, когда я к тебе подъехал, тебя не оказалось дома. И я пошел тебе навстречу. И сразу увидел, как ты шла с собакой. По ходу, тот пидор докопался до твоей собаки...
– Это Эрни притащил... он... пес жил у меня... я назвала его Рикки...
– Ну-ну... – хмуро кивает Рик. – И потом я вижу, он, сука, прям на тебя попер... а пес грызанул его или что... защищал... а он как толканет... тебя... под грузовуху... А пес прыгнул, и ты упала... но не под машину... а – го-ло-вой... – его передергивает, я вижу, даже голос хриплый у него дрожит – об столбик низенький такой... Блят-ть... Он съебался, тварь... Я не добежал – башку ему раздолбать... – хрипло, сдавленно говорит он, тихо так, зловеще, но внутри наверняка аж клокочет все... – Я не добежал, Кать... – и словно прощения просит. – Жалко...
– Не жалко, – говорю просто.
Ведь из этих соображений он и действовал – лучше не тратить время на разборки, а поскорее привезти в больницу меня.
– И ты не вызвал скорую... – начинаю, но мне уже известно окончание:
– ...потому что днем раньше у нас в Веддинге пациент в дороге... – ему явно трудно говорить, – помер... из-за ебнутой короны скорая приехала поздно... в ебнутую больницу через двадцать минут его привезла... когда уже...
Если б не пандемия, у нас это было бы неслыханно, хоть где-то еще бы считалось быстро.
– А ты?
– Я – через две...
Блин, надеюсь, не натворил по дороге ничего... не разбил никого из-за меня... Потом его эвакуировали, припоминаю.
– Права, наверно, забрали? – догадываюсь, а он лишь сухо, лаконично кивает.
– С ментами там проблем не...
– Блять, замяли, я ж сказал...
– И пес грызанул... Сильно?..
– Ниче, зажило почти.
Не может быть, конечно.
– Охуеть, – «хвалю» его я. – Бля, повезло мне.
Он запретил говорить «спасибо» – перехожу на «его» язык, чтобы дать ему прочувствовать.
– М-гм. Как смог, – только и говорит он хмуро. – Так ты че напиздела врачихе, типа, все вспомнила? Че тут за хрень?
– Нет, в общих чертах то, о чем ты рассказал, я-то помню...
Он нутром чует – «пиздеж» опять и нутром чует, что это почему-то плохо, а потому сокрушительно важно.
Видимо, надеясь призвать меня к откровенности, Рик говорит не «своим» уже языком:
– Врешь – не помнишь. Зачем ты врешь?..
Что это даже в некоторой мере опасно, он не знает. Об этом мог бы порассказать Симон, могла бы Каро, но их сейчас тут нет – наверно, уплетают там за обе щеки свою шакшуку да на море смотрят, а то все остальные развлечения – это там, говорят, дорого... Мог бы сказать Миха – как хорошо, что не скажет. На этом всё, больше не скажет никто – про тогда на мосту ни мама, ни папа не в курсе.
Как же ты не понимаешь, хочется мне сказать ему – если «не помню», значит, это рецидив, если рецидив, значит, психоз. А если психоз, то я, значит, чокнутая. А я не хочу чувствовать себя чокнутой. Потому что пока не чувствую себя чокнутой, я ей не являюсь. А пока я ей не являюсь, у тебя нет причин еще и из-за этого меня жалеть, и видеть мою слабость, и бухать вообще по-черному.
Пока я думаю все это, стараясь глядеть на него непроницаемо, он говорит нечто больше по незнанию, но, сам не подозревая, произносит именно то, что я хочу услышать:
– Ниче, вспомнишь еще.
И мне мгновенно становится хорошо. Я опять ему благодарна. Вновь хочу обнять его и от умиления тем, как он сумел и угадал, даже немного поплакать. Ведь мне хотелось чувствовать себя сильной, а он это понял и дал мне силу. Дал мне уверенность в себе.
Но тут я вглядываюсь в его лицо и меня накрывает дежа вю. Нет, я не «вспоминаю» – я понимаю, что однажды уже слышала, но не слова, а тон, каким они сейчас были сказаны. Ведь точно так же он когда-то говорил мне: «Ничего, родишь еще». Помнится, тогда мне вовсе не это было надо, но сказал он все равно в тему. Теперь от воспоминания о тех его словах, сказанных таким же тоном, у меня мороз по коже.
Мы недолго разговариваем друг с другом – Рик уже дошел.
– До завтра, Кати, – говорит он. – Жди моего звонка, как обычно.
– Буду ждать, – обещаю я.
Засыпаю в общем-то быстро – должно быть, сказывается действенность капельничного обезболивающего-антисептика, который, в свою очередь, еще и успокаивает, кажется.
Впервые с тех пор, как начали с ним перезваниваться, устраиваюсь в койке поуютнее, представляю, что, если б не корона, то – вот шел бы он сейчас не с Котти, а от меня, потому что пробыл бы целый день у меня в палате, просидел бы возле койки и даже держал бы мою голову у себя на коленях и гладил бы мои волосы, как знать, может, даже целовал бы – он ведь всегда их любил, только целовал и гладил редко.
Кто знает, может, он потому и звонит мне каждый день, что ему так хочется все это сделать, но нельзя.
И я не только представляю это все, но и отчетливо, как уж давно и не было, припоминаю все, что между нами было. Только теперь так, будто все то время, когда были вместе или не вместе, но все равно спали друг с другом, мы были не просто влюблены, но и сами об этом знали. И постоянно говорили друг другу об этом, и нежничали, и сюсюкали, и ласкали друг друга. Ведь может, было и такое, да просто я забыла?..
Ведь может, если постараться, то я и это вспомню. Это не кажется мне всплеском голого, кипящего отчаяния, глюком сродни байкам Каро о том, где она якобы была и с кем там спала. Нет, это просто грезы, очень сладкие грезы, очень явственные и слишком целебные, чтобы быть вредоносными.
И все же, напившись вдоволь этих целебных и невредоносных грез, я непосредственно перед тем, как заснуть, испытываю чувство безотчетной тревоги, да так с этим тревожным чувством и засыпаю, не успев разобраться, почему мне не по себе от его не то «еще вспомнишь», не то «еще родишь».
Пять.
Вчера что-то случилось. Как будто мы через что-то переступили и поняли, что отныне все будет по-другому. Пока я не могу объяснить, что и как – просто чувствую.
А, ну и чувствую, что мне сегодня еще больше хочется нежности – дарить ему и получить от него. Хочется нежного секса с ним. И я ни за что не признаюсь ему в этом сейчас. По непонятной причине мы все это время не говорим друг другу совершенно никаких пошлостей, если не считать, что Рик, если по нетрезвянке не в силах сказать доходчивей, частенько переходит на мат.
Как будто все прошедшие дни мы с ним наверстывали упущенное, непознанное, вновь проживали некий непрожитый период знакомства и дружеских отношений, о многом болтали непринужденно и по-дружески, но сегодня, чувствую, это кончилось. Чувствую и теряюсь в догадках, что же будет теперь. Чего ждать от себя, тоже не знаю.
– Ты к врачу-то ходил? – спрашиваю.
– На хера?
– Укус показать... а вдруг – да мало ли...
– Не-а. Зажило почти.
– Он... Рикки... пес... его обижали раньше. Он вечно от всех защищать меня лезет.
– Так как у тебя пес оказался-то? – интересуется Рик с кивком, будто понимая и одобряя сии защитнические инстинкты.
– Эрни притащил. Они вместе с Дебс усыновили Рикки. Из приюта взяли.
Говорю, не стесняясь ни клички, ни его вопроса, который следует сейчас же:
– А кличку...
– ...я придумала.
– Ну да...
Я еще раньше начинаю улыбаться ему в лицо, вот и он улыбается мне в ответ, хоть, кажется, терпеть не может уменьшительно-ласкательное «Рикки». Я его когда-то даже специально так обозвала – взбесить. Сейчас я не боюсь воспоминания об этом и разозлить его тоже не боюсь.
Оказываюсь права: вместо того, чтобы разозлиться, он неожиданно дарит мне довольно интимную в своей болезненности откровенность:
– Меня так звал Вальтер. Отчим.
Мое сердце делает гигантский скачок и начинает бешено колотиться.
Вот оно. Из всех необсуждаемых тем эта, пожалуй, самая необсуждаемая. Но ведь зачем-то он сейчас ее поднял, нарушил табу? Значит, и мне не стоит его соблюдать.
– Да, я знаю, как его звали, – говорю просто.
– Иногда просто так называл – подъебать и забыть. А иногда подъебывал пожестче, чтоб разозлить, чтоб я огрызался и доебывался до него в ответку. И тогда пиздил. Пиздил меня по-жесткому. Нос ломал, ребро ломал... Ему ниче не бывало за это...
Вспоминаю, как мне однажды привиделось, будто он не чувствует боли, получая по носу – значит, то было из-за тех, давнишних переломов.
– Приговаривал, чтоб я эмоции свои ебнутые учился контролировать, тварь... Я-то подстревал, бывало, ну... всякое бывало... на Котти... Вот и верили все, когда он пиздел им. Пиздел всем, что я все это – в драке. А сам пиздил. Но еще чаще... не меня...
Сердце не колотится – кувыркается у меня в груди. Рик смолкает, но не отводит глаз, взглядом не прося меня ничего говорить, но и не запрещая тоже.
И я решаюсь – сейчас или никогда:
– Рик, я знаю про твою маму.
Боже, не дай заплакать. Не дай отвести глаз, не дай показать ему в моем взгляде страх, вопрос, сочувствие. Не дай. Дай просто выдержать его взгляд, дай и ему выдержать, не изрыгнуть на меня проклятия только за то, что посмела вспомнить, заговорила о ней без разрешения, не послать грубо и матерно, не бросить сотку, не кинуть безвозвратно. Дай.
Понятия не имею, что там внутри него сейчас и как. После минутного молчания и безэмоционального разглядывания меня он только спрашивает:
– Всё знаешь?
– Всё.
Он кивает, затем начинает рассказывать неожиданно и глухо:
– Я ее ненавидел за то, что она с этим пидором жила. Когда на него находило, он бил ее по-черному. Ты не знаешь, как. Ты такого не знаешь. Не дай Бог тебе узнать. А она с ним жила. Я не мог ее понять. Я раньше думал, она из-за бабла это все. Из-за меня. Он говорил, он нас из говна вытащил, в Берлин привез, а я хуетой занимаюсь. А он меня, блять, уму-разуму научит. Лучше, блять, сам добьет, чем там, на Котти кто-нить. Он меня в ту школу устроил, бабки платил. Она терпела. Так я думал. Я ей говорил – хули терпеть. Уйду оттуда нахуй, завалю. Другим чем-нить займусь. Она орала на меня, что я ничего не понимаю, я учиться должен, и «не дай Бог» – такая всякая хуета. А потом я понял, что она... любила его. Любила этого пиздюка. Я потом только понял. Уже когда он ее... Я потом подождал его... на хате... отпиздил... Я думал: убьет – похуй... Ножик притащил, чтоб не в сухую совсем... он кабан же был... А он нихуя не делал... подставлялся просто – и все... И пиздел мне постоянно: «Давай, пацан... давай еще... я заслужил...» Я ему накидывал, накидывал... со всей дури... он, сука, просто стоял, потом сидел... потом... Я думал – ножиком его под конец, но он такой был, как мочалка, неживой и на себя не похожий... Я заебался с ним, так хотел, чтоб он ответил, так хотел... Я дал ему еще разок – вырубил. Он ебанулся... Я тогда съебался от него... Подыхать оставил... Нашли, откачали... Не сдал меня, тварь... И... его в итоге ушатало... А мне ни хуя не было... Мать сам хоронил... Он тоже любил ее, гад... Он, сука... он... даже меня немного любил.
После этого рассказа Рик молчит и просто смотрит на меня.
Хочу прижать его к себе, зажать покрепче и не отпускать. Пусть бы он ругался, отталкивал и даже прогонял – не отпускать, сослаться на то, что, мол, нет, не пущу, у меня приступ жалейства. А ты так и сиди. Ты мой сейчас и никуда ты не пойдешь. Но черта с два я это сделаю сейчас, на больничной койке, когда он, такой, без прав, топает себе из Кройцберга в свой Веддинг.
Вот тебе, думаю – не хотела показывать чокнутость и слабость. Сильной хотела быть настолько, чтобы даже его поддерживать. Припоминаю, что он не любит и не принимает жалости, да и теперь, в этом, должно быть, самом страдательном деле в его жизни, не примет тоже. Он не тот, умерший давно, как я тогда еще поняла, пацан. Он взрослый мужик, жесткий, огрубелый, битый-перебитый. Припоминаю – и мне плевать.
Поэтому я тихонько глажу указательным пальцем правой руки его изображение на дисплее, стараясь при этом смотреть так, чтобы мой вид не напоминал сюсюканий и глупых девчоночьих жалелок. И вижу, что вместо его лица мой указательный палец гладит... его указательный. Только левой руки. Так и гладимся пальцами, а сами – серьезные-пресерьезные.
– Тяжело с родителями, – нагладившись, нарушает он обоюдное молчание.
– С детьми не легче, – говорю я.
Еще одна дурацкая тема, некогда вызывавшая между нами одни только разногласия.
– Ну, как с детьми справляться, ты-то доказала – умеешь, – замечает он.
Он может подразумевать только Эрни.
– Так это с большими же. Мелкие – совсем другой уровень сложности.
– И с мелкими тоже справишься. Придет время.
Меня пробирает до костей тот же мороз, что и намедни – вот же оно, черт бы меня побрал.
Да как же я до сих пор не понимала, что там такого страшного в его словах: ведь он же говорит со мной, как с другом. Как с близким другом. Только что он дал добро на то, чтобы поведать, что я в курсе о его матери, и я выдержала это испытание. И нарвалась.
Он не может быть одновременно и другом, и... мужчиной. Дружеские отношения – в них спокойнее, но они лишены страсти, ревности, всего, что хоть сколько-нибудь позволило бы надеяться, что некий теплившийся огонек не затух окончательно. Да и Рик без страсти – это ж не Рик, а какая-то подделка... И тон этот, мягкий теперь – разве не кажется он мне столь же неподходящим к нему, какими некогда казались в нем робость, нерешительность?.. Да что такое творится-то... Чем дальше в лес, тем больше дров.
– А я ведь как-то думала, что залетела от тебя...
Он хмыкает ласково, смущенно, чуть виновато даже:
– Бывает...
Вот... балбес такой... не въезжает, что я ж не предъявляю... что мне тогда, наоборот, больно было от того, что не было... да что мне и сейчас больно...
– Да, бывает, – говорю обиженно. – Но не было. Видно, не судьба.
А я-то как страдала, один на один со своими соплями, задница – на жестком полу, знай себе – наволочки меняй...
– Говорил тебе – родишь еще, – мягко напоминает он. – Когда захочешь.
А меня бомбит от воспоминаний, как мучилась тогда, от слов его: это ж ведь не просто значит «когда захочешь», но и... от кого захочешь. То есть, значит, не от него – он-то себе такую нашел уже, чтоб от него рожала... или нет???..
Молчим, пока не «довожу» его до дома.
Меня знобит, и я тихонько думаю, что... да на черта мне все это надо, это выламывание мозгов да выдирание сердца. Эта... любовь, будь она неладна. Ну пропустили когда-то в самом начале, ну не вышло – теперь, вот, маемся, не знаем, что нам еще друг от друга нужно. Вроде мне показалось, проснулось что-то, но он, кажется, в упор не догоняет. Или просто поздно?..
***
Озноб мой не прекращается – может, от кого из врачей корону подхватила?..
Или застудилась на ледяных процедурах, которыми меня пытал... эм-м-м, лечил физиотерапевт.
В тот вечер я метаюсь по койке, что не столь приятно и драматично-романтично, сколь выглядит в мелодрамах, если у тебя серьезно уже болит сломанная нога и тебя не только сняли с обезболивающего, но и растравливают боль жесткучей физиотерапией.
Меня рвет в разные стороны, тянет то туда, то сюда. То я люблю его, хочу жалеть до боли, всю боль его и страдания перенять на себя, хочу любить и чувствовать его каждой клеткой своего изголодавшегося, ноющего тела, то... смеюсь над собой. Ведь как несвоевременны мои желания и чувства. Ведь мы пропустили, перепрыгнули через все это когда-то – откуда же им взяться, чувствам у него?.. Ведь у него все просто: защитить надо – защищу, захотелось трахнуть – трахну. Помню, готовить мне пытался, кормить. На лыжи раз свозил, сулил свозить в круиз. Дарил духи и брюлик. И... все. Не научили его романтике. Я не научила. Но не в романтике дело.
Итак, что детей ему от меня «не видать» – на это он давно забил. Другую себе для этого нашел. До этих моих переломов он, если хотел меня видеть, то видел – и сразу трахал. Теперь трахать он меня не может, но все-таки звонит. Зачем? По-дружески. Чтоб мне не скучно было тут отлеживаться. И чтоб ему не скучно было идти домой.
А ты что думала – влюбился по-настоящему? Любит?.. Из-под колес грузовика вытащил, значит, любит?..
Если б любил, думаю, разве давно не сказал бы? Или, может, боится.
Чтобы бояться любить, бояться вслух говорить о любви – отчего-то мне кажется, что он не из таких. Значит, если до сих пор не сказал... Ох-х...
Ворочаюсь, мыкаюсь на своей койке.. уже давно за полночь, а я все ворочаюсь. Это не только больно – я и движений своих не контролирую и ненароком давлю на звонок «сестра». Ко мне приходит медсестра в наспех надвинутой маске, справляется, не дать ли обезболивающее, но я отказываюсь и извиняюсь, мол, задела. Недовольно бурча, она уходит.
А я?.. – думаю, разве я боюсь говорить, что люблю? С Михой совсем не боялась. Не помню, говорили мы с ним друг другу, что любим. По-моему, как-то подразумевали. А тут спираль какая-то получается: Рик не говорит – значит, не любит. Тогда и я не должна. Ведь я думала, что тех, кто меня не любит, я быстро забываю.
В мозгу недовольно копошатся слова мамы: «не можешь забыть... забыть его не можешь...» – выходит, я давно его люблю? Здрассте, приехали. И почему, думаю, сама ему не говорила? Что за старомодность такая – от него признания ждать? Ну и что, если первая... Он, разве, не заслуживает?..
«Ты создан для любви» ... – да уж, как же.
Да не болтают мужики об этом, ворчу сама себе недовольно. Этот тем более не будет. А если ему, наоборот, начнут заливать, он, вон, , как вчера – насчет неудавшегося залета – хохотнет – бывает, мол. А ты сидишь, как оплеванная – и правильно. Нечего. Не всем слушать серенады. Да и не залог они семейного счастья, серенады эти.
Тогда почему бы просто не взять и не спросить его, чтоб раз и навсегда выяснить.
Казалось бы, чего проще:
«Рик, скажи по чесноку: ты меня любишь?..»
От одной мысли о том, как спрашиваю и о том, как он отвечает, становится смешно, слезливо и страшно. И откуда только взялась во мне эта бабская боязнь услышать «нет»?..
Засыпаю лишь под утро изъеденная, искусанная, изгрызенная этими мыслями, измученная болью и неудовлетворенностью и изголодавшаяся по его ласкам в словах и в действиях.
ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ-3 Семидневка на расстоянии. День шесть-семь
Шесть.
«Встречаю» его хмурая и невыспавшаяся, заранее предвкушая с его стороны какую-нибудь пошлость или матерную грубость. Напоминаю себе то свое состояние перед вторым, вернее, третьим разрывом, когда он меня издергал, измучил и элементарно достал. Наверно, каждому из наших с ним кругов... или эллипсов суждено замыкаться на этом.
Еще замечаю, что сегодня он снова чуть более, чем просто «хорошенький» и злюсь, что он и не думал «не пить», как я его просила. Просто это – часть его вечернего ритуала. И я, и разговор со мной – часть этого ритуала тоже.
А может, это он для храбрости?.. Тогда что же теперь он хочет мне сказать, зачем сегодня ему надо было сделаться немного посмелее?..
– Ты снова с Котти? – спрашиваю для чего-то.
– Нет. С КвартирМитте.
– Да? – оживляюсь я и начинаю расспрашивать, как там сейчас дела – ведь я не у дел сейчас.
– По работе соскучилась? – улыбается он.
И рассказывает о проекте. Кажется, я отвыкла от работы настолько, а может, всему виной его нетрезвость – рассказ его мне кажется каким-то обывательским. Про квартиры, про квартиры все. Проводку, стройматериалы, отделку, там, внутреннюю. Неужели они там без меня уже заканчивают?.. А нечего было так долго тут валяться...
Болтаем о недостроях, о том-о сем, когда он вдруг неожиданно замечает:
– А я знаю, почему ты сошла на Бесконечной.
– Я там работаю.
– Нет, не поэтому. Ты хотела, чтобы это было бесконечно.
И этим шарахает меня по голове, и я уже окончательно ничего не понимаю.
– Все это. Между нами.
– Я и представить не могла, – лепечу в ответ только, будто оправдываюсь. – В тот момент я вообще не думала, что что-то будет. Неужели ты думал?
– Ни хера я не думал.
– А что тогда?
– Чувствовал.
– Что чувствовал?
– Что хочу тебя трахнуть. И ты хочешь меня трахнуть. А ты на самом деле не только этого хотела, не просто разок потрахаться. Ты хотела, чтобы это было бесконечно. Я не сразу въехал, а только потом.
Его нетрезвый язык рассуждает вполне трезво.
– А чего ты хотел потом?
– Еще и еще с тобой трахаться. В первый раз было так заебись, что... – он запинается, проводит себя по лицу, пьяный в дупель, – блять, мне не хватает тебя, Кати. Мы все это уже проходили, но оно, это – оно чёт не проходит.
Да, поэтому он сегодня принял на грудь побольше, чем вчера – сгрести меня в охапку он не может, а эти разговоры вокруг да около и совсем без никакой тебе натуры ему жутко надоели.
– Первый раз так круто было, я ж ведь сразу спросил тебя, когда повторим... И я потом только въехал, что это такое. Тогда и почувствовал.
– Чего – почувствовал?
– Ну, что там чувствуют. Когда увидел тебя. Издалека. Я написал тебе, и ты приехала. Ты из поезда выходила, и ветер лохматил твои волосы. Лохматил и лохматил. Я и подумал.
– Что подумал?.. – спрашиваю упавшим голосом.
– Что правда красивая. Королева.
Ахренеть. Нет слов – только ерунда одна на уме осталась. Мозги в отключке. Но боль ощущать в состоянии.
Королева. Вот оно. А тогда проскочили и это.
– А я почувствовала, когда ты рядом шел. От Плюшки. «Довел» до «коробки». Той, первой нашей.
Спешу внести посильную лепту в наш с ним сбор урожая. Урожая боли.
Пусть он пьян, пусть тогда я не думала абсолютно, только чувствовала – так он же сейчас и говорит про чувства.
Я не наказываю себя, не мщу ему – просто сейчас у него на уме это и я спешу составить ему компанию. А относительно того, что почувствовала, «чего там» обычно «чувствуют» – нет, это не выдумка, чтобы сделать ему приятно. Так оно и было, просто поняла только сейчас.
От такого ему, наверно, не больно, он же сильный. Жизнь, конечно, поломала, пошвыряла его, но ведь сделала сильней в итоге.
«Ты создан для любви».
Да, наверно. Думаю, он способен любить, хоть и говорить об этом не любит. Еще, наверно, он способен страдать, хоть я всегда и думала, что мужики страдают не от этого, страдают по-другому, и страдают меньше, особенно если у них еще кто-то есть.
Мне кажется, я вижу в его пьяных глазах вопрос: «А ты можешь любить?»
Конечно, могу. Люблю даже. Как показать ему?
Жалеть пыталась – он со мной «подружился». Работу когда-то для него тянула – он, видя, что могу, хочу и умею, принимал, как должное, мотивировал и эксплуатировал. Спала с ним, отдавала свое тело всеми возможными способами – он брал и наслаждался и брал еще. Жила с ним, отдавала все остальное – он брал тоже.
Ладно, раз уж мы начали с самых начал – давно хотела ему сказать:
– Ты включил меня тогда. Ты показал мне, что такое страсть. Как можно хотеть. Как я могу хотеть. Как сильно я могу хотеть тебя. На что способно мое тело. Жизнь в меня вдохнул, когда я была совершенно дохлая. Включил, короче. Спасибо тебе.
– Это тебе спасибо. За все, что дала мне. С самого начала. Не возражай, я ж помню, какой я был.
Раздолбанный – как я. Брошенный – как я. Одинокий – как я. И за что мне «спасибо»?..
Я не стремилась строить новый мир, объединять два одиночества, а просто пользовалась. Не спрашивала, кем работает, что ест, где спит. Хватала поскорее его член, впихивала в себя поглубже, потом отваливала, утихомиренная – до следующего раза. Он понял раньше, как могло бы быть, если вообще могло что-то. Он понял раньше, чего я не поняла, и теперь еще «спасибо» говорит.
Но он даже больше понял:
– Тело твое... твое сладкое тело... родное... родная... оно мне сразу открылось... вот так вот – оп-па... ты сразу почувствовала меня... как та... ну... было же их до хера... принцесс всяких в сказках... которые бомжам... калекам... чудищам давали.
И получали принцев. Мудрые девочки. Как же мне до них далеко.
Я тогда не давала – брала больше. Разве нет? И кто из нас чудище?..
– Без остатка... вот так вот – на тебе меня, принцессу... Охуел тогда от тебя... нырнул в тебя... ты мне еще раньше дом дала... внутри тебя... еще до того, как на хате приютила... Не возражай, ты ни хера не понимаешь... ты не понимаешь так, как тело твое...
Волки тоже одомашненные бывают. Один из многочисленных оттенков их волчьей натуры.
***
И как мне после этого заснуть?.. Да нет, мне не спать – мне реветь охота. Ух-х, получай, шлюха-однолюбка...
Перебираю в памяти наш сегодняшний разговор и меня колотит от рыданий. Вчера жалела себя-любимую, мол, о любви со мной не говорят, сегодня же мне четко показали, вернее, не думали показывать – я сама увидела: да не умею я любить. Да никакой я любви не заслуживаю.
Как он там сам сегодня говорил, сказать пытался – я давала ему свое тело? Бедный, доверчивый Рик. Я ж брала, а не давала. До этого брали меня, долго, много лет. Методично. Продуманно, по разработанному для моего тела плану. Но план накрылся, не сработал, потому что не сработала я. А Рик ничего не собирался брать – наоборот. Но я не оценила. Дала себя запутать и испортить тому левому опыту, что был до него. Как будто ничего лучше, на чем можно было бы поучиться и набраться ума, у меня не было.
Семь.
Больно... Топ... топ... топ... Больно как...
Я, конечно, люблю повыпендриваться, но на самом деле я тут не просто ковыляю-хромаю в маске по отделению, ногу разрабатываю – я, блин, думаю.
Мне кажется, я за всю жизнь столько не передумала разной галиматьи, как за эти дни. Рик там, у себя, небось и близко ни о чем таком не думает. Ему некогда – днем у него работа, разборки с ведомствами – кстати, ему слушание было назначено по его делу, надо будет спросить, как прошло – и Нина на уши приседает, вечером у него дела и мальчишники-пьянки на Котти, а после – сигареты и дорога домой. Со мной.
Как он говорил – я дом ему дала? Теперь его дом в Веддинге, у нее. А со мной – сигареты-пьянки. Как обычно, думаю. Только на этот раз без секса – и как он терпит?
В душу закрадывается поганая мысль, что, может, и не терпит, а, может, на то время, пока я тут лежу, такая худая и страшная, у него там, на Котти завелась еще и третья, и четвертая, и не только. Чего это он не рассказывает, к кому там ходит...
От мысли, что я у него не одна такая, ну, не считая Нины, мне становится на удивление паршиво, как из-за Нины никогда и не было. Осознаю, что никогда не воспринимала их с Ниной «марш», как конкуренцию нашим с ним недо-скачкам. Наверно, потому что не стремилась ни к чему такому, к чему стремится Нина. К слову сказать: к чему я вообще с ним стремилась?..
Может, мама права и не о том мы с ним разговариваем. А может, просто поздно говорить о другом. Вон – заговорила о его маме и явно не в тему – для него это далекое прошлое и слава Богу. Но хорошо, что он теперь знает, что я знаю. Мне хорошо от этого, хоть ему-то и все равно.
«Женится он или нет?..»
Непривычно, что теперь уже и мама уговаривает меня сойтись с ним. Проще от этого не становится, меня ж еще черта с два уговоришь – и у меня на то свои причины.
Да, говорю сама себе, хорошенько же ты съехала с верного пути.
Ну и что? – сама себе и отвечаю. Я сама решила. Оттолкнула его, а потом решила, что уже не вернешь – так мне и сейчас кажется.
«Решила». Какое же большое значение ты придаешь твоим решениям. Была бы ты помягче, Ка-ти. Была бы бабой, хоть раз в жизни, а не мужиком, итит же твою мать.
Так я и бабой с ним была. Достаточно была. Много раз была. Сильно была.
Мне кажется, быть бабой значит страдать. А я не люблю страдать. Мне очень больно страдать. И это так калечит. Меня однажды, до него покалечило – я, видно, так и не оправилась. Если бы во всех этих страданиях был какой-то смысл – но нет смысла. Почему нельзя жить без страданий, любить без страданий – или тогда уже не любить совсем?..
Все мои думы сходятся к тому, что мне плохо и что уже поздно. Да, я не Рита и не Нина. Я – это то, что посередине. Со мной не трубец, но и не нормальная жизнь тоже. Я промежуточный этап. Я, блин, держу, скрепляю всю его нынешнюю жизнь с прошедшей, поэтому он мне звонит – забыть не может, он же говорил.
А я не хочу так. Я все это время не хотела, а даже если наслаждалась, то врала себе или, как сама изволила заметить, заблуждалась, да.
Я люблю его, думаю. Огонек – вот он ты. Я люблю его, поэтому так, как сейчас – мне от этого больно. Больно, что не вижу и у него огонька, а только его привычное, грубоватое.
«Какая ты худая...»
Да, думаю, худая, страшная.
Больно также, если он не грубоват, а дружелюбен. Больно до недоумения. С недоумением этим осознаю, что он, конечно, говорил о каких-то своих оттенках чувств ко мне, что он ощущает инстинктивно – не может без меня, он ведь и сам говорил. Оно и понятно, иначе не звонил бы постоянно. И все-таки его новая жизнь, к которой сам он так стремился, и в которой я ему мешала, маячила, как сам он мне когда-то нежно так пенял – блин, вспоминаю и опять реветь охота – его новая жизнь удерживает его. Он пророс в ней, как сам того хотел, и она не пускает его ко мне, не дает порвать с собой.








