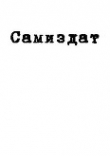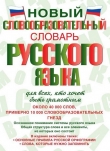Текст книги "Принцесса Грамматика или Потомки древнего глагола"
Автор книги: Феликс Кривин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
ДАЛЬ
Смелость – для начала труда, упорство – для его продолжения и силы – для его завершения… Много великих дел осталось незавершенными, еще больше – брошенными на полпути, но больше всего великих дел – неначатых… Как посмотришь с этого начала туда, где не только не видится – не мыслится завершение… Какая даль!.. И руки опустятся, и увянет дух, и поспешишь взяться за какое-нибудь ближе исполнимое дело.
Даль…
Человек с этой удивительной фамилией – Даль – никогда не боялся больших расстояний. В молодости он проходил ежедневно десятки верст и в молодости же начал тот труд, на который ушла не только вся молодость, но и почти вся старость. Сорок восемь лет из одной жизни – для одного дела, – какую нужно иметь смелость для начала такого труда!
А ведь этот труд не кормит. Одним этим трудом не только не доживешь до старости, но и в зрелые лета не войдешь. Значит, нужны и другие труды. Например, служба на флоте – мичманом. Затем в армии – военным врачом. Чиновником особых поручений при военном губернаторе. Написать учебник ботаники, учебник зоологии, несколько этнографических работ, создать в литературе новое имя Казака Луганского, – и при всем этом продолжать главный путь, которому не видно окончания… «Дожить бы до конца Словаря…»
Он дожил. Его хватило не только на создание словаря, но и на его издание (много тысяч страниц, помноженных на четырнадцать корректур, читанных слабыми старческими глазами). Он покорил эту даль, на которую никто не решался. Ни до него, ни после него.
Отметив, что Французской Академии на составление словаря понадобилось шестьдесят лет, а Российской – в десять раз меньше, Пушкин пишет: «Карамзин справедливо удивляется такому подвигу». Если это подвиг для целой Академии, то что ж тогда сказать об одном человеке?
В словаре Даля слово подвиг имеет два значения: путь и славное деяние. В своей жизни он соединил оба эти значения в одно.
Моряк, солдат, военный лекарь. Человек непостижимой смелости, если взглянуть на труд его с самого начала, откуда даже не мыслилось его окончание…
НАРОДНЫЕ ИСКАЗИТЕЛИ
Пути слова в живом языке поистине неисповедимы. Почему, к примеру, можно праздновать труса, праздновать лентяя и нельзя праздновать дурака? Или, допустим, мошенника?
Повезло трусу и лентяю, их можно праздновать. Хотя какой это праздник? Всю жизнь дрожать или лежнем лежать – уж лучше дурака валять, раз уж его невозможно праздновать.
Любопытно употребление фразы «Шут с ним!» – наряду с «Бог с ним!» и «Черт с ним!» Видимо, шут не случайно попал в эту компанию: ведь юмор – это соединение высокого и низменного, святого и грешного, бога и черта. В зависимости от того, над чем человек способен смеяться, в нем побеждает бог либо черт. (Иногда, впрочем, в нем побеждает пес, о чем свидетельствует выражение: «Пес с ним!»).
В наше время уже нельзя смеяться по пустякам, для смеха требуются серьезные причины. Еще недавно можно было от души посмеяться над нехитрой фразой: «Дядька Черномор закурил «Беломор». А теперь? Ну, Черномор. Ну, закурил. «Беломор». А суть-то? В чем суть? В современном юморе самое главное – докопаться до смешной сути…
Скажи мне, над чем ты смеешься, и я скажу тебе, кто ты…
Искаженная пословица: «Хорошо смеется тот, кто смеется в последний раз». Искажено совсем немного, но уже крылатая фраза летит в другом направлении: не туда, где хорошо смеются победители, а туда, где смеются побежденные, которым ничего, кроме этого, не остается.
Людей, которые бессознательно искажают привычные выражения и слова, приспосабливая их к новой действительности, кто-то удачно назвал народными исказителями. Исказители от сказителей отличаются тем, что, ничего не сказывая, а лишь чуточку изменив сказанное, добиваются подчас не меньшего эффекта.
«Я не могу этого есть натошняк». (Из разговора в поезде).
«В первую мировую я был стрелевой». (Рассказ старого солдата).
Не каждому известно, что слово тощий, от которого произошло слово натощак, когда-то обозначало «пустой». На тощий желудок – на пустой желудок. Но ведь суть не в том, на какой ты желудок ешь, а в том, каковы результаты.
А что важно для солдата? Конечно, и то, что он в строю, но, может быть, еще важней, что он стреляет, а главное – в него стреляют. Вот почему он называет себя: стрелевой.
Жизнь корректирует все, в том числе и привычные выражения. И человек, который, по общему мнению, работал на износ, теперь работает на износ окружающих, а всегда преуспевавший вздыхает:
«Дело принимает нехороший оборот… Темп жизни таков, что дела делают до десяти нехороших оборотов в секунду…»
ЕЩЕ ВОСПОМИНАНИЕ
Не так-то просто говорить квартал там, где все говорят квартал. Сквозь дружный хор неправильных ударений ты пытаешься пробить свое правильное, но, увы, одинокое ударение…
Ты ведешь борьбу с неграмотностью, которая окопалась не только в классах вечерней школы, но иногда врывается даже в учительскую. Завуч твой – отчаянный человек, он расставляет ударения на свой страх и риск, по праву заведующего учебной частью. Возможно, когда-то, в начале своей учительской деятельности, он говорил правильно, но потом устал бороться и его засосала среда. Пройдут годы – и кто поручится, что ты не будешь говорить так же? Ты все еще будешь бороться, но все теснее будет сжиматься кольцо, и тогда, в отчаянном порыве, ты, как знамя, взметнешь над собой:
– КВАРТАЛ!
Тебя не услышат.
– Квартал, квартал… – будешь ты хрипеть на последнем дыхании, пока, обессиленный, не уронишь знамени: – Квартал…
Всего лишь одно знамя уронено, а посмотри, сколько склонилось над ним: и Ломоносов, и Востоков, и Буслаев, и первый школьный учитель Буслаева Виссарион Григорьевич Белинский, и многие, многие… Они поднимают твое знамя, и ты чувствуешь, что нет, ты не одинок, и никакая среда тебя не засосет, потому что твоя среда – это вся наша история…
«ХАМАСА» НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ
В начале 60-х годов прошлого века Московский университет был охвачен студенческими волнениями. Учебная программа трещала по всем швам, а студенты собирались не на лекции, а на сходки. Между тем в аудитории «Юридическая внизу» профессор Петров и студент Корш читали «Хамасу»…
«Хамаса» в переводе с арабского означает «отвага». Так назывались антологии арабской средневековой поэзии.
Профессор Петров был исправным профессором, и студент Корш был исправным студентом. И в полном соответствии с учебной программой они читали о событиях средних веков, затыкая уши от современных событий. О событиях арабских – не слыша событий российских. Как примерный профессор и примерный студент.
Они штудировали «Отвагу», запершись в аудитории «Юридическая внизу», не желая подняться до критики существующего правопорядка.
Студенту Коршу было тогда восемнадцать лет. А в пятьдесят один, будучи уже профессором Коршем, он выступил на защиту арестованных студентов и подвергся за это административному наказанию.
Благонадежный студент стал неблагонадежным профессором.
Молодость, молодость… Иногда на то, чтобы к ней подняться, уходит вся жизнь…
«Хамаса» на родном языке… Не так просто читать на родном языке «Отвагу»…
КОРРЕСПОНДЕНТЫ АКАДЕМИКА
Очень важно, чтобы математик был нужен не только математикам, а языковед не только языковедам.
Страховой агент интересуется, как пишутся фамилии на – ко в родительном падеже.
У кого узнать?
У академика Шахматова.
Учитель ищет уроки.
У кого спросить?
У академика Шахматова.
Инвалиду нужна материальная помощь.
Кто поможет ее получить?
Академик Шахматов.
А еще кому-то нужно установить родословную. А еще кому-то важно знать условия вступления русских добровольцев в сербскую армию. И защитить от несправедливостей начальства, и разыскать без вести пропавшего солдата, и освободить из тюрьмы арестованных студентов, и облегчить участь осужденных крестьян, и пристроить беспризорного ребенка – все это Шахматов, Шахматов, академик Шахматов.
Дело не в том, что академик. Хотя к академику, конечно, больше прислушиваются, он больше может помочь, но не к каждому академику за помощью обратятся. А Шахматов, еще не будучи академиком, а едва став приват-доцентом, вдруг оставил преподавание и, «в связи с некоторыми душевными переживаниями», уехал в Саратовскую губернию исправлять должность земского начальника. Он помогал крестьянам в неурожайный 1891 год, он помогал им в холерный 1892 год, в должности земского начальника он стал доктором филологии и расстался с ней лишь после избрания академиком Петербургской Академии наук. Подобного не было ни в истории Академии наук, ни в истории земства.
Не мудрено, что к нему впоследствии обращались люди, связанные с деревней и совсем не связанные с филологией.
Наука не существует изолированно. Она существует в мире, населенном людьми. В этом трудность, но в этом и единственный смысл ее существования.
ЯЗЫК ТВОЙ – ДРУГ МОЙ
Вавилонское столпотворение этимологически не связано с толпой, хотя в нем принимали участие многочисленные толпы народа… Вся суть в том, что этимологически безымянная толпа занималась творением столпа, что, как это бывает порой, привело к столпотворению. Вот тогда-то единый дотоле язык, согласно легенде, разбился на множество языков и исчезло взаимопонимание.
С тех пор у нас существуют иностранные языки, а до этого был только родной. Один язык, родной всем говорящим.
Иностранный язык нельзя полюбить, как родной, но зато к нему можно испытывать уважение. В старину, например, у нас все иностранные слова писались с большой буквы. Свои писались с маленькой, а чужие – с большой. В то время всюду учитывалось происхождение.
Возмущенный Сумароков написал трактат «Об истреблении чужих слов из русского языка». Это что за фрукт, когда надо говорить овощ? Овощ яблоко, овощ абрикос. Сумарокову отвечали, что всякому овощу свое время. Было время абрикосу быть овощем, а теперь пришло время стать фруктом. Ну и фрукт этот овощ! – возмущался, должно быть, истребитель чужих слов в русском языке.
Но языки не могут не общаться между собой, не взаимопроникать, не обмениваться словами. А если могут, то это мертвые языки. «Для существования человека нужны другие люди, для народности – другие народности». А для языка – другие языки, – можно продолжить эту справедливую мысль Потебни.
Давно уже иностранные слова пишутся у нас с маленькой буквы, потому что многие из них давно уже нам родные, свои и не нуждаются в специальном почете.
Языки между собой не враждуют, как враждуют порой те, которые на них говорят. Языки убедительно показывают, насколько общение взаимно обогащает (хотя стремиться-то нужно к общению, а не обогащению).
Со времени вавилонского столпотворения, для того чтоб договориться, нужно знать много языков. Это – трудно. Но – возможно. Пример тому – профессор Корш, которого профессор Ключевский называл секретарем при вавилонском столпотворении.
УЛИЦА ВЕНЕЛИНА
В болгарском городе Габрово я шел по улице Юрия Венелина, русского филолога, уроженца закарпатского села Великая Тибава. Этот человек написал первую грамматику болгарского языка.
Это могло бы показаться обидным Болгарии: вокруг столько болгар, а болгарскую грамматику пишет человек, приехавший из России. Но Болгария не обиделась. Она запомнила этого человека. И назвала его именем улицу, да еще, может быть, не одну.
Историк, этнограф, языковед. Русский, украинский, болгарский. Как легко это сочетается в одном человеке! Без вражды, без желания возвыситься, возобладать – русского над украинским, украинского над болгарским. В хорошем деле нет инородцев, важно не откуда ты, а куда, к чему ты идешь.
Болгария считает своим Юрия Венелина. И Украина, и Россия его считают своим. А уж о Закарпатье и говорить нечего – ведь он здесь родился. Другой же век проживает, а его считают чужим – не только в своей стране, но даже в родной деревне.
Хорошо бы об этом подумать при жизни, потому что потом может не хватить времени.
ДОКТОР МНОГИХ НАУК
«Морозову осталось жить несколько дней», – докладывал тюремный врач за 62 года до смерти Морозова.
Дней Морозову предстояло много. Уже и от тюремщиков его не осталось следа, хотя условия, в которых жили они, больше годились для жизни, чем одиночная камера Шлиссельбургской крепости. Но разве условия – это все? В самых человеческих условиях можно прожить свиньей, а можно в самых нечеловеческих условиях остаться человеком.
Тридцать лет заключения Николая Морозова – это горы не только прочитанных, но и написанных им томов: по математике, физике, химии, астрономии, лётному делу, истории, это стихи, это четыре тома воспоминаний…
Для кого-то много – для Морозова мало. Едва выйдя на волю после двадцатипятилетнего заключения в Шлиссельбургской крепости, он пишет «Звездные песни», за которые попадает в Двинскую крепость.
Он теоретически предсказал существование инертных газов, выдвинул идею о сложном строении атома, о синтезе элементов и использовании внутриатомной энергии… По представлению Менделеева, за труд «Периодические системы строения вещества» Морозову без защиты была присуждена степень доктора наук. О нем это было сказано точно: не доктор НАУКИ, а доктор МНОГИХ НАУК.
Для кого-то много – для Морозова мало. Он пишет «Начала векторной алгебры», «Принцип относительности и абсолютное», книгу «Вселенная»… В память о нем малая планета № 1210 названа Морозовией…
Выпускник Шлиссельбургской крепости не оправдал надежд своего «университета». Он стал доктором многих наук, среди которых, однако, не было науки подавления человека.
Для кого-то много – для Морозова мало. Он, конечно, не мог остаться в стороне от борьбы за реформу русской орфографии. Он пишет язвительную статью, в которой отвечает противникам реформы, не знающим, как по новой орфографии отличать мир – вселенную от мира с немцами: «…а как же вы отличаете свою голову от лошадиной, когда обе пишутся совершенно одинаково?»
Если человек, просидевший тридцать лет в разных крепостях, не считает орфографию мелочью, значит, она действительно не мелочь.
Если человек, изучивший в тюрьме почти все европейские языки, не утратил интереса к русской орфографии, значит, она действительно представляет интерес.
И если он считает, что реформы требует жизнь, то кому же это и знать, как не ему, дожившему до 92-х лет, вперекор чахотке, цинге, тюрьме, трем войнам и другим помехам?
Он умер в 1946 году, спустя год после Победы. Раньше он не мог умереть. Такие люди, как он, умирают только после победы…
СОВРЕМЕННИКИ
Академик Соболевский, ученик Фортунатова, отличался и от своего учителя, и от Шахматова, своего, так сказать, соученика (поскольку и Шахматов был учеником Фортунатова). Соболевский не понимал, как эти академики могут запросто общаться с неакадемиками, вести с ними разговоры на равных, хотя о каком равенстве может идти речь, когда один академик, а другой не академик?
Талантливый ученый, крупнейший знаток истории русского языка Алексей Иванович Соболевский имел свои слабости, которые порой одерживали победу над его силой. Придя на заседание комиссии по реформе русской орфографии и увидев, как Фортунатов и Шахматов запросто беседуют с преподавателями русского языка средних учебных заведений, Соболевский тут же покинул заседание. Об этом вспоминает бывший на этом покинутом заседании современник Соболевского В. И. Чернышев, в то время преподаватель училища, а впоследствии крупный ученый.
Отношения между предками и потомками просты, наиболее сложны отношения между современниками. В сущности, современники – это земляки, только во времени, а не в пространстве. Это близкие люди, и между ними ведутся ближние бои, обычно самые жестокие. И чем ближе люди, тем труднее между ними бои…
Прошлое – как черно-белое кино: в нем обычно всего два цвета. А современность многоцветна, в ней бесчисленное количество цветов, а потому больше возможных противоречий.
Противоречия – главная примета жизни. «А что он не в полном разуме, в том я свидетельствуюсь сочиненною им… грамматикою». Это сказано о грамматике Ломоносова. Крепко сказано, но не нужно негодовать. Это сказал живой человек, в котором, по его собственному выражению, «пылали и пылают страсти». Это сказал Александр Петрович Сумароков.
Сейчас они все расставлены по пьедесталам, а в то время ходили по земле. А на земле выражаются не так, как на пьедесталах. Они были современниками.
«Языка нашего небесна красота
Не будет никогда попранна от скота».
Это уже Ломоносов – о третьем современнике, Тредиаковском.
Резко, даже грубо, но если учесть пылание страстей, которые пылают не зря, а во славу родной российской словесности… Тогда многое можно понять. И сколько бы мы ни становились на сторону Ломоносова против Сумарокова или на сторону Сумарокова против Тредиаковского, нам никогда не приблизиться к ним настолько, насколько они были близки между собой, несмотря на свою вражду… Таково преимущество современников.
«Были врали и при жизни твоей, но было их мало и были они поскромнее; а ныне они умножились за грехи своих прародителей; и так пишут они, что бы им и стен стыдиться надлежало…» Так жалуется Сумароков своему бывшему живому врагу, а ныне покойному другу Михаилу Васильевичу Ломоносову.
Сколько они перьев изломали в спорах о родной российской грамматике! И сколько перьев придется изломать после них – в другие времена, другим современникам! Но время объединит всех «пылавших страстями» и болевших душой об одном.
Таково удивительное свойство времени: оно не только разделяет нас, но и объединяет.
ДВА УДЕЛА
Ну, добро бы был какой чиновник, канцелярист, а то ведь человек, «ученый по званию», может быть, даже – широко мыслящий (правда, в узком кругу). И вдруг – на тебе! Непозволительно, говорит, ставить рядом поговорки: «у него руки долги» (то есть, власти много) и «у него руки длинны» (он вор). А то как бы кто-нибудь не перепутал эти понятия!
Этот «ученый по званию» человек читал в рукописи сборник Даля «Пословицы русского народа». Что делать, не звание делает человека настоящим ученым и даже не сама «по себе ученость, а, помимо учености, характер, способность служить истине даже тогда, когда от нее удобнее отвернуться.
Видно, к таким же, широко мыслящим в узком кругу, относился оренбургский военный губернатор Перовский, у которого член-корреспондент Российской академии Даль служил чиновником особых поручений. Перовский был просвещенный человек, состоял в дружбе с писателями и даже получил от Пушкина в дар «Историю Пугачева». Но в ответ на просьбы облегчить участь Шевченко тот же Перовский говорил, что о Шевченко лучше забыть. История, впрочем, не вняла совету военного губернатора: Шевченко она запомнила, а о Перовском – забыла.
Как свидетельствует история, многие из тех, которые широко мыслили в узком кругу, в широком кругу мыслили очень и очень узко. Хотя история свидетельствует и о другом. Пример тому – родная племянница оренбургского военного губернатора и родная дочь министра уделов Софья Перовская.
(Слово удел имеет два значения: оно обозначает владение, и оно же обозначает судьбу. Можно быть министром владений, но нельзя быть министром судеб. Каждый человек сам хозяин своей судьбы, пример тому – Софья Перовская, дочь министра уделов).
СТАРОЕ НОВОЕ УЧЕНИЕ
В 1864 году в русском языкознании произошли три события, из которых пока было известно только одно: умер Востоков. Тот Востоков, который пришел в этот мир из неизвестности, не зная ни матери своей, ни отца, а ушел из него в известность, в незабываемость, в бесконечную память еще не рожденных времен. Тот Востоков, который был лишен дара речи, но всю жизнь занимался языком (не речами, а языком) и о котором было сказано: «Язык тебе не додан смертных, но дан язык богов!» Тот Востоков, на могиле которого было сказано, что в качестве члена Общества любителей словесности, наук и художеств он за двадцать лет пропустил не более двух-трех заседаний…
Два события, свершившиеся, но не ставшие известными в 1864 году, – рождение Николая Яковлевича Марра и Алексея Александровича Шахматова.
Мы в институте отдавали предпочтение Шахматову, хотя по программе должны были отдавать предпочтение Марру. Марр был создателем яфетической теории – «нового учения» о языке, Институт языка и мышления носил имя Марра, в научном кружке студенты изучали произведения Марра, хотя в Марре им было непонятно все – от его рождения у двадцатилетней грузинки и восьмидесятилетнего шотландца, которые не знали общего языка, до созданного им «нового учения». Именно это, последнее, требовалось от нас по программе.
Марр был студентам непонятен, и они подозревали, что он непонятен и преподавателям. Преподаватели, однако, это скрывали и, как могли, излагали Марра, внутренне тоскуя по Фортунатову, Шахматову, Потебне, а также незабываемому Бодуэну.
Внезапно вспыхнула полемика, после которой Марра вовсе перестали изучать, а принялись изучать лишь его опровержение. Студентов немного шокировало, что тот же преподаватель, который читал им спецкурс по Марру, теперь читал им спецкурс против Марра.
У Николая Яковлевича Марра оказалась бурная посмертная жизнь, значительно более бурная, чем досмертная.
Впоследствии, уже в школе, мне не раз хотелось рассказать своим ученикам о Марре, удивительном ученом, знавшем почти семьдесят языков, сделавшем немало удачных открытий, – не считая, конечно, «нового учения», которым он хотел угодить времени, сам этого времени не понимая.
Биографы Марра писали, что до признания «нового учения» Марра он жил в научном и общественном одиночестве. Он жил в одиночестве и после признания, ибо был поднят на такую высоту, на которой рядом с ним ни для кого не нашлось места. А теперь, когда все вокруг замолчало, он особенно одинок среди своих современников, оттеснивших его в памяти потомков…
Мне так много хотелось рассказать о Марре, но что я знал о нем? Того, что мне в институте рассказывали, я был не в силах понять, а того, что я мог бы понять, мне, к сожалению, не рассказывали.