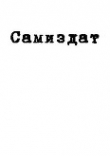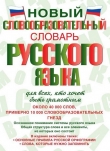Текст книги "Принцесса Грамматика или Потомки древнего глагола"
Автор книги: Феликс Кривин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)
Память о птице Моа

ПОЧЕМУ НЕБЫЛИЦЫ БЕЗ «НЕ» НЕ УПОТРЕБЛЯЮТСЯ

В те сказочные времена, когда все слова свободно треблялись без «не», жили в одной стране просвещенные люди – вежды. Король у них был Годяй, большой человеколюб, а королева – Ряха, аккуратистка в высшей степени.
Вежды глубоко навидели своего короля Годяя. Да и как было не навидеть короля, когда во всем королевстве сплошная разбериха, постоянные взгоды, поладки и урядицы, когда все хорошее может употребляться без «не» и поэтому не становится плохим, а остается хорошим?
Собрал однажды король своих доумков, то есть мудрецов, и сказал им:
– Почтенные доумки, благодарю вас за службу, которую вы сослужили мне и королеве Ряхе. Ваша служба была сплошным потребством, именно здесь, в совете доумков, я услышал такие лености, такие сусветные суразицы, что, хоть и сам я человек вежественный, но и я поражался вашему уму. Что же касается королевы Ряхи, то она не раз восхищалась вашей уклюжестью, вашей укоснительностью в соблюдении государственной аккуратности и чистоты.
– Ваше величество, – сказали доумки, – мы просто удачники, что у нас король такой честивец, а королева такая складеха и что подданные такие вежи и навистники, каких свет не видал. Вы, ваше величество, всегда вызывали в нас чувство годования, и мы доумевали, что вы стали нашим королем.
– Я знал, что вы меня долюбливаете, – скромно сказал Годяй. – Мне всегда были вдомек ваши радивость и домыслив в решении сложных вопросов, и, при вашей поддержке, я бы и дальше сидел на троне, как прикаянный, если б не то, что я уже не так домогаю, как прежде, бывало, домогал.
– Вы домогаете, ваше величество, – запротестовали доумки. – Вы еще такой казистый, взрачный, приглядный! Мы никого не сможем взлюбить так, как взлюбили вас.
– Да, – смягчился король, – я пока еще домогаю, но последнее время стал множечко утомим. Появилась во мне какая-то укротимость, я бы даже сказал: уёмность. Удержимость вместо былой одержимости. Устрашимость. Усыпность. И вообще – жизнь уже не кажется мне такой стерпимой, как прежде.
– Вам бы, ваше величество, частицу «не»! – сказал доумок, слывший среди своих большим дотепой. – Вместо того, чтоб восторженно восклицать: «Ну что за видаль!» – пожимали бы плечами: «Эка невидаль!» Вместо того, чтоб ласково похлопывать по плечу: «Будь ты ладен!» – махали б безучастно рукой: «Будь ты неладен!» И вся недолга… То есть, я хотел сказать, что если раньше у вас, ваше величество, была вся долга, то теперь, с частицей «не», было б совсем другое.
Король запротестовал:
– Употребляться с частицей «не»? Но вы забываете, что когда все хорошее может свободно употребляться без «не», оно не становится плохим, а остается хорошим.
Доумок – недаром он слыл дотепой! – на это возразил:
– Но когда все плохое может свободно употребляться без «не», оно так и останется плохим и никогда не станет хорошим!
Король задумался. Он думал долго, как можно думать только в совете доумков, и наконец сказал:
– То-то я смотрю: жизнь уже не кажется мне такой годящей, как прежде. Это потому, что плохое у нас не становится хорошим, а остается плохим. А мы на него надеемся!
Так появился в королевстве указ, точнее параграф, о слитном написании частицы «не». То ли недовольные прежним своим смыслом, то ли в погоне за лишней парой букв, частицей «не» обзавелись не только состоятельные, солидные вежи, но и юные доучки, и даже малолетние смышленыши.
С частицей «не» плохое становилось хорошим. Но его не убывало, потому что хорошее с частицей «не» становилось плохим.
До чего же коварная эта частица! Недаром ее правописание выделено в грамматике в отдельный параграф – и все равно плохо запоминается, хотя с частицей «не» плохо должно обозначать хорошо.
Какой-то бывший поседа, который был одновременно дотрогой, сидел на одном месте, всеми затроганный, – теперь оседлал частицу «не» и помчался по белу свету рассказывать, что у них в королевстве произошло. Но никто не верит его былице, потому что много воды утекло, а когда утекает много воды, некоторые былицы без «не» не употребляются.
РАССКАЗЫ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
У нас каждый имеет право говорить от первого лица. Кто бы он ни был, какое бы ни занимал положение, ему обеспечено право говорить от первого лица. Даже если он и не лицо вовсе, и не умеет считать до одного, – все равно он говорит от первого лица… Это дар нашей щедрой науки – грамматики.
Рубашка
Меня всю жизнь считали счастливым человеком, потому что я родился в рубашке. Ведь не каждый рождается в рубашке. Некоторые всю жизнь не имеют рубашки. А я родился в рубашке. Значит, я – счастливый человек.
Началось все, как водится, со счастливого детства.
– Смотри, не порви рубашку, – говорила мне мать. И я смотрел. Когда мои товарищи покоряли вершины деревьев, заборов и крыш, я оставался внизу и смотрел. Потому что я родился в рубашке.
– Лучше сядь и почитай, – говорила мне мать. – А еще лучше – приготовь уроки.
И я читал и готовил уроки, аккуратно готовил, чтоб не посадить на рубашку пятно.
В моем счастливом отрочестве пришла ко мне первая любовь. Вернее, пришла она не ко мне, а к моей матери: это была ее подруга.
– Вот это рубашка, о которой я тебе говорила, – сказала ей мать, показывая на меня.
И подруга сказала:
– Очень миленькая.
И она ушла, так и не заметив того, кто скрывался за этой рубашкой, и даже не скрывался, а, напротив, изо всех сил старался попасться ей на глаза.
Так пришла и ушла моя первая любовь. Потому что я родился в рубашке.
Моя счастливая юность щеголяла в рубашке даже там, где все ходили в одних трусиках. Я не лежал на песке. Я не сидел на песке. Я стоял на песке, прикрываясь от солнца рубашкой.
Зрелость, счастливая пора, свела меня с женщиной, которая стала стирать мою рубашку. Когда мы впервые встретились, она опустила глаза и вздохнула:
– Хорошо бы постирать вашу рубашку.
Я не возражал.
По вечерам, оставаясь вдвоем, мы садились у окна и смотрели, как загораются звезды. Мы сидели так близко, что я чувствовал ее сквозь рубашку, и она говорила с нежностью:
– Милый, не помни рубашку…
Это было чудесное время. Мы никуда не ходили, ни с кем не встречались, мы были вдвоем, вернее, втроем: я, она и наша рубашка.
Сейчас у меня счастливая старость. Прекрасная пора! Я много бываю на воздухе, потому что в старости полезно бывать на воздухе. Я начал заниматься спортом. Театр – моя страсть. Кино – моя страсть. У меня есть немало страстей, о которых не место здесь распространяться.
Я отдал сыну рубашку, в которой родился. И теперь он – счастливый человек.
Горе-Хвостка
Вы знаете Кукшу? Ну этого, из семейства вороновых… Он еще всегда летает в одиночку, холостяком, словно у него вообще нет никакого семейства…
Да нет, конечно, вы его видели, его невозможно не заметить. Он даже в будние дни держится франтом, благодаря своему яркому оперению, в котором цвета подобраны с большим вкусом, и крылья у него умеренно короткие, а хвост умеренно длинный, и все это производит весьма благоприятное впечатление, хотя по натуре Кукша – самый настоящий разбойник.
Кстати, вы замечали, что впечатление бывает обманчивым?
Глядя на Кукшу, вы ни за что не поверите, что он разоряет чужие гнезда, что он, по выражению Зяблика, плодит на свете вдов и сирот в большем количестве, чем собственное потомство. По выражению Зяблика, между теми, которые всех едят, и теми, которых все едят, Кукша занимает промежуточное положение: аппетиты у него большие, но габариты маленькие. А для больших аппетитов нужны соответствующие габариты.
На нашей большой дороге Кукша всегда появляется в одиночестве, и соседка Горихвостка, одна из тех горихвосток, которых Кукша сживает со свету сотнями, частенько вздыхает о нем:
– Ах, бедный! Какой же он одинокий!
При этом Горихвостка так вертит хвостом, что вокруг нее тотчас же собирается аудитория.
– Но ведь он же разбойник! – возражаем мы ей.
Слово «разбойник» настраивает Горихвостку на романтический лад, – возможно, потому, что сама она мирная и вполне безобидная птичка. Если вы обратили внимание, романтика – это нередко тяга к тому, чего сами мы лишены. И вот, настроившись на романтический лад, Горихвостка представляет себе, как этот разбойник вылетает в одиночестве на большую дорогу, и сердце ее сжимает сладкая грусть: неужели ему, разбойнику, суждено быть таким одиноким?
Можно посмеяться над Горихвосткой, можно даже, по примеру Зяблика, назвать ее Горе-Хвосткой, но Горихвостка прекрасна, а прекрасное редко бывает смешным. Мы не сводим с нее восхищенных глаз, а когда Горихвостка начинает вертеть хвостом, мы едва не падаем с наших веток.
Что и говорить, этот разбойник выделяется среди нас. Может быть, потому, что он держится особняком, а когда держишься особняком, тогда, конечно, среди других выделяешься. Даже свои перелеты он совершает не в стае, а в гордом одиночестве. Правда, не в очень гордом, потому что панический страх загоняет его на каждое встречное дерево, где Кукша подолгу отсиживается, прячась от возможных, зачастую мнимых, врагов.
Обратите внимание: великодушие противоположно малодушию. Поэтому жестокие всегда трусливы.
– Он бы не был таким разбойником, если б не был так одинок, – вздыхает Горихвостка, оправдывая Кукшины злодеяния, на что Зяблик немедленно возражает:
– Он бы не был так одинок, если б не был таким разбойником.
Зяблик прав, Зяблик тысячу раз прав, но его правота ни в ком не вызывает сочувствий. Всем гораздо ближе Горихвосткина неправота. Потому что в Горихвостке все прекрасно: и правота, и неправота, – одно ее движение хвостом убеждает нашу аудиторию. И мы уже завидуем этому разбойнику и его одиночеству, потому что, если взять во внимание Горихвостку, его одиночество с нашим не сравнить. Мы не сводим с нее глаз и думаем: до чего же мы все одиноки! Мы летаем стаями, мы собираемся шумной гурьбой на деревьях, стараясь перекричать и перегорланить друг друга, но мы одиноки, мы по-настоящему одиноки… Потому что не о нас печалится Горихвостка и не для нас она вертит хвостом…
Сухарик
Зовите меня Судариком, зовите меня Сухариком, но не забывайте, что я – бывший Рогалик.
Помните – с двумя рожками? Да не козлик, нет. Не бычок. Сдобный такой. Да мы же на кухне у вас встречались!
Славные были времена!
Варенья была полная банка, а теперь только три четверти.
Меду была полная банка, а теперь только три четверти. И чай тогда только-только закипел… Вот было время! Горячее, веселое, но и трудное, правду сказать. Сколько было рогаликов, а где они все? Потому что сдобные были, мягкие чересчур. А в жизни главное что?
Твердость.
Это понимаешь не «разу, а со временем, когда станешь – ну, как, к примеру, я…
Вспомнили теперь? С двумя рожками. Нет, не козлик. И не бычок… Зовите меня Сухариком, зовите Кусариком, но попробуйте укусить…
Вот то-то же. Выплюньте зуб, он вам больше не пригодится.
Воробьиная сказка
Сидел я у окна, смотрел, как воробьи резвятся на соседней крыше, и завидовал. И вдруг один из них подлетает и говорит:
– Пошли резвиться! Усядемся на проводе, будем хвостиками вертеть.
– У меня нет хвостика.
– Ну, хоть почирикаем, клювики почешем.
Да, почирикать – это бы хорошо! Почесать клювики – золотое дело!
– У меня нет клювика…
Воробей помолчал.
Трудно тебе… А хочешь, я из тебя воробья сделаю?
– Насовсем бы мне не хотелось. Привык я как-то. Да и семья. Там, у вас, у меня нет семьи, а здесь семья…
– Можно не насовсем, – кивнул Воробей. – От семьи насовсем уходить – самое последнее дело. Хотя и последние дела тоже бывают ничего.
– Какие там последние! Я еще первых не переделал…
– Ладно, – сказал Воробей, – сиди как сидишь. Только мыслей у тебя не должно быть человеческих. Думай, как бы в луже поплескаться, стащить кусочек чего-нибудь… И вырастет у тебя хвостик и клювик для чириканья, и полетим мы с тобой резвиться по белу свету…
Я приготовился. Представил, как сижу в луже, чирикаю да хвостиком верчу… Только вот лужа в неподходящем месте: жильцы наши ноги промочат, чего доброго, простудятся…
– Ты о чем думаешь? – подозрительно спросил Воробей. – Вижу по тебе, что мысли у тебя какие-то человеческие, не воробьиные мысли. Ну-ка, сначала давай!
Сосредоточился я. Представил, как сижу на проводе, хвостиком верчу… А по проводам бежит ток… Или не бежит? Что-то я его совсем не чувствую… Конечно, воробьи сидят – и им ничего, но они-то не знают, что такое сидеть без света… Знали бы – сразу почувствовали бы: идет ток по проводу или не идет…
– Опять ты думаешь не по-воробьиному! – рассердился Воробей.
Так и не удалось мне с ним порезвиться. Ни почесать клювики, ни хвостиками повертеть. Оказывается, чтоб воробьем быть, нужно не только иметь хвост и клюв, но и мысли специальные, для чириканья…
ИСТОРИЯ, НЕ ПРОЧИТАННАЯ В КНИГЕ «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
Когда Алиса подошла к зеркалу, там уже кто-то был. Она присмотрелась и узнала Белого Кролика – того самого, из Страны Чудес. Он смотрел из зеркала, высокомерно улыбаясь, и ронял жалкие, не соответствующие его виду слова:
– О, освободите меня, я уже так опаздываю! Я застрял в этом зеркале, остекленел, озеркалился, ни тпру ни ну, ни в гостях ни дома, ни в городе Богдан ни в селе Селифан…
Он не был похож ни на Богдана, ни на Селифана, он был похож на обыкновенного Белого Кролика, который слишком долго и часто смотрел в зеркало и потому в нем застрял…
– Возможно, я слишком долго смотрел в зеркало. Воз. Можно. Можно воз, а можно телегу, но только отсюда меня надо вывезти. Мне, понимаете, хотелось иметь такой вид, какой подобает иметь на балу у Герцогини. И вот – вследствие… а может быть, и не вследствие, а по причине… Ведь причина бывает раньше, чем следствие?
– Смотря какие обстоятельства, – сказала Алиса, всегда путавшая обстоятельства следствия и причины.
– Вы меня видите? – спросил Кролик.
– В том-то и беда. Теперь в этом зеркале никто не увидит себя, все будут видеть только Белого Кролика.
– Это вы серьезно? – забеспокоился Кролик. – Боюсь, что у меня такой вид… Я ведь себя не вижу, я не в зеркало смотрю, а из зеркала…
– Как же теперь попасть в Зазеркалье? – спросила Алиса. – Вы загородили все зеркало, и теперь никто не попадет в Зазеркалье.
– Воз – можно, – сказал Белый Кролик. – Можно – воз. – Чтобы придать себе вес, он употреблял приставку вместо имени существительного. – Но лично мне не нужно в Зазеркалье. Я не опаздываю в Зазеркалье так, как опаздываю на бал к Герцогине.
Сказка его давно кончилась, а он все еще опаздывал на бал к Герцогине. Но не терял надежды попасть на бал.
Алиса смотрела в зеркало и видела в нем Белого Кролика, вместо того чтобы видеть себя. А ведь в зеркале положено видеть себя, а не кого-то другого.
Постепенно Алиса начала к этому привыкать, и ей уже казалось, что в зеркале не должно быть никого, кроме Белого Кролика. У нее даже промелькнула мысль, что, возможно, она, Алиса, и есть в действительности Белый Кролик (воз – можно, а можно и воз). Потому что ведь зеркала не врут. Девочки иногда врут, кролики иногда врут, но зеркала – не врут.
Так подумала Алиса и провела рукой у себя под носом, чтобы разгладить усы, которые видела в зеркале. И подняла высоко над головой руку, чтобы потрепать себя по ушам.
СОБСТВЕННЫЕ ИМЕНА
Когда собственное имя становится нарицательным, это большая честь для него, хотя его и начинают писать с маленькой буквы. Ну разве для Держиморды не честь, что его пишут с маленькой буквы, называя его именем всех остальных держиморд?
Но, с другой стороны, когда нарицательное имя становится собственным, это тоже для него лестно. «Проказница Мартышка, Осел, Козел да косолапый Мишка…» Посмотрите, как эти слова вырастают в наших глазах… Хотя бы начальной буквой своей вырастают…
Каждому хочется вырасти в чужих глазах, собственное имя свое сделать всеобщим достоянием, а своим собственным достоянием сделать широкоизвестное нарицательное имя.
Привет из литературы
На нашей лестнице живет Некрасов – не писатель, конечно. И живет на нашей лестнице Белинский – тоже не критик, а так. И вот Белинский (не наш) написал статью про Некрасова (тоже не нашего). Вообще-то он ее написал давно, только мы про нее недавно узнали.
Наш Белинский говорит:
– Неудобно хвалить, но написано здорово. Я специально, чтоб почитать, записался в библиотеку. Прочитаю – выпишусь.
– Надо и себе записаться, – говорит наш Некрасов. – Интересно, как там твой моего…
Некрасов – тот еще – выпустил сборник. Не то московский, не то ленинградский, словом, по какому-то из городов. Правда, он не весь сборник сам написал, были там еще, не с нашей лестницы. А Белинский (тот) возьми и грохни статью.
– Ты прикинь, – говорит наш, – их там на сборник человек десять, а он один – про всех.
– Ну, мой-то, наверно, тоже что-нибудь написал. Помимо сборника.
Это наш Некрасов вступился за своего. Кто ж теперь за него заступится?
– А ты думаешь, Белинский только про этот сборник написал? У него там и про других, только я фамилий не запомнил.
И правда, всех запоминать – мозгов не напасешься. Тут хоть бы со своей лестницы.
На лестнице у нас хватает жильцов, и каждый норовит, чтоб его запомнили. Один говорит: меня запомнить легко, потому что, говорит, моя фамилия Менделеев. А чего ж, говорю, легко, фамилия довольно-таки длинная. А он: так это ж был великий химик. Придумывает, конечно, пользуется, что химия – наука малоизвестная, не для широких масс. Ты бы, говорю, придумал что-нибудь поинтересней. Полководец, например, Менделеев. Или космонавт. А с химией… Кому она нужна, твоя химия?
Но – запомнил. Через химию эту самую. Теперь как про химию услышу, вспоминаю Менделеева и смеюсь. Ловко он купил меня, Менделеев.
Чего там говорить, каждому хочется, чтоб его фамилия прозвучала. С Некрасовым-то легко звучать – под одной фамилией. И с Белинским тоже. Как начнут они на лестнице нашей звучать – битый час, и все о литературе.
– Сейчас, – говорит Белинский, – уже не та критика. Нет того, чтоб про целый сборник – статью.
– А сборники? – поддает Некрасов. – Кто их сейчас пишет, сборники?
Словом, разговор. Со стороны даже слушать обидно. Пошел я, записался в библиотеку.
– Дайте, – говорю, – что-нибудь под моей фамилией. Чего, думаю, не бывает. А вдруг?..
Не надеялся, честно говоря. А она – выносит. Видно, писателей у нас развелось, в какую фамилию ни ткни… Полистал книжечку – стихи.
– А про него у вас нет? Статейки хоть маленькой?
– Две статьи Белинского. Добролюбова. Чернышевского. Салтыкова. Щедрина…
Как стала перечислять – не остановишь.
– И все про него одного? – спрашиваю.
Про одного, оказывается. Вот так живешь, живешь и ни о чем не подозреваешь…
С тех пор пошел у нас разговор на троих. Соберемся мы – Белинский, Некрасов, и я, Кольцов, – и давай про литературу! Наконец и я себя человеком почувствовал, веселей зашагал по жизни.
Недавно встретил Менделеева.
– Ну, что, брат Менделеев? Как твоя химия? – смеюсь. – Привет тебе из литературы!
Ерофей Павлович
Кто у нас Ерофей Павлович, пускай радуется: на карту его нанесли. Вообще человека на карту нанести затруднительно, человек не город, он на месте не стоит. А Ерофея Павловича нанесли. Потому что Ерофей Павлович – город.
Ну, конечно, не какой-нибудь большой город, хотя мог бы быть и большим, учитывая, что его называют по отчеству. И стоит он у железной дороги, которая идет на запад в Читу, а на восток – в – Хабаровск, родной город Ерофея Павловича.
Само собой понятно, что Ерофей Павлович никогда не бывал в Хабаровске, потому что Ерофей Павлович – город и Хабаровск – город, а город в городе не может побывать. И все же Хабаровск – его родной город, очень близкий ему город, несмотря на довольно дальнее расстояние.
Все началось с того, что лет двести назад проехал по этим местам Ерофей Павлович Хабаров, – конечно, не город, а человек, впоследствии известный путешественник. Проехал – и остался здесь навсегда: его именем назвали город в Амурской области, а фамилией – город в Хабаровском крае и даже целый Хабаровский край.
Разделили Ерофея Павловича Хабарова на две части и поселили эти части в разных местах, соединив позднее их железной дорогой.
И теперь Ерофей Павлович провожает на восток поезда, которые уходят в его родной далекий Хабаровск. А Хабаровск встречает поезда и все пытается разузнать: как там живет его родной Ерофей Павлович?
И не может Ерофей Павлович сесть в поезд, чтоб приехать в свой родной город Хабаровск, ему остается только провожать и встречать поезда…
Одно утешение, что величают его по имени-отчеству. Единственного на всей земле. Белорусская Лида куда больше, чем он, и планетарий у нее есть, а ее называют по-простому: Лида. Даже не Лидия, а Лида. А его уважительно: Ерофей Павлович. Хоть и без планетария, но Ерофей Павлович. А она с планетарием – просто Лида.
Так что кто у нас Ерофей Павлович, пусть внимательнее живет и, чтоб имя свое оправдать, почаще смотрит на карту.
Мама, Папа, Бабка и прочая родня
Папа в Венгрии, Мама в Прибайкалье, а Малютка где-то между Хабаровским краем и Амурской областью. Один, даже без Бабки. Бабку на Урал занесло, в Пермские края. На кого ж тут Малютку оставить?
Попросить Родню – так Родня у нас на самой Волге. Соседку попросить – и Соседка где-то там, в среднерусской полосе. А поискать Няню – так попробуй Няню найти.
Вот вам карта мира, ищите.
Видите: Мама над Байкалом на реке Маме стоит.
А Папа где?
Вот он, слева от города Будапешта.
Бабка на Урале речкой течет, по Малютке слезами истекает: как он там без нее?
А вот и Родня расположилась на Волге, неподалеку от города Ржева.
А вот и Соседка в Пензенской области зазевалась на реку Ворону, небось забыла, что Малютку оставить не на кого.
И стоит Малютка среди высоких гор, откуда рукой подать до Горюн-реки, вот оно горе какое!
А где Няня? Вы нашли Няню?
Можете не искать, на целой карте мира ее не найдете.
Нет Няни. Нет Нигде.
Хотя даже Нигде можно на карте найти: стоит он, город Нигде, в стране Турции… Но даже в городе Нигде Няни нигде не найти.
И не на кого оставить Малютку.
Два вулкана

Жил-был вулкан Тупунгато. Это был самый высокий в мире вулкан. Правда, вокруг поговаривали, что высокий он потому, что восседает на горах Андах, самых высоких во всем Западном полушарии. Что если восседать на Гималаях, то можно еще не такой высоты достичь. Но вулкан Тупунгато не обращал внимания на все эти разговоры. Он ничего не знал о Гималаях, ему не было дела до Гималаев, потому что Гималаи находились совсем в другом полушарии.
Одла у него была тревога – за сына его, Тупунгатито.
Сын был большой, всего на какой-нибудь километр ниже отца, но был он действующим вулканом. А Тупунгато был потухшим, и он говорил своему сыну…
Но прежде чем узнать, что говорил своему сыну вулкан Тупунгато, давайте попробуем произнести одно слово: «Лью-льяй-льяко».
Ну-ка, еще раз повторим: «Лью-льяй-льяко».
И последний раз: «Лью-льяй-льяко».
Очень хорошо. А теперь послушайте, что сказал своему сыну Тупунгато.
– В наше доисторическое время, – сказал он, – мы с моим другом вулканом Льюльяйльяко (как хорошо, что мы сначала потренировались!) тоже действовали не хуже тебя. Поглядел бы ты на нас – мы клокотали, извергались, мы такое из себя выдавали! Дым! Огонь! Расплавленный гранит! Но потом мы обратили внимание…
Но прежде чем узнать, на что обратили внимание Тупунгато и друг его Льюльяйльяко, давайте попробуем произнести еще одно слово: «А-кон-ка-гу-а».
Еще раз попробуем: «А-кон-ка-гу-а».
Прекрасно!
– Мы обратили внимание на вершину Аконкагуа, самую высокую в Западном полушарии, – сказал Тупунгато. – Мы заметили, что она не бурлит. В смысле не клокочет.
– Но ведь она не вулкан, – напомнил сын Тупунгатито.
– Не будем разбираться, кто вулкан, а кто не вулкан. Если другие бездействуют, почему я должен кипеть? В смысле бурлить? Почему мы с Льюльяйльяко должны бурлить? Почему мы должны всегда клокотать, волноваться?
– Но, отец, мы не можем жить без волнений, мы ведь вышли из земных недр, а в недрах – вечное волнение.
– Но мы-то уже вышли. Зачем же нам волноваться? Зачем волноваться мне, Тупунгато, тебе, Тупунгатито, нашему другу Льюльяйльяко, нашей подруге Аконкагуа, нашим приятелям Гуальятири, Охос-дель-Саладо, Агульяс-Неграс…
Нет, это невозможно!.. Невозможно продолжать, невозможно говорить, невозможно жить среди подобных названий!..
Человек должен жить среди своих названий. Среди родных, понятных, произносимых названий… Кор-сунь-Шев-чен-ков-ский. Пе-тро-пав-ловск-Кам-чат-ский…
Ну вот, теперь пускай они там у себя упражняются, а мы поговорим о своих проблемах.