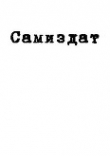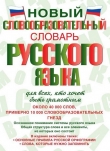Текст книги "Принцесса Грамматика или Потомки древнего глагола"
Автор книги: Феликс Кривин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 18 страниц)
СЫНОВЬЯ МУДРЕЦА
У одного мудреца было два сына. Когда отец умирал, ничего он не мог оставить детям в наследство: ни богатства, ни прибыльной должности, – потому что сам никогда этого не имел. Мудрость, известно, вещь неприбыльная.
– Дети мои, – сказал мудрец сыновьям, – оставляю вам два слова, на первый случай достаточно: умный человек не бросает слов на ветер.
– А какие слова? – поинтересовались наследники.
– Слова простые, короткие: ДА и НЕТ. Утвердительная частица и отрицательная. Только помните: одним отрицанием, как и одним утверждением, в мире не проживешь.
Умер мудрец, а сыновья тут же принялись делить наследство. Положили слова в шапку, потрясли. Одни вытянул ДА, другой НЕТ – и разошлись в разные стороны.
Живут-поживают, добра наживают. Вернее, добра наживает тот, которому утвердительная частица досталась. А тот, которому отрицательная досталась, не только не наживает, но проживает последнее. Это только так говорится, что на НЕТ суда нет: есть на него и суд, и другие строгие меры.
Вот на ДА действительно нет суда. Станет оно утверждать, чего утверждать не полагается, тут бы с него взыскать, а оно на попятный:
– Не положено, ДА?
И уже оно не утвердительная, а всего лишь вопросительная частица. Наше дело спрашивать, ваше дело отвечать.
Если же вопрос не к месту, всегда найдутся объяснения:
– То ДА се, ДА пятое, ДА десятое…
И уже оно никакая не частица, а соединительный союз.
Вот это да! Вот это ДА как меняет свои значения! То оно союз, то частица, а когда союзы и частицы не в ходу…
– ДА, кстати, мы совсем забыли про вводное слово…
Вот ДА уже и вводное слово. А с вводного слова – какой спрос?
Живут сыновья мудреца, поживают: один добра наживает, другой, наоборот, проживает последнее. Уже и слово НЕТ в ломбард заложил и только головой качает отрицательно, а нет чтоб кивнуть! Привык отрицать, теперь его не перевоспитаешь!
А брат его доволен:
– ДА будет и дальше так!
Здесь ДА – побудительная частица, чтоб ему так и дальше – поживать, добра наживать.
И поживал бы, и наживал, ДА не тут-то было.
Здесь ДА – противительный союз.
Оказалось у благополучного слова ДА противительное значение, и обернулось против наследника его наследство.
Видно, правильно говорил мудрец: слова ДА и НЕТ надо употреблять с толком. Одним утверждением, как и одним отрицанием, на свете не проживешь.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА
Древнеримский бог Термин не мог и мечтать о таком положении, какое он занял в наши дни на страницах специальной литературы. Там, в древности, он был богом границ, здесь же обозначает слова, имеющие ограниченное употребление. В пределах науки, производства и других видов специальной деятельности. Но даже бог границ не соблюдает границ, поэтому мы все чаще встречаем его в широкой литературе.
Эволюция камня
В первобытные времена, когда камень был основным средством защиты и нападения, он мог бы относиться к военной лексике, если бы понятие лексики в то время существовало. Понятия лексики не было, но сама лексика уже была, хотя и реже использовалась в межплеменных отношениях, чем камень, орудие массового уничтожения (не столь массового, как современные орудия, но ведь и массы в то время были другие).
Толковые словари определяют камень как кусок горной породы, твердой, нековкой и не растворяющейся в воде. Из этих трех качеств в условиях первобытного взаимонепонимания и непрекращающихся междоусобиц была выделена, естественно, твердость. Кроме того, по сравнению с палкой, выведшей в свое время человека в люди и поставившей его на ноги (с четырех на две), камень обладал такими преимуществами, как значительно больший удельный вес и, при равной силе броска, повышенная летательная способность.
Открытие камня как нового вида оружия было значительным шагом вперед по пути уничтожения человечества. Могущественные племена, могущество которых столетиями покоилось на дубине, дрогнули, пошатнулись и пришли в смятение: противника поблизости не было, но его удары их настигали. Удары на расстоянии, наиболее коварные удары, были первым весомым вкладом, который внесло человечество в ведение дочеловеческих войн.
В сравнительно короткий исторический срок дубина была сломлена и в мире воцарился камень – как наиболее современное средство ведения войн, уже или еще человеческих. Воины враждующих племен были вооружены камнями с ног до головы, и даже мирные жители, избегая идти на войну, на всякий случай держали камень за пазухой. Стали раздаваться первые благоразумные голоса, призывающие использовать камень в мирных целях. Но в возможность такого использования мало кто верил: как можно использовать в мирных целях камень, обладающий такими стратегическими качествами, как твердость, маневренность и повышенная летательная способность?
Военное использование камня продолжалось. Камни летели в разных направлениях и за короткий срок налетали больше, чем Земля вокруг Солнца за все время их совместного существования.
И вот однажды, на исходе очередной тысячелетней войны, какой-то солдат, истомившийся в тысячелетнем походе, высек из камня фигуру своей жены или другой, поразившей его воображение, женщины. Эта каменная фигурка не имела сходства с живой натурой, но солдату в тысячелетнем походе любой предмет кажется похожим на женщину, и каменная фигурка имела успех. Впервые вооруженные камнями стрелки посмотрели на камень другими глазами.
Оказывается, кроме стратегических качеств камень таил в себе качества не стратегические, но дорогие каждому солдатскому сердцу. Глядя на него, не возникало даже мысли, что его можно запустить кому-то в голову, а, наоборот, – хотелось склонить перед ним собственную голову и задуматься… Неважно о чем… Может быть, о чем-то совсем не военном…
Когда говорят пушки, музы молчат. Но когда музы заговорят, тут уже приходится замолчать пушкам.
И вот уже каменные жернова перемалывают зерно, каменные орудия не войны, а труда помогают совершенствовать производство, один за другим вырастают каменные дома… И камень, если его не держать за пазухой и не использовать как орудие уничтожения, даже как-то неудобно относить к военной лексике. Поэтому никто его к ней и не относит.
Пенелопа
ОДИССЕЙ стремился к ПЕНЕЛОПЕ – Орбитальный Дистанционный Искусственный Спутник Ежедневной Информации держал курс туда, где в сверкающем оперении облаков то появлялась, то исчезала ПЕНЕЛОПА – Пока Еще Не опознанный Летающий Объект Постоянной Аккумуляции.
ПЕНЕЛОПУ окружали ЖЕНИХИ – Жесткокрепленые Еще Не опознанные Источники Характерных Импульсов, и ОДИССЕЙ понимал, что вступить в контакт с ПЕНЕЛОПОЙ будет не так просто.
Была ВЕСНА – Время Естественной Световой Неистощимой Активности. В небе светило СОЛНЦЕ – Самостоятельная Оптимальная Лучащаяся Незатухающая Центральная Единица, а внизу лежала ЗЕМЛЯ – Зона Единственно Мыслимых Локальных Явлений.
ОДИССЕЙ летел к ПЕНЕЛОПЕ сквозь плотное кольцо ЖЕНИХОВ и гадал: опознают они друг друга или не опознают? Так обидно жить рядом и навеки остаться неопознанными… А тут еще эти жесткокрепленые ЖЕНИХИ.
ОДИССЕЙ замедлил ХОД – Хронометрированное Орбитальное Движение, чтобы послать на ЗЕМЛЮ очередную информацию: «Объект вижу. Пока не опознаю». С ЗЕМЛИ тут же поступил ответ: «Продолжайте опознавать. Следуйте прежним курсом».
ЗЕМЛЯ замолчала. Сегодня она уже не выйдет на связь. ОДИССЕЙ продолжал следовать прежним курсом.
И вдруг его волноулавливатели зафиксировали незнакомые позывные:
– ОДИССЕЙ, ты веришь в любовь?
Электронный словарь ОДИССЕЯ заработал с лихорадочной скоростью, пытаясь отыскать позабытое слово.
– ЛЮБОВЬ?
– Да, любовь…
Ага, вот оно. Локальное Юридически Безответственное Одностороннее Влечение… И в это он должен верить? Он, источник информации – не локальной, не безответственной и юридически совершенно неуязвимой!
– Эй, па ПЕНЕЛОПЕ! Как меня слышите? Иду на опознавание. Без всякой, подчеркиваю: без всякой ЛЮБВИ!
– Прощай, ОДИССЕЙ! Ты меня никогда не опознаешь!
ПЕНЕЛОПА удалялась неопознанной в сопровождении своих ЖЕНИХОВ. Жесткокрепленых. Но источающих характерные импульсы. Так вот что это за импульсы!
ЛЮБОВЬ… Ну при чем здесь ЛЮБОВЬ?
– Эй, на ПЕНЕЛОПЕ! При чем здесь ЛЮБОВЬ?
Ответа не было. Навеки замолчали на ПЕНЕЛОПЕ.
ТЕХОСМОТР
С тех пор, как ко мне стали обращаться на «вы», я почувствовал, что во мне уже не один, а два человека. Прежде во мне жил один человек, и это к нему обращались на «ты» даже незнакомые люди. А теперь не только незнакомые, но даже знакомые говорят мне «вы», словно подчеркивая, что они обращаются к нам двоим: к тому, кто живет во мне с детства, и к тому, кто появился, когда я повзрослел.
Тот, прежний, остался таким же, как был, и вел бы себя точно так же, если б этот, новый, его не одергивал: «Неудобно, ты уже не маленький, что о тебе люди скажут?» И тот, которого прежде называли на «ты», подчиняется, потому что теперь он уже не один и приходится с этим считаться.
Вот почему я так обрадовался, когда совершенно незнакомый человек обратился ко мне на «ты»:
– Послушай, парень! – Это я-то парень в свои сорок с лишним лет! – Почему бы тебе завтра не выступить на собрании?
Из своих сорока с лишним лет я не выступал на собрании лет двадцать. Тот, которого называли на «ты», не раз хотел выступить, но другой ему говорил: «Брось, не связывайся, ну что мы можем одни?»
И я не связывался. Мы с ним действительно были одни, и нас бы, наверное, даже и не услышали.
Но теперь незнакомец обращался ко мне на «ты», совершенно игнорируя того, второго:
– Выступи, скажи все, что думаешь, а за тобой и другие скажут. Они давно хотят сказать, просто им не хочется говорить первыми.
Тот, которого раньше называли на «ты», уже и рот раскрыл, чтобы согласиться, но второй его опередил:
– А, собственно, почему вы тыкаете? И откуда вам известно, что у нас собрание? И вообще – кто вы такой?
– Я из тех, – сказал незнакомец.
– Из каких это тех? – надменно спросил тот, кто появился во мне попозже. Но тот, кого с детства называли на «ты», догадался: – Вы с НЛО? С Неопознанного Летающего Объекта? Вы из тех, из наших братьев по разуму?
– Все разумные люди – братья по разуму, – уклончиво сказал незнакомец. – Но, говоря, что я из тех, я имел в виду станцию техосмотра. У вас тут случилась поломка, и я прибыл, чтобы ее устранить.
– Электричество? Газ? – уточнил тот, который появился во мне попоздней. – Когда нужен ремонт, вас не дозовешься, а когда ремонт не нужен…
– Он нужен, – сказал незнакомец из техосмотра. – По инструкции мы должны устранять неполадки еще до их появления, но мы постоянно запаздываем, не успеваем. А когда спохватишься, требуется капитальный ремонт.
– Набиваете цену? – осведомился тот, которого никогда не называли на «ты». – Предупреждаю: этот номер здесь не пройдет, у нас в двух шагах комбинат бытового обслуживания.
– Какое там обслуживание! – махнул рукой монтер из техосмотра и, в общем-то, был прав: обслуживание было никакое. – Вы помните, в детском садике вы разбили окно, а когда в этом обвинили вашего товарища, вы промолчали, не признались, что это вы…
– Не было такого! – сказал тот, который никогда не ходил со мной в детский садик. А тот, что ходил, признался: – Было, чего там говорить!
– Вот когда нужно было начинать ремонт, – сказал монтер из техосмотра. – Но у нас было много работы, и мы решили, что с этим успеется. А потом в школе вы списали контрольную у соседа, и ему поставили двойку, решив, что это он у вас списал. Вы тогда тоже промолчали.
– Промолчал, – сказал тот, которого когда-то называли на «ты». – Я боялся, что мне тоже поставят двойку.
– А как вы женились? Ведь вы же не любили эту девушку, вы женились на ней лишь потому, что ее отец был завучем вашего института. Благодаря этому вы поступили в аспирантуру, стали научным работником… А мы опять запоздали с ремонтом…
– С каким ремонтом? – возмутился тот, которого никогда не называли на «ты». – Занимайтесь своим ремонтом и не суйтесь в чужие личные дела!
– Что же делать, если мы как раз по этим делам? – вздохнул монтер из техосмотра. – Вот вы завтра должны выступить на собрании. Если выступите, вам вряд ли удастся остаться в институте. И докторскую вам не защитить. И вообще конец вашей научной карьере. А если не выступите, станете ректором. Членом-корреспондентом…
– Вы в этом уверены? – дрожащим голосом спросил тот, которого никогда не называли на «ты».
– Стали бы. Но, к счастью, я вовремя подоспел. Произведу ремонт, устраню неполадки, и вы завтра выступите на собрании.
– Как бы не так. Особенно теперь, когда вы сами предупредили…
– Можете не сомневаться. Наш ремонт гарантирует полную исправность, это вам не комбинат бытового обслуживания.
– Ремонтируйте же, ремонтируйте! – сказал тот, которого прежде называли на «ты».
– Я протестую! – крикнул тот, которого на «ты» никогда не называли.
– Придется ремонтировать, – вздохнул монтер, как всякий монтер, которому не хочется приступать к работе. – Раз уж вы сами не можете между собой договориться…
– Почему же не можем? – заторопился тот, которого никогда не называли на «ты». – Мы договоримся… Правда, мы договоримся?
– За сорок лет не договорились, а тут договоритесь? – все еще не верил монтер.
– Обязательно договоримся. Ведь мы же свои… так сказать, в одном деле… в одном теле… Ну, чего ж ты молчишь? – тормошил он того, которого называли на «ты». – Договоримся мы или не договоримся?
Тот, которого когда-то называли на «ты», вспомнил, как он молчал в детском садике, как молчал в школе и потом все время молчал и молчал… И он решил: хватит молчать! И твердо сказал:
– Договоримся!
Монтер техосмотра исчез, словно его и не было. А я остался. Верней, не я, а эти двое, что были во мне.
И с тех пор они договариваются.
С тех пор!
Так вот почему незнакомец сказал, что он из тех! Он прибыл с тех пор, с тех далеких пор, когда ко мне обращались на «ты», он прибыл из моего детства.
Там, в детстве, моя станция техосмотра, на которой осматривают каждый прожитый мною день. И стараются устранить неполадки, но только всегда опаздывают. Всегда, всегда опаздывают…
Решено!
Завтра я выступлю на собрании.
Правда, то, прежнее, завтра уже прошло, а за ним прошло и другое, и третье завтра… Но впереди еще столько завтр! И можно не сомневаться: завтра я выступлю на собрании!
ДИСТРОФИКИ
Дистрофик (буквально: двухстрофный) – это в прошлом длинное стихотворение, из которого выброшены все строфы, кроме двух, самых необходимых. Этим дистрофик-жанр напоминает другого дистрофика – человека, от которого остались кожа да кости, то есть самое главное. Тем не менее это совершенно разные слова, хотя и имеющие одинаково греческое происхождение.
Дистрофик-жанр в своем первоначальном греческом варианте не ДИС-ТРОФ (нарушение питания), а ДИ-СТРОФ (удвоенная строфа). По линии приставки ДИ– он имеет таких признанных в нашем языке родственников, как диод, дилемма, дилогия, по линии корня СТРОФ– его родня – апостроф и катастрофа.
Да, наш дистрофик близок к катастрофе, но это ничем ему, не грозит, поскольку близок он к ней не в будущем (как тот, другой дистрофик), а в далеком греческом прошлом, где корень СТРОФ– означал перемену, поворот – например, от одной к другой части стихотворения. Такие повороты в нашем дистрофике сведены до минимума, и это делает чтение его если и не захватывающим, то, во всяком случае, безопасным.
Борей и Солнце
Однажды заспорили Солнце с Бореем,
Кто снимет с прохожего шубу скорее,
Борей попытался сорвать ее грубо —
Прохожий плотнее закутался в шубу.
А Солнце пригрело – и сразу прохожий
Снял шубу и шапку, и валенки тоже…
Поистине ласка – великое дело:
Кого она только из нас не раздела!
Апельсин
У апельсина не доля, а долька,
Но апельсин не в обиде нисколько:
Долек-то много, а доля одна,
Да и не редко горька, солона.
Прячутся дольки под толстою кожей,
Здесь их не видит никто, не тревожит,
Доля ж открыта, у всех на виду —
Всем на потеху, себе на беду.
Рога и ноги
Сказали оленю: – При виде врага
Всегда ты уходишь от драки.
Ведь ты же имеешь такие рога,
Каких не имеют собаки.
Олень отвечал: – Моя сила в ногах,
Иной я защиты не вижу,
Поскольку витают рога в облаках,
А ноги – к реальности ближе.
Собака и заяц
Огромный пес, а зайца не догнал,
Пришлось ни с чем с охоты возвращаться.
Ох этот заяц! Он хотя и мал,
А бегает – большому не угнаться.
А почему? Не взять собаке в толк,
Она ведь тоже бегает не хуже…
Собака только выполняет долг,
А заяц в пятки вкладывает душу.
Волк в овечьей шкуре
За волком гонятся собаки.
Сопротивляться что за толк?
Чтоб избежать неравной драки,
Не быть затравленным, как волк,
Смирив жестокую натуру,
Пошел матерый на обман:
Он нацепил овечью шкуру
И был зарезан, как баран.
Лебедь, щука и рак
Да, лебедь рвется ввысь, и в этом есть резон.
И щука в холодок стремится не напрасно.
Рак пятится назад: что сзади – знает он,
А что там впереди – ему пока неясно.
А воз стоит. И простоит сто лет.
И о другой он жизни не мечтает:
Пока в товарищах согласья нет,
Ему ничто не угрожает.
Большая Фортунатовская
(Записки бывшего языковеда)

МАРКИЗА, МАРКИЗА, МАРКИЗА…
В том доме, в котором я жил до войны, каждый день поднимали и опускали маркизу. В том городе было много маркиз, и каждую из них то поднимали, то опускали. И пели песню про маркизу – про то, как у нее все хорошо, как великолепно идут дела и, вообще, какая жизнь великолепная.
Впрочем, это были разные маркизы. Та, про которую пели, была несчастная женщина, хотя и маркиза. У нее погиб муж, сгорел дом, и еще много чего погибло и сгорело. Хотя считалось, что у нее все идет хорошо и нет никаких оснований для беспокойства. Эту маркизу поднимала и опускала жизнь, и это не имело никакого отношения к нашей маркизе, которую поднимал и опускал каждый, кому вздумается. Наша маркиза была матерчатым навесом над окном, и держали ее для защиты от солнца.
В то время я еще ничего не знал об омонимах…
Помню, как я удивился, узнав, что в Китае мандарины правят людьми. Я тогда подумал, что еще большую власть над людьми должны иметь апельсины, но о них из Китая не поступало никаких сведений. В Китае были мандарины и кули, которые таскали кули (тут главное не перепутать ударения).
А посол огурцов?
Мне он представлялся солидным, пожелтевшим от времени огурцом, который прибыл с секретной миссией к помидорам. Большой, неуклюжий, состоящий из одного носа, он всюду совал этот нос, но не мог собрать необходимых сведений. Потому что посол был совсем не посол. То есть он был посол, но не в дипломатическом, а в гастрономическом смысле. Посол огурцов – это был просто засол огурцов.
Или донья Ваз. Кто такая донья Ваз? По-видимому, испанка, хотя фамилия у нее не испанская. Может, немецкая, а может, английская. Но «донья» по-испански – госпожа, значит, она, видимо, испанка.
А она, представьте, русская. Точнее, они – русские, и «они» – вовсе не из-за какой-то безграмотной почтительности, а потому, что ДОНЬЯ ВАЗ – это множественное число от простого русского выражения ДНО ВАЗЫ. Единственное число – ДНО ВАЗЫ, множественное – ДОНЬЯ ВАЗ. А нас уже потянуло в Испанию…
Романтика слов иногда уводит далеко, как всякая романтика…
Приглушенный голос за стеной:
– Для такого дела нужна целая шайка.
Для какого дела? Для разбоя? Для ограбления? Может, там, за стеной, атаман разбойников собирает свою бандитскую шайку? Целую шайку!
Не нужно звонить в милицию, никакого атамана там нет. Просто человек собирается в баню, и для такого дела ему нужна шайка, посудина для мытья. Причем, целая шайка, не дырявая.
До чего различны бывают значения одного и того же слова!
Вы спрашиваете в аптеке закрепитель для волос, а вам отвечают:
– Для ваших волос нужен не закрепитель, а проявитель.
То есть, намекают на вашу лысину.
Ведь это же оскорбительный, причем, совершенно не медицинский разговор. Разговор, который можно вести о фотографии, но никак не о живом человеке.
Подобная многозначность создавала бы путаницу, если б слово выступало в одиночку. Но у него, к счастью, имеется контекст. Так же, как человек приобретает значение в обществе, слово приобретает значение в контексте…
А в доме, в котором я жил до войны, до сих пор поднимают и опускают маркизу и поют песню про маркизу, у которой по-прежнему все хорошо, и даже едят маркизу, потому что маркиза – это не только титулованная особа и полотняный навес, но и крупная, очень вкусная груша.
СЛАВА СЛОВА
Мы живем среди слов. Конечно, мы ходим по земле, дышим воздухом, купаемся в море, – но при этом всюду мы живем среди слов. Мы не можем представить себе море без слова море и землю без слова земля. И никуда нам не уйти от слов: даже если мы улетим в космос, мы встретимся там со словом космос, и в любой, самой далекой галактике мы не уйдем от слова галактика.
Мы даем слово и берем слово, держим слово, владеем словом, верим на слово, поминаем добрым словом, кого-то ловим на слове, в трудных случаях берем слова обратно, а в еще более трудных не можем связать двух слов… А если б не было слов… Тут уж ни в науке новое слово сказать, ни построить что-либо по последнему слову техники, ни даже за друга замолвить словцо… Одним словом – жизнь невозможная.
У слова и славы – общий корень, и этим все сказано. Слава слова гремит над миром, правда, иногда превращаясь в пустое и лицемерное славословие, но само Слово от этого не страдает. Страдает тот, кто осмеливается им злоупотреблять.
Федор Иванович Буслаев, о котором речь впереди, назвал слово старинным художественным произведением, сохраняющим первоначальный живой образ, вызванный тем ощущением, которое в человеке возбудили природа и жизнь.
Сколько слов – столько художественных произведений. Сотни тысяч художественных произведений, которые могут принадлежать каждому, кто пожелает ими владеть. «Придите и владейте нами!» – взывают они словами древней летописи.
И те, которые ими владеют, как положено владеть художественными произведениями – то есть знают их значение, историю, взаимосвязь с другими словами, – эти люди по праву носят звание словесников и не менее громкое звание языковедов, а также лингвистов («лингвист» по-латыни – языковед).
О них очень мало написано. Их наука многим кажется скучной. Да и сами они называли грамматику то «забавой педантства и слабомыслия» (Греч), то «собранием полицейских предписаний» (Буслаев), то признавались: «Если впоследствии меня не пугала грамматика, то это, я думаю, потому, что я смолоду не знал никаких грамматических учебников» (Потебня).
Так они говорили, продолжая заниматься своей «неинтересной» наукой, благодаря которой мы узнаем о самом интересном, что было в мире до нас и до них.