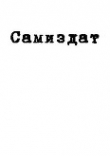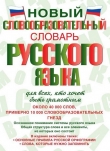Текст книги "Принцесса Грамматика или Потомки древнего глагола"
Автор книги: Феликс Кривин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 18 страниц)
ОБРАЩЕНИЕ
Михаилу Степановичу было семь лет, когда он познакомился с тридцатилетним Володей. Сейчас самому Михаилу Степановичу тридцать, а Володе пятьдесят три. Они работают в одном учреждении, причем Михаил Степанович сидит в отдельной комнате, а Володя вообще нигде не сидит. Такая у него работа. Не сидячая.
Вызовет его Михаил Степанович в свою комнату, пожурит, что не сразу явился, и скажет:
– Сбегай-ка, Володя, на почту.
Или:
– Сбегай-ка, Володя, на вокзал.
Или:
– Сбегай-ка, Володя, в вышестоящее учреждение.
И на все это Володя отвечает:
– Будет сделано, Михаил Степанович.
С точки зрения грамматики, это не вызывает возражений. Грамматически допускаются самые различные обращения: и «Михаил Степанович», и «Володя», и «Миленький», и «Друг любезный». Но Михаил Степанович никогда не назовет Володю «Миленький», а Володя не назовет Михаила Степановича «Друг любезный», потому что Михаил Степанович сидит в отдельной комнате, а Володя вообще нигде не сидит. Такая у него работа.
Когда Михаилу Степановичу было семь лет, его называли Мишенькой, а еще раньше – Буленькой. А Володю всегда называли Володей, и он даже не подозревал, что бывают какие-то другие обращения, хотя в школе учил грамматику и там про это говорилось. Правда, грамматика не делит обращения на культурные, грубые и ласковые, как это обычно бывает в жизни. В жизни тебя по-всякому назовут, иногда так, что ты об этом даже и не узнаешь.
– Ну и хам он, этот Михаил Степанович!
Это, конечно, не обращение. С точки зрения грамматики, это никакое не обращение, потому что в грамматике обращение – это слово, называющее того, к кому обращаются с речью. А если обращаются к одному, а говорят о другом, называют или даже обзывают другого, то это не обращение. Обращение в грамматике требует, чтобы называли прямо в лицо.
– Послушайте, хам, никакой я вам не Володя.
Правда, это будет не очень вежливое обращение, но справедливое с точки зрения грамматики, а также жизненной правды.
А вообще-то без отчества ходить даже легче. Как-то моложе себя чувствуешь. И на почту сбегаешь, и на вокзал, и всюду, куда пошлют тебя сбегать.
Что там ни говорите, а одно имя легче нести, чем тащить на себе и имя, и отчество.
НАЗВАНИЯ ВЕСЕЛЫЕ, ГРУСТНЫЕ, ВСЯКИЕ
Свадьба
Орел-Скоморох на своей свадьбе сам и орел, и скоморох, сам и музыка, и песни, и танцы! Не плавные па (па вперед, па в сторону), а настоящие антраша, двойные и тройные кульбиты. Орел-Скоморох выступает, как воздушный гимнаст: все свои номера он выполняет в воздухе. Причем выполняет не так, как это бывает, когда работаешь на публику, а так, как это бывает, когда работаешь на себя, когда выступаешь на собственной свадьбе.
– Скоморох! – уныло замечает Орел-Могильник, который и на свадьбе не теряет уныния, пронося его через всю жизнь – к своей заранее намеченной цели. – И чего веселиться? Ну, свадьба. Потом будут похороны…
Орлу-Могильнику не нравится Орел-Скоморох. Впрочем, Скоморох и не стремится ему понравиться. Он хочет понравиться своей невесте, такой же скоморошке, которой только дай поскакать, особенно на собственной свадьбе. «Скачи, скачи, – размышляет Орел-Могильник на ее счет, – после свадьбы наскачешься…»
И она скачет. Она выкидывает все эти антраша, все эти двойные и тройные кульбиты, словно в жизни ее произошло невесть какое событие.
А какое событие?
Ну, свадьба. Ну, нашелся такой же, как и она, скоморох, который польстился на такую же, как и он, скоморошку. Так уже, значит, прыгать, скакать? Словно ты не орел, а блоха, простите за выражение.
Тьфу!
Орел-Могильник произносит мысленно «тьфу!», как бы подводя итог своим размышлениям. А чего размышлять-то? Стоит ли по этому поводу размышлять?
Ну, свадьба. Потом будут похороны. И между тем и другим один шаг. Одно па, выражаясь по-скоморошьи.
Глупый Сивка
В трудную минуту Глупый Сивка строит из себя дурачка, поэтому его называют Глупым Сивкой.
Вот допустим: к гнезду приближается враг, а в гнезде еще не высиженное потомство. Как должна поступить серьезная птица при виде такой серьезной опасности? Либо спасать потомство, либо отражать врага.
Сивка же начинает выкидывать свои фокусы. То он взлетает, то падает, как подбитый, то вдруг начинает кувыркаться, как какой-нибудь клоун. И хотя ему, конечно, невесело, и хотя сердце его колотится, как будто его там заперли на замок, но он веселится, изо всех сил веселится, так что на него невозможно серьезно смотреть.
Смотрит враг на Глупого Сивку и забывает о его недовысиженных птенцах. И думает враг: «Ну и Сивка, до чего же ты глупый, Сивка!» А Сивка еще больше старается, словно всем своим видом хочет сказать: «Да, я глупый, я очень глупый, я прямо-таки шут гороховый, ну что с меня, дурака, возьмешь?»
И враг идет дальше, потому что с дурака взять нечего, враг уходит, смеясь и удивляясь тому, что есть на свете такие глупые сивки. А Сивка, убедившись, что враг ушел, перестает дурачиться и спешит к своему гнезду и серьезно, очень серьезно, как настоящий отец, продолжает высиживать свое недовысиженное потомство.
Но еще долго не может он успокоиться, и сердце у него прямо выскакивает, как будто где-то там сорвали замок, и Сивке страшно, теперь ему страшно, а раньше было весело! Раньше он кувыркался, а теперь сидит и дрожит, хотя раньше надо было дрожать, а теперь бы можно и покувыркаться…
Обезьянье Дерево
Живет на свете Баобаб – как ободрение всем живущим. За свои пять тысяч лет он многое повидал: рождение и гибель держав, величие и падение фараонов. Ураганы, несущие смерть. Потопы, несущие смерть. Пожары, несущие смерть. Дикие табуны и дикие орды.
Но – живет на свете Баобаб. Как ободрение всем живущим.
Его рубили, ломали и жгли, с него сдирали кожу – с живого. Его даже назвали Баобабом, то есть Обезьяньим Деревом, – чтоб унизить, хотя ростом он и так невысок. Ему свойственна широта – тридцать, а то и сорок метров в обхвате. Разве можно согнуть, разве можно сломать при таком обхвате? Были землетрясения, все вокруг сотрясалось, а он стоял, как положено стоять тем, кто намерен простоять тысячелетия. И все, что было срублено, содрано с него, – отросло.
Пожары прожгли его насквозь, выжгли самую сердцевину. Но он все равно живет. И цветет. Когда отцвели державы и фараоны, и пожары, и потопы, и дикие орды и табуны – он все равно цветет, он живет. И даже не затвердел от всех этих испытаний.
Нет, он не затвердел, древесина у него мягкая, недаром ее любят жевать слоны. Баобаб не возражает, и причина этого не мягкость его, а широта: пусть жуют, всю не сжуют – все-таки тридцать метров в обхвате! А из коры его вьют веревки, и он тоже не возражает: новая кора отрастет. И плоды новые вырастут, и листья новые отрастут, хотя вечно их кто-нибудь объедает.
Пускай объедают, пускай жуют, пускай даже вьют веревки и называют Обезьяньим Деревом, – Баобаб не станет протестовать, при его широте это, в сущности, мелочи. Другие считают, что нужно быть выше мелочей, а он считает, что нужно быть шире. Да и разве только из него вьют веревки? Не только из него. За пять тысяч лет он смог в этом убедиться.
Всем трудно, приходит к выводу Баобаб, но – ничего не поделаешь. Нужно быть шире трудностей, тогда их легко преодолеть…
Поэтому Баобаб обнимают сразу двадцать, а то и тридцать человек. А тех, у которых нет широты, и один человек не обнимает.
Бражники и Жужжалы
Жужжала-Печальница, небольшая, но весьма печальная муха, настолько печальная, что, казалось, она вобрала в себя всю мировую скорбь, после чего остальные мухи должны жить беззаботно и весело, – так вот, эта самая Жужжала-Печальница, которую иногда называют Траурницей, нисколько не заботясь о том, чтобы отличить ее от бабочки Траурницы, а может быть, специально для того, чтобы спутать ее с бабочкой Траурницей, хотя спутать муху с бабочкой можно в состоянии уж слишком большой печали, – так вот, наконец, эта Жужжала-Печальница, муха, а, уж конечно, не бабочка, в один печальный, тоскливый, совершенно несчастный день повстречала Бражника-Языкана.
Этот Бражник был, конечно, не мухой, а бабочкой, хотя в настоящее время это было ему безразлично. Он не видел разницы между чешуекрылыми и двукрылыми, и это его не смущало и нисколько не портило ему настроения. Наоборот, это сближало его со всем миром – чешуекрылым, двукрылым, перепончатокрылым, с миром жестко– и полужесткокрылым, прямокрылым, и равнокрылым, и сетчатокрылым, – мать честная, до чего он разно– и вместе с тем однообразен, этот мир! Бражник-Языкан развел крылья, чтобы обнять этот мир, и спросил:
– Жужжишь?
– Жужжу, – ответила Жужжала-Печальница, потому что она одна представляла здесь жужжащий мир, как другие представляли стрекочущий и звенящий.
– И правильно делаешь, – подумав, сказал Языкан.
– А может, неправильно? – вздохнула Жужжала-Печальница. – Может, нужно не жужжать, а визжать? Или даже рычать? Только я не умею.
– Каждому свое, – сказал Бражник-Языкан и задумался. Когда-то он тоже вот так же печалился, пока не понял, что каждому свое. Когда это поймешь, тогда уже ни о чем не будешь печалиться. Кому надо, пусть жужжит, кому надо, пусть визжит, кому надо, пусть рычит. И молчит, кому ничего не надо.
– Жить – жуть, – сказала Жужжала-Печальница.
– Ничуть. Кто поет, пусть поет. Кто плачет, пусть плачет. Разнообразие звуков. Я, к примеру, разговариваю, потому что я Языкан. А ты жужжишь, потому что ты Жужжала. А другие пусть визжат и рычат, пока ты жужжишь, а я разговариваю. Все нормально, все хорошо.
Бражник-Языкан как-то неестественно замолчал, словно усомнившись в своем последнем слове. Он замолчал, как молчат те, кому ничего не надо, хотя подсознательно ощущал: что-то ему было надо… где-то там, в глубине, что-то ему было надо…
Что ему было надо? Он не мог сказать. Но оно было – что-то такое, чего он, Языкан, не умел сказать, а Жужжала-Печальница не могла прожужжать, а другие не могли провизжать, прорычать… Было что-то такое…
ДИАЛОГИ
Диалоги состоят из прямой речи, но речь в них редко бывает идеально прямой. Сплошь и рядом она бывает неровной, извилистой, даже петляющей, хотя грамматически остается безукоризненно прямой речью.
– Вы понимаете, что я хочу сказать?
– Прекрасно понимаю.
Тире перед прямой речью – эталон прямоты, которому она должна следовать, но, к сожалению, следует не всегда. А иногда не следует – к счастью…
Контакты
(Прямота, принесенная в жертву взаимопониманию)
– Выньте руку из моего кармана!
– Это не ваш карман.
– А чей же? Может быть, ваш?
– В этом я не уверен.
– Зачем же запускаете в него руку?
– Почему вы думаете, что это моя рука?
– А чья она?
– Может быть, ваша… Откуда взялся этот платок?
– Это мой платок.
– Опять «мой»! Мой карман, мой платок…
– Зачем я с вами разговариваю? Вы залезли в мой карман, а я еще с вами разговариваю!
– Человек должен разговаривать с человеком.
– Даже когда к нему залезают в карман?
– Это тоже своего рода общение. И, как во всяком общении, что-то приобретаешь, а что-то приходится потерять.
– Но я не хочу ничего терять!
– Друг мой, жизнь – это сплошная потеря, она состоит из уходящего времени. Из времени, буквально вынутого у нас из карманов.
– Как это верно! И главное, никогда не знаешь, сколько его там…
– Не сосчитаешь… Особенно, когда мешает платок…
– Стоит ли говорить о нем? Возьмите его себе.
– Спасибо. Мне бы хотелось оставить его вам – на память о нашем общении. Кто знает, когда еще придется общаться.
– Кто знает… А я уже стал привыкать… Мне будет вас не хватать… Вашей руки… в моем кармане…
– А что у вас в другом кармане? Вы мне позволите?
– Ну что за разговоры! Дайте руку!
– Вот вам моя рука!
Гид и женщина
(Взаимопонимание, принесенное в жертву прямоте)
– Итак, мы на необитаемом острове. Пожалуйста, не толпитесь!
– Тише! Ничего не слышно! Послушайте, уберите с моей шеи свой фотоаппарат!
– Триста лет назад здесь высадился Робинзон Крузо.
– Кто высадился? Да помолчите вы наконец!
– Крузо высадился. Карл, Роберт, Уильям, Захар, Оливер…
– Мистер Оливер, говорите громче!
– Ну Крузо, Крузо. Робинзон Крузо.
– Ах, этот! Робинзон. И зачем же он высадился?
– Потерпел крушение.
– Какой ужас! С этими несчастными случаями хоть из дому не выходи! И что же – он потерпел крушение прямо на острове?
– Он высадился на острове.
– Ну, тогда еще ничего.
– Но на острове не было ни одного человека.
– Ни единого? Счастливый Робинзон! Послушайте, уберите свой фотоаппарат, не напирайте!
– Робинзон высадился на острове…
– Это мы уже слышали, что вы заладили одно и то же? Он высадился, ну, и где он стоял?
– То есть как – где он стоял? Мало ли где он стоял…
– Вы хотите сказать, что он стоял по всему острову?
– Он ходил по всему острову.
– И здесь тоже? Там, где я стою, он ходил? Послушайте, не толкайтесь, вы же видите: я здесь стою. Почему вы мне не отвечаете? Там, где я стою, он ходил?
– Это неизвестно. За ним никто не следил,
– Так-таки и никто?
– Пятница появился позже.
– Он тоже высадился на необитаемом острове? Хотя почему необитаемом, там же уже был Робинзон… Подумать только, всего один человек, да еще к тому же потерпевший крушение, и остров становится другим. Из необитаемого становится обитаемым. Что же дальше? Ну, остров стал обитаемым, и это сделал один человек. И что же дальше? Почему вы ничего не рассказываете?
– Я пытаюсь… Но у меня что-то не получается.
– Почему не получается? Разве вы на необитаемом острове? Когда человек на необитаемом острове, тогда ему, конечно, трудно рассказывать, а вам, мистер Оливер, нечего жаловаться на недостаток слушателей. Так что же делал Робинзон на этом необитаемом острове? Хотя почему необитаемом? Ведь Робинзон на нем уже обитал? Что же вы нам толкуете – необитаемый остров?
– Но он здесь жил один…
– Я тоже иногда бываю одна. Я даже люблю, когда никто не нарушает моего одиночества… Да не жмите же вы, не жмите! Велика невидаль – Робинзон! Ну, жил человек на острове. В Англии шестьдесят миллионов живут на острове – и ничего. Никто из этого не делает трагедии.
У врача
(Идеально прямая речь с добавлением авторской речи)
– Ну что ж, картина ясна. Нам нечего скрывать друг от друга.
Он загрустил. Возможно, у него тоже были свои неприятности.
– Это будет третий случай на моем участке.
– Разве это так много?
– Как считать. Конечно, все люди смертны, и по сравнению со всеми три – сущий пустяк. Но с нас за каждого спрашивают.
– Вас будут ругать из-за меня?
– Ничего не поделаешь, такая наша работа. Когда больной выздоравливает, это считается в порядке вещей, но стоит ему… так, как вы… и начинается…
– Не могу ли я что-нибудь для вас сделать?
– Вы шутите! Кто угодно, только не вы!
Больной готов был умереть от стыда за собственное бессилие.
– Да ладно, чего уж там… Вам вредно волноваться… Хотя, говоря откровенно, вам что волноваться, что не волноваться… Скажите «а-а!»
– А-а!
– Третий случай на участке…
ОБРАЗЦОВЫЙ ПОРТНОЙ
Жил-был Портной. У него было много различных дел, но все эти дела он умел уложить в одно слово.
На работе он порол одежду.
Дома порол детей.
А в компании порол всякую чушь.
Других слов для его занятий не требовалось.
Прослышало начальство, что Портной все свои дела укладывает в одно слово, и назначило Портного Старшим Портным, чтоб он и других научил экономии.
Работает Портной Старшим Портным. И опять укладывается в одно слова. На работе успевает петли метать, дома – на детей метать громы и молнии, да еще в компании метать банчок (теперь уже есть что метать: заработки получше стали).
Прослышало начальство про такие дела и выдвинуло Портного в Главные Портные.
Работает Портной Главным Портным. На работе стегает одежду, дома стегает детей. А что до компании, то компании у него теперь нет: Главному Портному остальные портные не компания.
Вот так он и теперь укладывается в одно слово.
Прослышало об этом начальство, само из начальства ушло, а Портного выдвинуло в начальство.
Работает Портной начальством. Дома почти не бывает: времени нет. Детей некому стегать, пороть некому: отец все на работе да на работе.
Строчит приказы.
Ему бы на машинке строчить, но он теперь строчит только приказы.
И на подчиненных мечет громы и молнии.
А уж на совещаниях – чего только не порет!
Правда, он и прежде чего только не порол, но тогда он хоть укладывался в одно слово.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВРЕМЕНИ
Назад, к природе, или вперед, к цивилизации? Время – круглое, как Земля. Этимологически оно означает: нечто вертящееся. У него общий корень со словом вертеться. Земля вертится. Время вертится. Недаром еще в древности говорили: вернуться на круги своя…
Круг времени…
К природе можно идти и вперед, и можно идти назад – даже к цивилизации.
Крылечко
Во дворе нашего современного многоэтажного здания приютился старенький домик с крылечком, какие были еще в те времена, когда высотных домов и в помине не было. Мы любим смотреть на этот домик с крылечком. Когда мы смотрим на него, нам кажется, что мы и сами живем в этом домике, сидим на его крылечке, ходим босиком по его земле, по настоящей земле, а не по асфальту.
Особенно интересно смотреть, как из трубы домика идет дым. Сначала он посидит на трубе, как птица перед полетом, а потом начинает подниматься – все выше и выше, бледнея от высоты…
И мы тревожимся: а вдруг снесут этот маленький домик с крылечком? Кто будет у нас стоять на земле? Не на асфальте, а на земле? И кто будет у нас взлетать к облакам, посидев на трубе перед полетом?..
Без крылечка мы – как без крылышка: и высотные, и многоэтажные, а крылышек – не хватает…
Животные – значит: живые
Кто-то может подумать, что животные – это те, у которых живот. Есть живот – значит, ты животное.
Но, между прочим, «живот», который в наше время обозначает определенную, иногда компрометирующую нас часть тела, когда-то обозначал «жизнь». И тогда он, конечно, никого не мог скомпрометировать. Жить не стыдно, а скорее даже наоборот. Жить почетно. Хотя, конечно, жить можно по-разному.
И вот именно в тот, почетный, период слова «живот» от него образовалось слово «животные». Животные – это те, которые живут. Почетно живут. Хотя и почетно жить тоже можно по-разному.
Животные как будто всю жизнь играют в горелки: одни убегают, другие догоняют. Но при игре в горелки сначала ты догоняешь, а потом догоняют тебя. У животных так не бывает. Если сначала волк догоняет зайца, то это не значит, что потом заяц будет догонять волка. Тут другое правило: тот, кого догнали, навсегда выбывает из игры.
Поэтому тем, кого догоняют, нужно быстро бегать, чтобы не выбыть из игры. Это трудно. Не всегда знаешь, кто тебя догоняет, и приходится убегать от всех.
Тут такое правило: один от всех убегает, а другой всех догоняет. Заяц убегает от волка, лисы, собак, а волк догоняет зайца, козла, оленя. Попробуй-ка от всех убежать. Поэтому приходится развивать очень большую скорость.
Но, конечно, если бы все убегающие развивали скорость, какую не могли бы развить те, кто их догоняет, это было бы не по правилам: их тогда никто не смог бы догнать. Поэтому и догоняющие научились бегать с очень высокой скоростью. Правда, на короткие дистанции.
Те, которые догоняют, бегают очень быстро, но только на короткие дистанции. Это называется: спринт. А те, которые убегают, развивают хоть и не такую большую скорость, но зато на длинные дистанции. Это называется: марафон.
А почему бы и тем и другим не бегать на одни и те же дистанции?
Потому что, превосходя убегающих скоростью, догоняющие в конце концов догнали бы всех и больше догонять было б некого.
Вот почему показатели в скоростном беге среди животных распределяются так: догоняющие – чемпионы в спринте, убегающие – в марафоне. Потому что догонять приходится время от времени, а убегать – иногда всю жизнь. Весь этот самый «живот», от которого происходит слово «животные».
Конечно, она утомляет, эта игра в горелки.
Но, с другой стороны, не хочется выбывать из игры.
Бег
Я бежал по первой дорожке.
По второй бежало солнце, по третьей ветер, по четвертой – веселый весенний шум…
А по пятой дорожке бежало время…
На первом этапе мы с ветром вырвались вперед. Мы от лихости свистели в два пальца, как разбойники, и в леса свистели, и в улицы, и в подъезды встречных домов. А солнце жарко дышало нам в спину, и веселый шум наполнял наши уши, и только время бежало тихо – так тихо, что мы и не знали: бежит оно или не бежит?
На втором этапе ветер начал ослабевать, и мы уже свистели не так оглушительно, и солнце не дышало так жарко – тоже начало отставать. И в утихающем шуме все отчетливей слышалось ровное и сухое дыхание времени: тик – выдох, так – вдох, тик-так, выдох-вдох…
Оно догоняло нас…
Солнце отстало совсем, и по его дорожке бежали ночные холодные звезды.
Стало совсем тихо, только время тикало позади.
Позади ли?
Оно уже впереди, и все громче, слышней его сухое, ровное тиканье…
И где-то, далеко впереди, снова солнце. Сперва отстало, а теперь его не догнать.
Но время всех догонят. Время умеет бежать. Сначала тихо, неслышно, экономя силы для финиша. А потом все быстрее…
Время умеет бежать.
Да и что ж ему не уметь? Ведь оно, кроме этого, никаких забот не имеет.
Память о птице Моа
Память о великой птице Моа сохранилась только в названии островов, на которых сама птица Моа никогда не бывала. Она жила в Новой Зеландии, за тысячи километров от островов Самоа.
Самоа… Они называются так в память о птице Моа.
Канарейку назвали канарейкой в честь Канарских островов, и никого не смущает, что Канарские острова означают буквально Собачьи, и, таким образом, Канарейка – это, в сущности, Собачейка. Одно дело, когда птицу называют в честь острова, и совсем другое дело, когда остров называют в честь птицы. Это должна быть великая птица…
Она была великой. Она была ростом почти со слона. И, конечно, ею заинтересовались охотники. Охотники предпочитают иметь дело с большими, потому что в больших легче попасть.
Но птица Моа не улетела, когда на нее стали охотиться. Во-первых, она не хотела покидать свою родную Новую Зеландию, во-вторых, она просто не знала, куда от этих охотников улететь, а в-третьих, птица Моа не умела летать… Ведь она была ростом почти со слона, а слоны, как известно, не летают.
Слоны не летают, они не могут никуда улететь, поэтому их на земле все меньше и меньше.
А птицы Моа совсем не осталось на земле. Только память о ней сохранилась. Правда, не в родной Новой Зеландии, а на далеких островах Самоа.