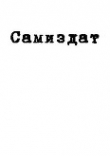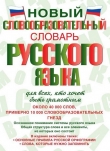Текст книги "Принцесса Грамматика или Потомки древнего глагола"
Автор книги: Феликс Кривин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
СУДЬБА ВЕРБЛЮДА
Давно было сказано: «Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко…» – а между тем он, верблюд, проходить сквозь ушко даже и не пытался. Канат, возможно, пытался и до сих пор не теряет надежды, старается, хотя никто этого не замечает. Все видят, что верблюду трудно пройти сквозь игольное ушко, и никто не видит, как трудно канату.
Дело в том, что в греческом языке верблюд и канат очень похожие слова, а если судить только по словам, то, конечно, можно принять канат за верблюда. Потом иди доказывай, что ты не верблюд.
Д когда, отдав все до ниточки, истончившись до ниточки, осуществишь наконец дело всей своей жизни, пройдешь сквозь игольное ушко – лавры достанутся не тебе, а верблюду. О нем будут говорить, что он добился этого своим горбом, своими мозолями (не зря в зоологии его относят к отряду мозоленогих).
И теперь тебе придется доказывать, что ты и есть тот самый верблюд, что это ты, ты прошел сквозь ушко своим горбом и мозолями…
Все относительно просто, пока не выходишь за пределы пословицы и поговорки. «На ловца и зверь бежит». Прекрасно! Особенно если не очень страшный зверь и ловец не робкого десятка. «Тише едешь – дальше будешь». Пословица призывает не только не спешить, но и не очень шуметь о своем движении. Из такой пословицы и выезжать не захочешь. «Не боги горшки обжигают». Это и вовсе отличная пословица. В такой пословице можно век жить – не тужить. С одной стороны, горшки обжигают не боги, значит, работа не требует особого мастерства. А с другой стороны – и о качестве нечего спрашивать: ведь обжигают горшки – не боги!
Да, внутри пословицы все обстоит хорошо. По крайней мере, так видится поверхностному взгляду.
«Я увидел ее и остановился как вкопанный. Я влюбился по уши и предложил ей: «Давайте сядем, в ногах правды нет».
И все было прекрасно, и никто не вспомнил, что в ногах правды нет потому, что в старину добывали эту правду под пытками, больно ударяя людей по ногам, а как вкопанные мы останавливаемся, напоминая тех, которых заживо закапывали в землю. По уши закапывали – тут уж было не до любви!
Но внешне в пословице все обстоит хорошо. Если, с одной стороны, не углубляться в нее, а с другой – не выходить за ее пределы. А стоит выйти – и она совсем по-другому зазвучит.
«Работа не волк, в лес не уйдет… не надейся». Только что мы утешались тем, что работа в лес не уйдет, и вдруг утешение обернулось разочарованием. Оказывается, когда мы не торопились с работой и утешали себя тем, что в лес она не уйдет, втайне мы все же надеялись: а вдруг уйдет? Вдруг работа, как волк, уйдет в лес, и мы, таким образом, избавимся от работы?
«Дети – цветы жизни… а ягодки будут впереди». Этот мостик в другую пословицу открывает истину, неизбежную в жизни. Но даже мысль о будущих ягодках не изменит нашего отношения к цветам, не заставит нас, выражаясь пословицей, выплескивать вместе с водой ребенка…
«Ребенок, которого выплеснули вместе с водой… постепенно рос и становился на ноги». Напрасные усилия – выплеснуть ребенка с водой. Сколько его ни выплескивай, он все равно станет на ноги и призовет нас к ответу. И зря мы надеемся уйти от ответственности за то, что мы выплескиваем вместе с водой для собственного спокойствия, благополучия или карьеры. Они растут вокруг нас – наши выплеснутые мысли, дела, добрые начинания. Выращенные другими – дети наши, выплеснутые вместе с водой…
И не нужно утешаться пословицей, что «нет худа без добра». Иначе на худо уйдет все наше добро и на добро добра не останется.
Неуютно и тревожно за пределами прописных истин, в том числе и лучших из них, пришедших в нашу жизнь как пословицы.
ИЗМЕНЕНИЕ ВО ВРЕМЕНИ
«Изменение языка во времени и составляет самое существование языка…»
В этих словах Фортунатова точно выражена не только природа языка, но и природа самого человека. Изменение во времени… Потому и изменяется наш язык, что он должен поспеть за изменением человека во времени.
Он поспевает. И всегда точно соответствует уровню человека в данный период его изменения. В период расцвета – цветет, в период оскудения – скудеет.
Потому так важно к себе прислушиваться: не скудеет ли наш язык? Не становится ли он бедней, чем был язык наших предков?
«Прекрасный наш язык, под пером писателей неученых и неискусных, быстро клонится к падению», – писал Пушкин в 1836 году. Достоевскому было 15 лет, Островскому – 13, Салтыкову-Щедрину – 10, Льву Толстому – шутка сказать: Льву Толстому! – всего-навсего 8 лет… Русский язык был на подъеме, но тревожному взгляду Пушкина казалось, что он клонится к падению.
Впрочем, время тоже не всесильно, и не все в этом мире зависит от времени. Профессор Стороженко характеризовал юному Шахматову двух корифеев тогдашней филологии: Буслаев – человек очень увлекающийся и поэтический, он благодарен за всякое указание на ошибки, за всякую критику. Фортунатов же совершенно противоположен, сухой, математически точный и никогда не увлекается.
Фортунатову в то время был 31 год.
Буслаеву – 61.
Что же касается Бодуэна де Куртенэ, то он увлекался до восьмидесяти четырех лет, до последнего года своей жизни, хотя, по выражению Виноградова, «никто из лингвистов последней трети XIX века и начала XX века не подвергался таким издевательствам и даже преследованиям, как он».
РАЗГОВОР О ПОГОДЕ
В русском языке нет твердого, незыблемого порядка слов, но если уж с чего начинать, то прежде всего желательно определить место и время.
НА УЛИЦЕ ШЕЛ ДОЖДЬ…
Это не просто банальный разговор о погоде. Это пример того, что обстоятельству места легко занять в предложении первое место.
Но – до поры до времени.
ВЧЕРА НА УЛИЦЕ ШЕЛ ДОЖДЬ…
Речь опять-таки не о погоде, а о том, что появилось обстоятельство времени и отодвинуло обстоятельство места на второй план.
Так обычно бывает. Даже обстоятельство места не может сохранить своего места в предложении. А если сохраняет – то лишь до поры до времени. Придет время, точней, обстоятельство времени, – и все прежние обстоятельства отодвинутся на второй план.
СПАСИБО ВАМ!
Учитель – всегда ученик. Особенно если он преподает в вечерней школе, где ученики старше его по возрасту и имеют более солидный жизненный опыт. Ученицы будут относиться к нему по-матерински, а ученики попытаются даже воспитывать. Дескать, не так все просто в жизни, как это в книжках написано, и если хочешь жить по литературе, нахватаешь синяков.
Им захочется уберечь своего учителя от синяков, просветить его своим опытом, но, конечно, не всяким: до иного опыта нужно дожить, для него требуется соответствующий возраст. И, сознавая это, они будут стесняться отвечать на уроках со всей откровенностью и о программных вещах будут говорить как о произведениях, которые их учителю еще рано читать.
Но не только в этом случае учитель – всегда ученик. Когда он перестает быть учеником, он перестает быть и учителем.
Сорокапятилетний профессор Бодуэн де Куртенэ брал уроки армянского языка у одного из своих студентов. Одновременно он изучал латышский, эстонский и арабский языки, слушал курс патологии речи и брал уроки высшей математики.
Федор Евгеньевич Корш, о котором говорили, что он один заменяет целый восточный факультет, Корш, который писал стихи не только по-русски и по-украински, но также по-гречески и по-латыни, Корш, который вступал в разговор с человеком, не зная его языка, и изучал язык в процессе разговора, – Федор Евгеньевич Корш, уже будучи престарелым академиком, изучил по учебнику грамматики венгерский язык, да так, что с успехом переводил Петефи.
А Федор Иванович Буслаев (который, обучая болгарина русскому языку, попутно выучился у него болгарскому и сербскому) говорил своим ученикам:
– Какие же вы ученики? Да мы вместе учимся, мы соученики; вы только младшие мои товарищи.
Если вы работаете в вечерней школе, трудность заключается в том, что младшие ваши товарищи одновременно старшие ваши товарищи, и вам особенно часто придется повторять любимую буслаевскую фразу:
– Спасибо вам, вы меня научили!
Представьте, что вы даете на почте телеграмму и, подсчитав стоимость текста, обнаруживаете нехватку двух копеек. Как в этом случае поступить?
И тогда, после мучительных сомнений, вы решитесь на страшное преступление: напишете слитно то, что по всем правилам должно писаться раздельно.
В конце концов – бывают же исключения. В самой грамматике – вон сколько исключений! Конечно, данное исключение в грамматике не зафиксировано, но оно продиктовано самой жизнью. А жизнь – это вам не грамматика: здесь либо пиши, как требуют обстоятельства, либо выкладывай две копейки.
Вы уже смирились с этой жизненной философией. Вы уже написали слитно – допустим, с глаголом частицу «не» – и вдруг, подойдя к окошку, обнаруживаете, что телеграммы принимает ваша ученица. Отличница!
Да, вы похолодеете, представив, что она вам сейчас скажет.
– Что же это вы, уважаемый? Нас учите, а сами пишете как?
Или еще того хуже:
– Нас учите, а сами готовы ради каких-то жалких копеек пожертвовать самым святым?
Ну, самым святым – это слишком. Так не скажет даже отличница. Она скажет проще и конкретней:
– Нас учите, а сами готовы за копейку продать правописание частицы «не» с глаголами?
Пусть вы, учитель, младше своих учеников, пусть они относятся к вам, как к младенцу, но, во всяком случае, как к младенцу, устами которого глаголет истина. И не просто истина, а истина, предусмотренная программой.
Понимая это, вы возьмете новый бланк и перепишете текст наново. Вы напишете частицу «не» на приличном расстоянии от глагола, но, отделившись от глагола, она потребует отдельных затрат (как это бывает с детьми, отделившимися от родителей). И, чтобы ее оплатить, вам придется (по примеру тех же родителей) пожертвовать очень важным, быть может, самым важным во всем тексте словом: «Целую».
– Спасибо вам, вы научили меня!
А позднее, когда время будет приближаться к экзаменам, к вам подойдет коллега-физик и предложит по дороге домой зайти выпить по кружке пива. Какое пиво в одиннадцать часов вечера? Оказывается, здесь неподалеку есть буфет, который работает до двенадцати. В вашем распоряжении целый час.
Буфет, как вы и ожидали, будет закрыт.
– Одну минуточку! – скажет коллега-физик и постучит – тихонько, так, чтоб в соседних буфетах не услышали.
Дверь неслышно отворится и затворится, и за столом, уставленным бутылками, вы увидите своих учеников.
Им будет неловко. На какой путь они толкают своего младшего товарища? Начнет ходить по буфетам, продавать достоинство учителя за стакан вина. Плохо это для него кончится. Но без этого тоже нельзя. Экзамены на носу, придется писать сочинение. Что же лучше – принести в жертву одного учителя или целый коллектив? Да, с педагогическими церемониями пора кончать, здесь требуется хирургическое вмешательство.
– Выпьем, дорогой наш учитель! – скажет незнакомый вам человек, поднимая стакан с вином, как хирург поднимает скальпель.
Как ни странно, он, этот хирург, окажется вашим учеником. Просто вы до сих пор не имели случая встретиться, но фамилию его регулярно зачитывали во время переклички.
Вы выпьете, но от этого не исчезнет неловкость. Даже веселый физик не будет находить слов.
– А вот интересно: почему «вдвоем», «втроем», даже «вдесятером» пишется слитно, а «в компании» – раздельно? – спросит какой-нибудь двоечник, явно выслуживаясь перед вами.
Но даже родная тема не развяжет вам язык. Вам будет неуютно в этой малознакомой компании. Тех учеников, которых вы привыкли видеть на уроках, здесь не окажется, – разве что те, которых, право же, лучше не видеть…
Расходясь, вы разделитесь на две группы: физиков и лириков. Физики, не доверяя этой серьезной науке, пойдут провожать вашего коллегу, а вас пойдут провожать лирики – двоечники русского языка.
И опять разговор не будет клеиться. Кто-то затронет тему лишнего человека, но его не поддержат. Тема романтизма раннего Горького тоже повиснет в воздухе. Даже в этих программных темах будет звучать что-то незаконное, словно это какая-то уголовная литература.
И эти темные переулки, по которым вас ведут к вашему дому… Встречные прохожие испуганно жмутся к домам, словно чувствуя противозаконность этой компании. Такой большой компании в такую темную ночь…
Учитель всегда ученик. Но нужно что-то сказать на прощание… Что тут можно сказать?
– Спасибо вам, вы меня научили.
СОЕДИНЕННЫЕ ПАМЯТЬЮ
Они неразлучны в нашей памяти – Мелетий Смотрицкий и Леонтий Магницкий, хотя жизни прожили разные и никогда не встречались друг с другом. Смотрицкий родился при Иване Грозном, за сто лет до рождения Петра (умер он через сто лет после рождения Грозного), а Магницкий был сподвижником Петра и родился спустя сорок лет после смерти Смотрицкого.
Каждый из этих двух людей считал главным делом своей жизни не то, которое впоследствии запомнилось потомкам. Магницкий двигал вперед высшую (по тем временам) математику, Смотрицкий писал пламенные богословские трактаты, от которых впоследствии отрекался, участвуя в их публичном сожжении, а затем отрекался от сожжения и писал новые пламенные трактаты.
А потомкам запомнились «Арифметика» Магницкого и «Грамматика» Смотрицкого.
Правда, грамматика была церковнославянская, а одно из основных правил арифметики предписывало «множить первое предположение на второе отклонение и второе предположение на первое отклонение», но ведь путь к истине всегда состоял из предположений и отклонений… Хотя, как в любой задаче с расстоянием между двумя городами, путь к истине является одновременно путем от истины. И если богословская деятельность Смотрицкого была путем от истины, то своей «Грамматикой» он сделал шаг к истине, открытой спустя столетия в трудах Фортунатова, Шахматова, Потебни…
«Грамматику» Смотрицкого и «Арифметику» Магницкого Ломоносов назвал вратами своей учености (поскольку ученость была огромная, соответствующими были и врата); он соединил Магницкого и Смотрицкого на вечные времена, отодвинув на второй план все их дела, кроме грамматики и арифметики.
«Грамматики словенския правильно синтагма по тщанием многогрешнаго мниха Мелетия Смотрискаго»…
Многогрешен был мних. Но все грехи отпустила ему его «Грамматика».
СЛУЖЕБНЫЕ
Опасно подниматься на такую вершину грамматики, чтобы оттуда казались мелочью служебные слова.
К примеру, предлог В. Среди всех слов он – самый употребительный. Без него ни В одиночку, ни В компании, ни В полдень ясный, ни В темную ночь, ни В путешествие отправиться, ни остаться В четырех стенах. Без него ни В кого не влюбишься, без него ни В школу, ни В институт, без него и В люди не выйдешь – ни В повара, ни В профессора… Даже В дураках без него не останешься… Вот тебе и служебное слово…
Служебные слова вообще встречаются чаще других – такая у них служба. Из самостоятельных чаще всего встречается местоимение Я, и это попятно: ведь сколько людей на земле, столько Я. И каждому надо высказаться.
Служебные слова сами не высказываются, но зато помогают высказываться другим. Допустим, кто-то говорит:
– Все, что ни делается, то к лучшему.
А другой уточняет:
– Все, что не делается, то к лучшему.
Ведь это, согласитесь, существенное уточнение. И кто его вносит? Частицы – служебные слова.
Или другой пример, тоже из жизни. Было не однажды замечено, что некоторые родители уходу ЗА ребенком предпочитают уход ОТ ребенка.
Лицемерно похожие существительные – уход и уход, но зато – ЗА и ОТ – откровенно различные предлоги.
Когда молчат существительные, говорят служебные слова. Но правда все равно будет сказана.
Для этого только нужно так расставить буквы, чтоб они обозначали слова.
А слова нужно так расставить, чтоб они обозначали мысли.
А мысли нужно так расставить, чтоб они открывали, а не закрывали путь к истине.
А истины нужно так расставить, чтоб они помогали, а не мешали нам жить.
ВСЕГДА РЯДОМ

Слова тоже привыкают друг к другу. Когда их часто употребляют рядом, они до того привыкают друг к другу, что их уже трудно бывает разделить. Некоторые из них вообще не могут отдельно существовать, а только в компании с единственным полюбившимся словом.
Хорошо, когда кто-то без кого-то не может существовать, но надо же сохранять и собственное значение. Самостоятельное значение. А не так, как БАКЛУШИ в выражении БИТЬ БАКЛУШИ: если их не бить, то от них вообще толку не добьешься.
А вот ЛЯСЫ не бьют, ЛЯСЫ ТОЧАТ. КАНИТЕЛЬ не бьют и не точат – ТЯНУТ КАНИТЕЛЬ. А ТУРУСЫ – РАЗВОДЯТ, причем, непременно НА КОЛЕСАХ. На колесах, а разводят, хотя на колесах привычнее развозить.
Странные бывают между словами отношения. Посмотришь на иную пару – ну как они только могли сойтись? СОБАКУ СЪЕЛИ, СВИНЬЮ ПОДЛОЖИЛИ, а разве не естественней было СВИНЬЮ – СЪЕСТЬ, СОБАКУ – ПОДЛОЖИТЬ, чтоб уже заодно знать, где эта СОБАКА ЗАРЫТА? Но, как говорится в пословице, не по хорошу мил, а по милу хорош. Как встретишь такое, по милу хорошее, так и бросишься очертя голову. Именно голову, потому что-что еще можно ОЧЕРТЯ? Ничего нельзя, только ГОЛОВУ…
НЕКОРОНОВАННОЕ СЛОВО
Гарпократ, старинный бог молчания, изображался ребенком в короне и с рогом изобилия в руках. Рог изобилия символизировал богатство: хочешь быть богатым – не давай воли языку. Корона символизировала власть: хочешь властвовать над людьми – не доверяй им своих тайных помыслов. А ребенком изображался бог молчания в знак того, что лишь умеющему молчать принадлежит будущее.
От бога – молчание, слово – от человека. У древних не было бога красноречия, хотя и у них были свои Демосфены. Человек неотделим от слова, и Демосфену пришлось принять яд, чтобы научиться молчанию.
Священный бог молчанья,
Которому, увы! невольно я служу!
Несчастлив я и счастлив,
Что на устах моих печать твою держу, —
писал Востоков, молчавший вынужденно, в силу своего врожденного физического недостатка.
Люби свой путь, гордись сознаньем,
Что в строгой с жизнию борьбе
Всегда ты верен был себе
И словом твердым, и молчаньем, —
писал Грот, знавший, когда говорить, а когда молчать.
Молчание бывает разным, как и слова. Оно бывает трусливым и мужественным, добрым и жестоким, добровольным и вынужденным… Было когда-то блюдо – «соловьиные язычки»… Чтобы насытить одного гурмана, сколько ж это соловьев надо было заставить замолчать! Как часто Слово как раз и бывает причиной молчания…
Некоронованное Слово, не сулящее ни бессмертия, ни богатства, Слово, лишенное покровительства богов, разделяет трудную судьбу человека. И, подобно человеку, оно бывает и лживым, и лицемерным, и корыстным, и даже предательским, – но только оно способно выразить Мысль, поднимающую человека над беспредельным царством Молчания…
САМАЯ ДОРОГАЯ БУКВА
По наблюдению Соболевского, буква Ъ хранит молчание примерно с XIII века. До XIII века ей было что сказать, а с XIII она замолчала.
Нет, она регулярно посещала собрания букв…
ЖИЛЪ-БЫЛЪ КОТЪ, ОНЪ ЕЛЪ БУТЕРБРОДЪ… но занимала место где-нибудь в самом конце и – помалкивала.
Это с XIII-то века!
За это время у нас многое произошло. Появились новые слова, старые вышли из употребления. Книжки стали печататься. А буква Ъ об этом – молчок… А может, она молчок совсем не об этом? Мало ли о чем можно с XIII века молчать!
Осип Иванович Сенковский, известный также под именем Барона Брамбеуса, очень сердился на букву Ъ: «Пагубнее всех и всего этот тунеяд Ъ… на хвосте русских слов: он пожирает более восьми процентов времени и бумаги, стоит России ежегодно боле 4 000 000 рублей, – а какую приносит ей выгоду или честь?»
Не каждый, кто много стоит России, приносит ей честь, этого Осип Иванович не учитывал. Но, с другой стороны, за такие деньги можно что-то сказать. Хоть звук проронить…
Теперь понятно, почему буква Ъ с XIII века молчит: для нее молчание – чистое золото.
КТО СКАЗАЛ «Э»?
Спор между Бобчинским и Добчинским, кто первый сказал «Э!», мог бы не возникнуть совсем, если бы за сто лет до них другой спор имел другое завершение. А именно, спор о том, нужно ли вообще сохранять в русском языке это «Э». Может, сохранить ето «Е» и етим ограничиться?
В борьбе против буквы Э объединились представители различных грамматических направлений: Ломоносов, Сумароков и Тредиаковский. В восемнадцатом веке писатели были одновременно и языковедами – приходилось самим укладывать рельсы, чтобы потом вести по ним поезда.
О других буквах спорили: исключить или оставить. О букве Э спора не было: исключить.
И вот Фита, в отношении которой мнения разошлись, исключена.
Ять, в отношении которого мнения разошлись, исключен.
А буква Э, которую единогласно приговорили к исключению, осталась.
Э оборотное… Оно сохранилось, как ни брали его в оборот.
Возможно, это показалось подозрительным издателю С.-Петербургских Полицейских Ведомостей, и он спустя сто лет, в 1852 году, потребовал исключения Э оборотного.
Но вмешательство полиции не помогло. Больше того: стали раздаваться голоса о необходимости ввести другие оборотные буквы. Например, Г оборотное, с палочкой налево. Т оборотное, с перекладиной внизу.
Предложение несерьезное, надо прямо сказать, издевательское, но – в грамматике чего не бывает.
Замолчали Полицейские Ведомости. Оставили в покое оборотное Э.
Хотя – какой в грамматике покой? Все равно кто-то пишет вместо Э – Е, кто-то И, и кто-то даже А (вместо «элементы» – «алименты»).
Хотя, конечно, сейчас уже не то время, о котором писал Карамзин: «В целом государстве едва ли найдешь человек сто, которые совершенно знают правописание».