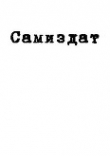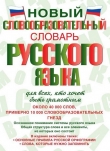Текст книги "Принцесса Грамматика или Потомки древнего глагола"
Автор книги: Феликс Кривин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
ЕЩЕ ОБ ИМЕНАХ
Почему Дантес известней Мартынова? Неужели лишь потому, что убийца въезжает в историю на плечах своей жертвы, а плечи Пушкина в нашей литературе несколько выше, чем плечи Лермонтова (хотя и плечи Лермонтова достаточно высоки)?
Не только поэтому. Помимо других, возможно, более существенных обстоятельств, определенную роль сыграло и то, что фамилия Мартынов слишком распространенная, чтобы стать нарицательной для обозначения убийцы. Всякий раз придется уточнять:
– Это какой Мартынов? Меньшевик? Астроном? Поэт?
О Дантесе ничего не нужно уточнять. Нет в России другого Дантеса.
Фамилия, ставшая нарицательной, не терпит однофамильцев. Поэтому предположение Пушкина, что Чаадаев «в Риме был бы Брут», нередко понимается так, что Чаадаев, будучи в Риме, непременно убил бы Цезаря. Между тем у Пушкина-речь совсем о другом Бруте: не о Марке Юнии, а о Люции Юнии, жившем примерно за пятьсот лет до Марка.
Люций Брут, один из основателей Римской республики, фигура в истории Древнего Рима заметная, но ее заслонила фигура Марка Брута. Потому что убийство Цезаря легче запомнить, чем борьбу римлян против этрусского господства, свержение Тарквиния Гордого и множество других полезных для республики дел. И, конечно, немалую роль здесь сыграла крылатая фраза: «И ты, Брут?» – сказанная много столетий спустя одним из героев Шекспира.
Никому не известные имена легко уживаются в одном тексте. Известным трудней. Больно видеть, как они, чужие и несовместимые, живут в нем, втайне ненавидя друг друга, но подчиняясь общему смыслу, которому призваны служить.
Разве можно спокойно читать эту фразу: «Сестры Наталья Гончарова, в замужестве Пушкина, и Екатерина Гончарова, в замужестве Дантес…»?
ИМЕНА И МЕСТОИМЕНИЯ
Местоимение заменяет имя, но собственного имени у него нет. Приходит время – и никто не вспомнит, какое имя оно заменяло. Но если мысль, выраженная общим текстом, не умерла, если ее читают спустя столетия, то в этом заслуга не только имен, но и безымянных местоимений…
Имена ведь тоже забываются. И вспоминаются – забытые при жизни. У каждого имени две судьбы: прижизненная и посмертная.
Генрих Лудольф… Кому это имя что говорит? А ведь оно принадлежит автору первой русской грамматики. Не церковнославянской (как грамматики Зизания и Смотрицкого), а русской, написанной за шестьдесят лет до «Российской грамматики» Ломоносова.
Замечательный советский лингвист Борис Александрович Ларин, издавший в 1937 году грамматику Лудольфа, пишет в предисловии к ней: «Как оценен был труд Генриха Лудольфа в России? На этот вопрос можно ответить коротко: большинство русских лингвистов со второй половины XVIII века и до наших дней или вовсе не знало о нем, или не обращалось к этому важному источнику, а те, кто заглядывал в книгу Лудольфа, не оценили ее по достоинству». И дальше профессор Ларин приводит отзывы о грамматике Лудольфа за истекшие два с половиной века, «чтобы продемонстрировать непроницательность и националистическое высокомерие «отечественной» критики».
Может быть, это и не высокомерие. Просто считалось, что не может нерусский человек написать русскую грамматику. Такие же обвинения предъявлялись в начале нашего века академику Гроту, в котором, по словам А. А. Шахматова, «наш язык нашел… неутомимого исследователя». Автор, уличивший Грота в его немецком происхождении, пишет: «Чутья к русскому языку у него в детстве сложиться не могло, тем более, что он был окружен то полунемцами, то простыми прислугами».
Последние слова недвусмысленно говорят о том, что националистическое высокомерие тесно связано с высокомерием социальным.
В предисловии к своей «Грамматике» Лудольф писал: «Так как я не страдаю таким смешным честолюбием, чтобы искать славы в грамматических работах, то мой покой не смутят суждения тех, кто жаждет проявить свои таланты не в исследованиях, предпринятых на общую пользу и в меру своих сил, а в нападках на других авторов».
Он писал в этом предисловии, что если русские будут писать на живом народном наречии, то они создадут свой язык и будут писать на нем хорошие книги.
Это было сказано в 1696 году. Великий русский язык создан. Хорошие книги на нем написаны. Так стоит ли забывать о том, кто предсказал это величие русскому языку, кто, может быть, и не вполне владея этим языком, написал первую его грамматику?
Я, МЫ, ОНИ
Местоимение МЫ легко заменяет местоимение Я, а также местоимения ТЫ и ВЫ, когда нужно у кого-то спросить:
– Как мы себя чувствуем?
Или написать в научной работе: «Мы считаем. Мы полагаем». Хотя, кроме нас, ни один человек не станет этого ни считать, ни полагать.
А что заменяет местоимение Я?
Правда, иногда оно пытается заменить другие местоимения, заявляя:
– Я строил город.
Вместо того, чтоб сказать:
– Мы строили город.
Или:
– Вы строили город.
Или даже еще более откровенно:
– Они строили город.
Но это неправильно.
Грамматика учит, что не может Я заменять другие местоимения.
Я – это всегда только Я.
ТОМАС ПЕЙН, НАПОЛЕОН И АЛЕША ШАХМАТОВ
Я – это всегда только Я, хотя иногда пытается заменить другие местоимения. Самолюбие местоимений – тема, еще не исследованная, но уже накопившая богатый материал.
Томас Пейн, известный в свои времена публицист, был участником трех революций: американской, английской и французской. Тут бы ему и остановиться, как остановился на одной революции его современник. Остановился – и стал Наполеоном. А Томас Пейн, герой трех революций, уехал в свою Америку умирать в нищете.
Это он, Томас Пейн, сказал знаменитую фразу: «От великого до смешного один шаг…» Тут бы ему и остановиться, как остановился повторивший эту фразу Наполеон, но Томас Пейн продолжил свою мысль: «…но следующий шаг может сделать смешное великим».
Наполеон не повторил этого продолжения.
Он уже не помнил, как стал великим, перестав быть смешным.
Что-то в этом Наполеоне уловил гимназист Алеша Шахматов, потому-то он и писал сестре: «Не знаю, как ты, Женя, но я нахожу, что Наполеон не был великий человек, а стоит даже ниже Александра Македонского. Все его победы суть не им одержанные, но духом времени, народом французским…»
Даже ниже Александра Македонского! Какое унижение для Наполеона!
ДВЕ НЕСООБРАЗНОСТИ
Академик А. И. Соболевский в «Лекциях по истории русского языка» считает, что мужчина должен быть мущиной, поскольку происходит от древнего мужьщины – с тем же суффиксом – щин-, который мы наблюдаем у женщины. А. И. Соболевский утверждает, что суффикса – чин– здесь быть не может, откуда же у нас возьмется мужчина?
В недостаточно осведомленных кругах делались попытки рассматривать – чин– в слове мужчина как хорошо известный всем корень, а первой части – муж – отводить чуть ли не роль приставки. Дескать, главное не муж, а чин. Такое толкование приучает видеть в мужчине совсем не главное, а самих мужчин выдвигать на первый план свою вторую часть, пренебрегая исконной и древней первой. Мудрено ли, что мужество в результате у нас пропадает, а вместо него появляется чинопочитание?
Не потому ли сейчас никто не пишет мущина, как предлагал академик Соболевский, что мораль оказывает давление на грамматику?
А как мы понимаем риск? Как мужчины понимают риск?
Этимологический словарь объясняет: рисковать – буквально «объезжать утес, скалу». Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет – вот что такое риск для современного мужчины.
Был бы он мущиной, а еще лучше – мужьщиной, как в древние времена, и все было бы совсем по-другому. Был бы у него суффикс – щин-, не претендующий на роль корня, а корнем был бы муж, означающий мужество, то есть самое главное у мужчины.
СОБСТВЕННЫЙ СТИПЕНДИАТ
Неужели это так смертельно? Мозг перерождается в жировое вещество… У скольких людей мозг перерождается в жировое вещество, а их считают практически здоровыми. Разжиревшими, но здоровыми. Отупевшими, но здоровыми. Равнодушными, ленивыми, бессердечными, но здоровыми, практически – совершенно здоровыми…
Николай Крушевский никогда не был здоровым человеком. Но он был мыслящим человеком – с чего бы это его мозгу перерождаться в жировое вещество?
Он был беден. Подобно своему учителю, знаменитому Бодуэну де Куртенэ, он трудился всю жизнь ради куска хлеба. Зачисленный в Казанский университет в качестве сверхштатного профессорского стипендиата без стипендии, он существовал со своей семьей на средства, которые специально ради этого в течение трех лет зарабатывал в уральском городе Троицке. Он был собственным стипендиатом, он работал, трудился – с чего бы это его мозгу перерождаться в жировое вещество?
Двадцати семи лет он пришел в Казанский университет стипендиатом без стипендии, а тридцати пяти лет вышел в отставку. «Как быстро я прошел через сцену!» – сказал он в минуту просветления.
Последние два года он провел в Казанском доме для душевнобольных, забывая постепенно все, чему научился… Дольше всего он помнил свою науку – лингвистику…
Его учитель, глава Казанской лингвистической школы профессор Бодуэн де Куртенэ, написал о нем большую статью. Учитель пережил ученика на сорок два года.
Это, конечно, патология. И то, что учитель переживает ученика, и то, что живой, активный, талантливый мозг перерождается в жировое вещество, – это патология.
Другое дело – мозг застывший, зачерствевший, разжиревший… Когда такой мозг превращается в жировое вещество – это естественно, и человека можно считать практически здоровым. Безнадежным, но здоровым…
Николай Крушевский пытался читать книги в лечебнице для душевнобольных. Накануне своей кончины он боялся отстать от науки.
ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ХАРЬКОВА В МОСКВУ
У слова две формы и одно содержание, утверждал Александр Афанасьевич Потебня. Внешняя форма – звучание слова, внутренняя форма – его буквальное значение. А содержание – его истинное значение в тексте.
Вот Потебня рассказывает, как по пути от Харькова до Московской губернии кондуктор четырежды «бил зубы ямщикам».
И дальше замечает:
«Умилительно и назидательно было слышать, как кашлатые и бородатые представители невежества ссылались на законы гражданские и общечеловеческие, а представитель цивилизации отвечал им только одним: молчать, так-то твою мать!»
Умиление – это внутренняя форма слова умилительно, а содержание его – возмущение. И представитель цивилизации представляет цивилизацию лишь по форме, а по содержанию представляет самое темное, самое дикое и необузданное невежество, по сравнению с которым невежество избиваемых мужиков (которые ссылаются на законы гражданские и общечеловеческие) – вершина воспитанности и культуры.
Продолжение этого эпизода: Потебня берет под защиту ямщиков, а кондуктор объясняет остальным пассажирам, что, поскольку он, кондуктор, действовал исключительно в их интересах, вступившийся за ямщиков пассажир – человек вредный (вредный по характеру – это только внутренняя форма данного слова, а содержание его – вредный для общества, для государства). И пассажиры (то есть общество) немедленно берут кондуктора под защиту и выражают готовность свидетельствовать, что он не бил ямщиков.
Что тут остается сказать?
Потебня говорит:
«Ой нема, нема правди нi в кому,
Тiльки в єдиному бозi
да еще, может быть, немного в мерзавцах мужиках… пока еще их бьют, а не они бьют».
Содержание слова мерзавцы выражает отношение к мужикам не Потебни, а просвещенного общества, у которого просвещение – тоже всего лишь форма.
Несоответствие формы и содержания в словах создает иронию – оружие беззащитного ума перед вооруженным до зубов невежеством. «Государь император соизволил всемилостивейше благодарить Георгиевских кавалеров за молодецкую службу. – Министр юстиции изволил благодарить чинов судебного ведомства за ухарскую службу. – Министр народного просвещения изволил благодарить профессоров университета за лихое чтение лекций и студентов за залихватское их посещение…»
Такова ирония Потебни, прекрасно знающего разницу не только между формой и содержанием, но также между формой внешней и внутренней формой.
ПОТОЛОК, РАВНЫЙ ПОЛУ
Слабый синоним прекрасному лишь тогда, когда речь идет о прекрасном слабом поле. Но в большинстве случаев слабый и прекрасный – враги. Или, как их принято называть, антонимы (прекрасные стихи – слабые стихи).
Но жизнь слов сложнее, чем кажется на первый взгляд, и синоним может обернуться антонимом. Допустим, синоним слова профессия – ремесло. А профессионал и ремесленник? Нетрудно ответить на этот вопрос.
Антонимы многому учат нас. Антонимы предупреждают:
– Не заводите дорогой обстановки, чтоб на ее фоне не выглядеть слишком дешево!
– Не употребляйте дешевых фраз, это вам обойдется слишком дорого!
Но иногда противоположность чисто внешняя и антонимы не такие уж антонимы, как может показаться на первый взгляд.
К примеру, пол и потолок. В любом многоэтажном доме верхние соседи ходят, в сущности, по потолку нижних. И в жизни так бывает: какого б ты ни достиг потолка, всегда твой потолок может оказаться чьим-нибудь полом.
Так обычно бывает в жизни. Так бывает в многоэтажных домах. И так же бывает в прекрасной (но не слабой!) науке этимологии.
Потому что потолок, как утверждает этимология, буквально означает: равный полу. Равный – какого бы он ни достиг потолка!
Для потолка это не беда. Та же этимология утверждает, что без беды не бывает победы. Потому что слово победа происходит от слова беда. Сначала беда, а потом, после нее, по беде, как результат ее преодоления – победа.
Различие бывает таким же внешним, как и сходство. Знакомство с голландским сыром еще не дает права судить о голландской живописи. И даже – как ни странно – о голландской породе коров.
ГЕНЕРАЛ ОТ ОРФОГРАФИИ
Грустно сознавать, что дважда два всегда будет четыре и действие всегда будет равно противодействию, а наречие «по-прежнему» сегодня может писаться через черточку, а завтра слитно, как писалось уже не раз. Есть в этом какая-то непрочность, зыблемость нашей науки.
И разве можно иметь твердую уверенность, что нужно писать не иначе, а именно так? Мы требуем писать так, мы снижаем отметки за малейшее отклонение, но уверенности, твердого убеждения у нас нет. Можно ли посвятить свою жизнь тому, что не является твоим убеждением?
Не случайно к грамматике в школе относятся не так, как к физике и математике, а как к бессмысленному и необязательному ярму. Точнее, обязательному, но только для аттестата.
В эти минуты неуверенности в любимом предмете обращаешься памятью к великим именам. Например, вспоминаешь, как в течение многих лет шла борьба за реформу русской орфографии, как понадобилась революция для проведения в жизнь этой реформы, и, конечно, новая орфография – ценой таких усилий! – была не для того принята, чтобы какой-то лодырь ее нарушал.
У реформы – в те еще, дореволюционные времена, – было немало противников. Придворный публицист, славянофил и генерал-лейтенант А. А. Киреев считал, что можно, не прибегая к реформе, повысить грамотность в учебных заведениях. Для этого нужно совсем не много: ЗАПРЕТИТЬ УЧИТЕЛЯМ ВЫСТАВЛЯТЬ БАЛЛЫ НИЖЕ ТРЕХ.
«Неужели генерал-лейтенант был прав?» – усомнится учитель в минуту душевной слабости. Но тут же перед ним возникает образ честного и бескомпромиссного рыцаря филологии, отважного борца за орфографическую реформу, и, отбросив колебания, учитель скажет себе: нет, Александр Алексеевич Киреев не прав, прав Алексей Александрович Шахматов.
Такие мысли возвращают уверенность, и опять чувствуешь себя надежно за могучими спинами титанов лингвистической науки.
ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ
«…Я купил за 50 санскритских слов и за три готских слова – 60 исландских. За 40 персидских слов и 8 арабских – 50 финских и литовских… за 257 древнегерманских слов – 60 редких готских слов».
Такова была «коммерческая» деятельность тринадцатилетнего Алексея Шахматова в стенах Московской гимназии. Поскольку в гимназии таких слов не водится, обмен производили через гимназистов с их родителями и родственниками, давным-давно окончившими университет.
Среди своих солидных партнеров мальчик Шахматов – личность известная и уважаемая. Да, собственно, он и не новичок в науке. Десяти лет от роду он уже был автором двух солидных трудов:
1. «Книга I. До Ярослава I. Русская Старина. 23 апреля 1874. Составил Ал. Алексан. Шахматов», 175 страниц.
2. «Русская Старина. Ч. II – от Ярослава Мудрого до Всеволода III и ч. III – от Георгия и татар до Василия Дмитриевича и Вас. Темного. Лето 1874», 178 страниц.
Это было начало того пути, в конце которого академик Никольский скажет:
«Если бы в наше время продолжались старинные погодные записи, которыми с таким увлечением занимался Алексей Александрович, то летописец без колебания и преувеличения был бы вправе отметить его кончину словами: «такового не бысть на Руси преже, и по нем не вем, будет ли таков» (Никон. Летопись, под 1089 годом)».
А пока гимназист Шахматов устанавливает научные связи с родителями своих соучеников. Отец гимназиста Прогульбицкого торговал у него слова, примечания к ним и сочинение «Взгляд на историю с филологической точки зрения» за шесть рублей. Но разве за деньги можно продать слова, тем более – взгляд на историю? Юный коммерсант предложил ему свое сочинение бесплатно.
Отец Прогульбицкий на это не согласился, он хотел приобрести не только сочинение, но и авторские права. Пока он торговался, накидывая по рублю, Алексей Шахматов составил филологические теоремы, которые он доказывал алгеброй.
Целый год вел осаду отец Прогульбицкий, подсылал своих лазутчиков и парламентеров, а потом согласился переписать сочинение даром. И не только переписал – опубликовал его в иностранном журнале под своим (правда, вымышленным) именем.
Кто мог этого ожидать? Ведь они же обменивались словами, только словами: за 50 санскритских – 60 исландских, за 40 персидских – 50 финских… И вдруг – профессор Мюллер говорит:
– Молодой человек, все эти теоремы вы переписали из иностранного журнала.
Мальчик отвечал с достоинством истинного ученого:
– Милостивый государь! Я начинающий, я начал изучение языков с пяти персидских слов, найденных мною в грамматике Востокова, а теперь у меня одних санскритских слов пять тысяч…
В сущности, если разделить представителей любой науки на две части, они разделятся на Шахматовых и отцов прогульбицких. И пока первые беспечно обмениваются словами, вторые начеку и каждое слово у них имеет реальную стоимость.
ОТ ЗВЕЗДОСЛОВИЯ ДО СВИСТОПЛЯСКИ
Что было бы с нашим развитием, с нашей общественностью, с нашей промышленностью, наконец, если б не Карамзин? Все эти слова – его изобретение.
А наша будущность? Ведь и это слово идет от Карамзина. Да, не много найдется писателей, оказавших такое влияние на развитие русского языка, – недаром ему принадлежат слова влияние и развитие.
Словотворчество – занятие, доступное всем, но как дать жизнь придуманному слову? Как добиться его принятия, приживления в живом языке? Это не удавалось даже такому знатоку живого русского языка, как Даль: сконструированные им на манер живых слова так и не ожили, навсегда остались на бумаге.
Повезло историку Погодину: придуманное им слово свистопляска внезапно прижилось в русском языке. Слово, что и говорить, выразительное: так и представляешь себе эту банду, с дикой пляской освистывающую нечто святое, благородное, прогрессивное… Но дело-то в том, что реакционный историк Погодин адресовал это слово прогрессивному «Современнику». Возможно, натолкнул его на это сатирический отдел «Современника» – «Свисток». От этого «Свистка», возможно, и пошла придуманная Погодиным свистопляска, которую впоследствии охотно употребляли прогрессивные авторы для характеристики всевозможных реакционных действий.
Однако авторство Погодина, удостоверенное Писаревым («Раздражение г. Погодина, выразившееся… в изобретении слова «свистопляска»…»), опровергается словарем Даля. Оказывается, слово это давно существует в вятских говорах и уходит своей историей в XIV век. Именно в этом веке вятичи убили пришедших им на помощь устюжан, ошибочно приняв их за неприятелей, и тризна по убитым – свистопляска – с того времени стала традиционной. В этот день свищут в глиняные дудочки, – так объясняет происхождение слова Даль.
Возможно, историк Погодин знал историю вятичей и устюжан, а, возможно, придуманное им слово просто совпало со словом вятского говора. Тем не менее имя его связано с введением в русский язык нового слова. Оказать новое слово в буквальном смысле нисколько не легче, чем в переносном (то есть, сделать какое-нибудь открытие).
Были, к примеру, у нас и недотепы, и растяпы, но их неудачи часто объяснялись невезением, стечением обстоятельств, а также тем или иным свойством характера. Щедрин указал на истинную причину, заменив невразумительные приставки полнозначным словом голова.
Так появились у нас головотяпы.
В свое время Российская академия, подчеркивая разницу между академиком и писателем, сетовала, что писатели вместо слов звездословие, тискарня, обзор, отвес писали астрономия, типография, горизонт, перпендикуляр. Писатели могут употреблять какие угодно слова, но суть не в том, какие слова употребляют писатели, а в том, какие употребляют читатели. Только слово, употребляемое читателями, становится достоянием живого языка.
Вот что такое наше развитие, наша будущность: они никогда не зависят от одного человека, даже если он придумает слово влияние и будет стараться повлиять на общественность. Пока общественность сама не примет нового слова (как буквального, так и переносного), слово это жизни не обретет.