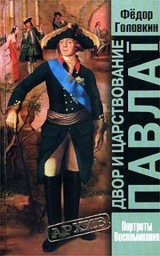
Текст книги "Двор и царствование Павла I. Портреты, воспоминания"
Автор книги: Федор Головкин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 29 страниц)
В числе фаворитов великого князя самый неважный, но самый смелый был Вадковский[168]168
В письме, написанном Иосифом II, императором Австрийским, его брату Леопольду Тосканскому, великому герцогу, он дает подробное описание графа и графини дю Нор и их свиты, и между прочим отзывается о Вадковском, как о незначительной личности, «Г. Вадковский очень красивый молодой человек» (см. Joseph II und Leopold von Toscane. Ihr Briefwechsel von 1781–1790, издание Арнета стр. 332–339).
[Закрыть], который, как все дураки, хотел ловить рыбу в мутной воде. Г-жа Нелидова, обладавшая умом, недостававшим у Вадковского, не довольствуясь своим положением на втором месте после немки, подстрекала его к осуществлению задуманного им проекта – смешать карты. Не было ничего легче – для этого надо было только сказать великому князю, что в глазах всего света им управляет великая княгиня, т. е. другими словами, г-жа Бенкендорф. Как только это слово было произнесено, все здание рушилось; великая княгиня вообразила себе, что можно остановить разруху высокомерием; безумие дошло до того, что ее уговорили дать почувствовать мужу, что она, как виртембергская принцесса, сделала ему слишком большую честь, прибыв с конца света, чтобы выйти за него замуж, тогда как его происхождение не дало бы ему даже права на прием в любой дворянский институт. Эти подробности я слышал от самого великого князя. Ему посоветовали подзадорить великую княгиню, притворяясь, что он ухаживает за Нелидовой, которая была уже не молода[169]169
Екатерина Нелидова родилась в 1756 г.
[Закрыть] и настолько некрасива, что не могла представлять опасности для законных прав.
Это был удобный момент отступить с почетом и выказать снисхождение, но, вместо того, стали кричать о прелюбодействе, о необходимости прогнать эту фрейлину и, наконец, довели жалобы до императрицы, что только усугубило беду. Граф Валентин Платонович Мусин-Пушкин[170]170
Произведенный впоследствии Павлом I в генерал-фельдмаршалы.
[Закрыть], Николаи, адмирал Сергей Иванович Плещеев[171]171
1751–1802 гг.
[Закрыть], которого старые отношения, со времени путешествия великого князя под псевдонимом графа дю Нора, привязывали к нему, и еще несколько благоразумных людей, приходивших в силу своей службы поочередно в соприкосновение с великим князем, старались успокоить умы, но было уже поздно. Великий князь подпал под власть Нелидовой, которая, несмотря на невинность их отношений, стала держать себя публично, как фаворитка. Наконец, в один осенний вечер, когда мы все находились в Гатчине, бомба лопнула: г-же Бенкендорф было велено удалиться, а меня с графом Мусиным-Пушкиным послали к великой княгине, которая, погруженная в печаль, приняла нас лишь после особого приказания сыграть с нами, как всегда, партию. Мы не успели сесть за карточный стол в кабинете, расположенном в башне, думая, конечно, все трое меньше всего о картах, – как увидели в стеклянную дверь великого князя и г-жу Нелидову, устроившихся рядом и весело хохотавших. Это мучение продолжалось до самого ужина, от которого бедная принцесса наотрез отказалась. Несколько дней спустя Ля Фермьер был уволен и великая княгиня осталась одинокой в своих апартаментах; вместе с тем положение при Дворе было поколеблено.
Великий князь сам удивился своей храбрости, а так как его фавориты ему рукоплескали, а императрица не нашла нужным высказать ему свое неодобрение по поводу его внезапного и преждевременного проявления власти и необдуманности наложенных им наказаний – в чем она впоследствии горько раскаялась – то он придумал окружить себя специальной полицией, от которой долгое время пришлось страдать всем придворным. Впоследствии будет сказано, каким образом мне пришлось быть камнем преткновения в этих зачатках тирании. Нельзя себе представить, каким крайностям великий князь предавался в отношении придворных чинов, являвшихся через каждые четыре дня на дежурство при его особе. Привычные к деликатному обращению со стороны Ее Величества, они от великого князя должны были выносить или тягостные милости, или же слышать оскорбления, которые они не могли перенести. Я приведу лишь несколько примеров, не потому, что они заслуживают особого упоминания, а потому что они придают жизненность моему рассказу.
Однажды осенью, мы вчетвером прибыли в Гатчину: Загряжский, граф Тизенгаузен, один из князей Голицыных и я. Как всегда, мы направились в наши комнаты, но были остановлены одним гоф-фурьером, ставшим с некоторого времени носителем повелений великого князя, который нахальным тоном приглашал нас следовать за ним. Пришлось, не рассуждая, повиноваться. Он открыл нам дверь под лестницею и ввел нас в комнату, где находились четыре кровати, четыре стола и четыре стула. Мои спутники разгневались, я же смеялся до слез. Он объявил нам, чтобы мы не смели оттуда выходить, и занялись пока своими туалетами. Что же касается нашей прислуги, то ее оставили с нашими вещами в вестибюле и даже не указали ей, где она могла бы устроиться. Нас позвали к обеду и великий князь, как всегда, допустил нас к своей руке, а после обеда пришли нам сказать, – не в чем была наша вина (этого мы никогда не узнали), – но что все в порядке и что мы можем отправиться в наши апартаменты.
Другой раз, меня привели в одну из отдаленных комнат, где на столе был сервирован великолепный завтрак. Я был очень заинтригован, как вдруг вошел великий князь, смеясь над моим удивлением, и пожелал сам прислуживать мне за завтраком. Весь день он меня осыпал милостями. Вечером, войдя в свою комнату, я заметил, что кровать как-то не прочна и велел ее боковые доски прикрепить веревками к столбам. Я уже лежал около получаса, как вдруг почувствовал сильное сотрясение, затем второе, еще более сильное. В то же время я услышал шаги в алькове. Я вскочил, позвонил, приказал осмотреть комнату, но безуспешно, и кончил тем, что лег спать на диван. На следующее утро я еще находился в нерешимости, следует ли мне говорить о том, что я принял за землетрясение или за попытку вторжения воров, как явился один из преданных мне слуг и рассказал мне, что эта комната раньше была ванной покойной княгини Орловой[172]172
Супруга Григория Орлова, урожденная Екатерина Николаевна Зиновьева.
[Закрыть] и что ванна еще теперь находится под кроватью. Г-жа Нелидова, чтобы развлечь великого князя, велела под постелью устроить качалку, с таким расчетом, чтобы я – если бы мне не пришло в голову принять меры предосторожности – сразу опрокинулся в ванну, наполненную водой. Великий князь был крайне недоволен, что эта шутка не удалась и что он понапрасну оказал мне столько милостей, которые были предназначены для того, чтобы убаюкать меня насчет конца приключения (1794 г.). Я же счел более достойным и осторожным притворится ничего не знающим.
Вот в чем состояли развлечения великого князя, когда ему уже было сорок лет от роду, и его манеры обращаться с людьми, занимающими известное положение; но мало-помалу все это приняло трагический характер, и чтобы ограничиться одной истиной, я приведу только те происшествия, которые случились со мною лично.
Я был допущен к малым собраниям у императрицы – беспримерный случай, в виду моей молодости. Она привыкла видеть меня около себя; я рисовал, читал ей вслух и поэтому располагал собственным апартаментом в Царском Селе, что составляло весьма редкое отличие. Таким образом, когда я отправлялся на службу к великому князю, я не доставал императрице. После этого поверять, что зависть меня окружала со всех сторон и клевета меня постоянно преследовала; все это, однако, не имело воздействия на императрицу. Но великий князь, которому всякое изъявление почтения его державной матери причиняло муки и который был счастлив, когда ему удавалось опечалить человека, бывшего, в глазах его фаворитов, не более как самозванцем, придумал, в первый же раз как я явился в Павловск на дежурство, арестовать меня в моей комнате и держать меня под домашним арестом в течение целых двенадцати дней. Императрица, видя, что я не возвращаюсь, рассердилась. Она велела отправить обер-камергеру приказ, коим я освобождался от всякой службы, как при ней, так и в другом месте, а великий князь, узнал об этом, велел меня выпустит. По этому поводу не последовало никаких объяснений и помимо того, что мне впоследствии пришлось дорого расплатиться за это освобождение, которое меня оградило от причуд великого князя, я некоторое время оставался в стороне от придворных интриг.
История, произведшая в то время много шума, неожиданно погрузила меня опять в этот омут. Ростопчин, ставший недавно камер-юнкером и начинавший утверждаться в симпатиях великого князя, должен был однажды повторить дежурство в Царском Селе и написал по этому поводу весьма нелюбезное для своих товарищей письмо обер-камергеру Шереметеву, который имел глупость его показать. От этого последовали комичные вызовы и дуэли, кончавшиеся тем, что жены и сестры дуэлянтов бросались разнимать их скрещенные шпаги. Императрица, осведомленная об этом полицией и не допускавшая шуток, когда дело шло о подобающем Двору уважении, приказала дежурному генерал-адъютанту разобрать этот инцидент, что кончилось приказанием Ростопчину удалиться в Москву[173]173
См. письмо Ростопчина графу Воронцову от 20 июня 1791 г. (Архив кн. Воронцова, т. VIII, стр. 99).
[Закрыть]. Великий князь, вне себя от гнева, спрятал его в Гатчине, и не зная, кому за это отомстить, выдумал следующее:
Императрицу часто беспокоили в Царском Селе, и когда она бывала нездорова, за ней плохо ухаживали. Однажды, она отослала окружавшую ее компании и легла отдыхать на диван, в большом лаковом кабинете. Я читал ей вслух, в течение часа, как вдруг камердинер вошел в комнату без доклада. – «Зачем вы пришли?» – спросила императрица. – «Не знаю, смею ли это сказать?» – «А что же?» – «Господин Нарышкин прибыли из Павловска и ждут уже давно на лестнице, внизу». – «Это мне безразлично». – «Да, но он желает что-то сказать графу, по поручению Его Императорского Высочества». – «Можно подумать, что вы здесь служите с сегодняшнего утра; вы должны бы знать, что сюда не входят, пока я не позвоню. Уходите! А вы, будьте так добры, продолжать чтение». – Через некоторое время она задремала. Около половины десятого она позвонила и спросила камердинера: – «А что, господин Нарышкин все еще ждет?» – «Точно так, Ваше Величество». – «Так пойдите, граф, и узнайте, что это за важные дела привели его сюда». – Меня разбирало любопытство, но и опасение того, что мне придется слышать. Я поэтому спустился по маленькой лестнице к бедному Нарышкину, занявшему впоследствии важную должность обер-гофмаршала и сидевшему тогда на нижних ступеньках. Когда он меня увидал, он встал и большие слезы выступили в его глазах. – «Надеюсь, вы меня простите, что я должен вам передать ужасное поручение, ноя не могу ослушаться». Это слово «ужасное» звучало смешно для человека, пользующегося высочайшей милостью. «В чем же состоит это столь ужасное поручение?» – «Великий князь приказал мне вам передать, что первая расправа, которую он учинит, когда взойдет на престол, будет состоять в том, что он велит вам отрубить голову». – «Вот кто очень спешит приступить к делу», – ответил я, смеясь, но потом присовокупил серьезно: – «Мне очень жаль, милостивый государь, что вам дали такое поручение. Скажите великому князю, что я буду иметь честь ему написать». – «Берегитесь это делать, он терпеть не может, когда ему пишут». – «Что же делать, раз я приговорен к смерти, мне нечего беспокоиться о том, что может понравиться или не понравиться Его Императорскому Высочеству». Затем, тоном человека, привыкшего давать аудиенции, я пожелал услужливому камергеру спокойной ночи.
На следующий день я написал великому князю весьма почтительное, но короткое письмо, в котором я выражал свое сожаление, что навлек на себя такую неслыханную немилость, даже не подозревая ее причины, но что, рискуя заслужить немилость, я умоляю Его Величество остерегаться таких опрометчивых осуждений и предварительных приговоров. После этого я ожидал одного из двух: или что Его Императорское Величество меня вызовет для объяснений, или что он запретит мне показываться ему на глаза, что было бы чрезвычайно неудобно для человека, встречавшего его только у императрицы, но вышло совсем иначе.
Я получил от Николаи письмо, на которое мне только пришлось пожать плечами. Он мне сообщал, что великий князь получил мое письмо, но не может на него ответить по двум причинам: во-первых, потому что он слишком умен для того, а во-вторых, потому что великая княгиня собирается разрешиться от бремени. На следующий день императрица меня спросила, какое важное поручение Нарышкин имел мне передать. Я просил Ее Величество смотреть на эту вещь, как на недостойную ее внимания, но это мне ничего не помогло. Тогда, желая дать понять, насколько мое положение щекотливо, я просил ее приказать мне говорить, что она тотчас сделала. Императрица, узнав в чем дело, страшно рассердилась, вся покраснела от гнева и повторила несколько раз: «Он еще не дошел до того, чтобы рубить головы; он даже не может быть уверенным, что когда-нибудь дойдет до того. Я скажу ему по этому поводу несколько слов. Он сходит с ума».
Великому князю было повелено явиться на следующий день в Царское Село, последовал такой выговор, что Павел Петрович, как всегда в таких случаях сильно перепуганный, обошелся со мной в высшей степени любезно. С тех пор я его встречал только у императрицы, а у него лишь в высокоторжественные дни. Он поглядывал на меня милостиво, но не говорил со мною ни слова, до тех пор, пока меня не назначили послом в Неаполь. Тогда он мне сказал: «Если вам это доставляет удовольствие, я вас с этим поздравляю». Было замечено, что после той сцены, которою он был обязан мне, он стал намного осторожнее в обращении с своими придворными. Его друг Ростопчин[174]174
Ростопчин Федор Васильевич (1763–1826), известный русский государственный деятель, фаворит Павла I, затем потерявший его покровительство в результате соперничества с новым фаворитом императора графом Паленом П. А.
[Закрыть], впрочем, научил его, что не надо так скоро снимать маску, и давал ему, из своею убежища в Гатчине, советы, которые могли бы быть прекрасными, если бы их исходною точкою не были обман и интрига. Я помню, что когда однажды в личных апартаментах императрице рассказывали про какую-то новую выходку великого князя, граф Зубов сказал, со свойственной ему откровенностью: «Он сумасшедший». Императрица ему на это ответила: «Я это знаю не хуже вас, но, к несчастью, он недостаточно безумен, чтобы защитить государство от бед, которые он ему готовит».
Мое посольство в Неаполе и заточение в крепость, которому я был подвергнут по возвращении оттуда, лишили меня возможности дать подробный отчет о поведении великого князя в продолжении двух последних лет царствования Екатерины II (1794–1796). Я только знаю, что он постоянно был окружен группой лиц, называемых «гатчинцами», почти не выезжал из Гатчины и появлялся в городе лишь в торжественных случаях. Но тем скорее он появился в столице, как только до него дошло известие о болезни Ее Величества. Эта великая государыня еще не перестала дышать, Ростопчин и граф Шувалов[175]175
Шувалов Ивам Иванович (1727–1797) играл видную роль в правление Елисаветы Петровны. Отношения с великой княгиней Екатериной Алексеевной не складывались изначально из-за несовпадения их взглядов на престолонаследие. При возведении ее на престол Шувалов не проявил открытой поддержки, за что был послан за границу. Впоследствии был возвращен, стал членом избранного кружка Екатерины II, в качестве знатока помогал ей пополнять коллекции Эрмитажа.
[Закрыть] без уважения к почившей, уже заняли ее опочивальню и впустили туда своих друзей и любимцев. Я никогда не мог понять, каким образом граф Зубов и остальные могли до такой степени потерять голову, чтобы допустить подобную профанацию.
Прежде чем войти в подробности этого необыкновенного царствования и, оставляя в стороне политику, о которой я не имел возможности судить, я должен рассказать то, что я видел по поводу стараний, прилагаемых лицами, окружавшими Павла I, чтобы довести его окончательно до помешательства. Следовало посоветовать ему продолжать лечение у лейб-медика Фрейганга, который каждый месяц в новолуние давал ему слабительное, что очищало его от желчи и имело благотворное действие на его характер. После его восшествия на престол эта последняя диета имела бы еще большее значение и его мнимым друзьям следовало еще больше настаивать на ее продолжении но император, освободившись от своих опасений (что ему не придется царствовать), думал только о том, как бы проявлять побольше свою власть, а фавориты заботились меньше о здоровье государя и о счастье подданных, чем о благополучии их собственных карманов. Фрейганг, имевший неосторожность хвастаться, был удален от Двора, а низость и злоба второстепенных царедворцев окончательно погубили, нравственно и физически, этого несчастного государя.
Французская революция произвела на него сильнейшее впечатление; он был от нее в ужасе. Однажды он мне сказал: «Я думаю о ней лихорадочно и говорю о ней с возмущением». С тех пор все, что раньше ему только не нравилось, стало его раздражать. Неурядицы, неизбежные при всяком большом управлении, показались ему величайшими преступлениями и малейшая забывчивость – умышленным проступком. Это был удобный момент, чтобы успокоить его мысли, смягчить его нрав и убедить его в том, что мягкость, в связи с твердостью, составляет самое могущественное оружие для государя.
Но какие тогда были друзья у того, кто царствовал над таким обширным государством? Кто мог тогда иметь такое сильное влияние на судьбы Европы? Князь Куракин? – он был так глуп, как только можно и, начав с полного ничтожества, достиг, путем лести, высших почестей. Камергер Вадковский? – человек злостный до ослепления. Князь Николай Алексеевич Голицын, впоследствии обер-шталмейстер? – новообращенный вольнодумец, воображающий себя государственным мужем и утешавший великого князя по поводу сцен ревности, которые ему устраивала его супруга тем, что, сделавшись императором, он сможет ее заключить в монастыре. Граф Эстергази, состоявший раньше при наследнике французского короля и принимавший участие во всех ошибках, закончившихся французской революцией? Он имел обыкновение говорить, мрачно покачивая головою: «Только посредством своевременного кровопускания можно предупредить возмущение в большом государстве». Вот те советчики, окружавшие государя, умственные способности которого все больше суживались в кругу домашних споров между его женой, г-жей Нелидовой и их приверженцами.
Наконец, он взошел на престол и был в восторге от перешедшей к нему полноты власти. Это также был удобный момент выставить на первом плане долг, но, по-видимому, и тут не нашли более действенного средства, чтобы снискать его расположение, как уверить его в том, что все существует только для него и ради него и что он может всем пользоваться, без всякого зазрения совести, для своего собственного удовольствия. Со всех концов империи стали появляться старики, уже тридцать пять лет умершие гражданскою смертью, чуждые обычаев Двора, учтивых нравов царствования Екатерины II, грозных событий Европы и исходящего оттуда просвещения. Они, вместе со своими старомодными костюмами, привезли с собою устаревшие манеры и умели только бить челом и поклоняться. И что из этого вышло? Все поколение, занимавшее место, не имея возможности сразу подражать этим образчикам старины и не подозревая даже, чтобы это могло быть средством понравиться верхам, казалось поколением мятежников, вознесшихся в своей гордости, тогда как патриархи преклонялись перед помазанником Божьим. Государь жаловался старикам на молодых и первые отвечали, что они осуждают своих сыновей и племянников, находили, что они развращены философией, внушавшей им ужас, и убедили деспота, который пробовал свои силы, в том, что для России полезна лишь система управления Петра I и Анны Иоанновны. Но времена изменились. Екатерина сумела, мягкостью власти и славою успеха, создать верность, основанную на любви, и послушание, происходящее от восхищения. Павел, окруженный стариками и неизвестными молодыми людьми, вообразил себе, что можно сразу требовать того, что нужно сначала заслужить. Но нельзя достичь того, что невозможно. Тогда он начал ссылать, но не виновных, ибо никому не приходило в голову провиниться, а наиболее сдержанных, наименее услужливых и наименее покорных. Ссылки охлаждающе подействовали на других; от этого произошли новые ссылки, новые охлаждения и настал скоро всеобщий ужас с одной стороны и подозрительность, остервенение – с другой. Дошло до того, что через три года в Петербурге не было ни одного должностного лица и ни одного уцелевшего семейства из всех тех, которых там оставила умирающая Екатерина.
Это – неизбежное последствие всякого несправедливого насилия. Сердце императора, чувствующего себя одиноким посреди Двора, состоявшего из выскочек и лишенного хорошего общества, окруженного одними лакеями, шпионами и палачами, или лицами готовыми во всякое время стать тем или другим, – развратилось и сжалось, а его ум сузился и утратил способность правильно оценивать людей и события. Соблазнительное счастье, выпадавшее в его царствование на долю нескольких лиц, было, впрочем, для России лишь преходящей бедой; но в то же время раскрылась одна рана, которая, как я боюсь, заживет не так скоро, а именно: высшее дворянство, уже давно недовольное тем, что правительство мало заботится о нем, живет теперь только тою жизнью, которую правительство ему дозволяет. Я должен указать на эту печальную истину, прежде чем рассмотреть причины и последствия деспотизма. Недуги, вызывающие боязнь, праздность и скуку, выродились в царствование Павла I в эпидемию, и если бы оно продлилось еще немного дольше, покрыли бы Россию общим трауром. Вельможи этой страны не обладают тою силою ума и личным достоинством, которые так сильно ограничивают область деспотизма. Несведующие, неспособные заниматься и учиться, слишком апатичные, чтобы умело развлекаться, они каплями пьют тот одуряющий напиток, который им преподносит Двор, и деспотизм в их лице не находит ничего такого, что могло бы возбудить сожаление или вынудить уважение.
Тут я перестаю писать историю и буду только простым составителем летописи. Я ограничусь приведением, год за годом, событий, записанных в моих дневниках, и, если я к ним иногда прибавлю некоторые рассуждения, то лишь такие, которые мне приходили в голову на месте и в эпоху, где и когда происходили эти события. Иной раз покажется удивительным, что я не даю никаких разъяснений по поводу того, что я рассказываю, но это происходит от того, что я в этих случаях, не мог бы ничего разъяснить.
Впрочем, ввиду отсутствия последовательности, характеризовавшего это царствование, было бы невозможно всегда выяснять причины и последствия. Так как я знаю Россию только со времени Екатерины, и лишь настолько, насколько этой великой государыне угодно было развить во мне эти знания, то они, с ее смертью, не могли получить дальнейшего развития. Я сразу очутился среди незнакомых мне обстоятельств, среди хаоса. Чувствуя себя чужим для тех, кто управлял государством, я пережил это царствование в каком-то вихре, или чересчур блестящем, или же чересчур мрачном, чтобы я мог в нем что-нибудь рассмотреть своими глазами.








