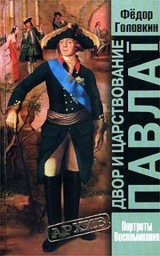
Текст книги "Двор и царствование Павла I. Портреты, воспоминания"
Автор книги: Федор Головкин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 29 страниц)
XII. Любомирский[240]240
Князь Франциск Ксаверий Любомирский, генерал-лейтенант на русской службе, кавалер орденов Св. Анны и Св. Губерта баварского, приходился графу Федору свойственником, так как он третьим браком, был женат на Марье Львовне Нарышкиной, сестре Екатерины Львовны, вышедшей замуж за Юрия Головкина, двоюродного брата графа Федора.
[Закрыть]
Один из важнейших процессов в царствование Екатерины II, как по значению спорного объекта, так и по положению спорящих сторон, был процесс, затеянный князем Любомирским против наследников и памяти князя Потемкина. Я это говорю не потому, что я сам играл роль в этом процессе, а потому что он так хорошо показывает способ ведения в России подобных дел, не исключая самых важных, даже в периоде наиболее справедливого царствования и, в то же время, интереснейших образом рисует характер великой государыни, так что сохранение его подробностей имеет существенное значение для истории. Князь Потемкин, исчерпав на своей родине все, что могла ему дать благосклонная судьба, стал бросать свои алчные взгляды на пограничные страны. Польская корона, Курляндское герцогство, верховная власть над Молдавией и Валахией с титулом короля – вот те призраки, за которыми гналось его чересчур разыгравшееся честолюбие, и так как ему не удалось заставить Екатерину разделить с ним российский престол, то он хотел, по крайней мере, чтобы она устроила ему царство где-нибудь в другом месте.
Дело, о котором я говорю, разыгралось в то время, когда Польша составляла предмет его мечты, и весьма возможно, что было бы умнее и менее безнравственно посадить его туда, чем разделить ее на части. Как бы то ни было, но он, со своей стороны, начал принимать те меры, которые зависели от него. Надо было прежде всего приобрести права польского гражданства, а чтобы добиться этого, надо было владеть землями в королевстве, и это заставило Потемкина купить за шесть миллионов, у князя Любомирского, графство Смилу. После того, как эта сделка состоялась между обоими князьями на словах, Потемкин извлек из нее ту пользу, на которую он рассчитывал, и был провозглашен польским магнатом. Но будучи слишком занят делами империи, он забыл довести сделку до конца и не только не заплатил за нее, но даже не дал обеспечения на значительную сумму, которую он задолжал Любомирскому. Устроившись в своей главной квартире в Яссах, поглощенный тщеславными замыслами и делами, недоступный для кого бы то ни было, кроме своих племянниц и некоторых любимцев, он едва знал о том, что князь Любомирский находится при его армии и что самый законный интерес заставлял его день и ночь сторожить у дверей. С его стороны в отношении к Любомирскому не было ни злой воли, ни замешательства, ни ложного стыда, а была лишь доведенная до крайности и беспримерная беспечность. Если кто-нибудь посмел бы указать ему на безнравственность разыгрываемой им роли, то одной его гордости было бы достаточно чтобы немедленно заставить его расплатиться с кредитором; но из окружавших его клевретов одни дрожали, как бы не навлечь на себя его недовольство, а другие сочли бы смешным воспользоваться своим влиянием в пользу вельможи, который не сумел сам защитить свои интересы, к тому же еще поляка, который как будто бы попрошайничал, когда он имел право требовать. Любомирский, видя, что ему даже не удастся получить доступа к Потемкину, выписал в армию свою жену, урожденную графиню Ржевускую, безобразную и глупую, но зато женщину, да к тому же еще польку, умеющую пролезть в ушко иголки. Она дала себе много труда и так старалась, что Потемкин ее, наконец, заметил, выслушал и нашел ее требования вполне справедливыми. В виде расплаты, он за два миллиона уступил ей графство Дубровское, а на остальные четыре миллиона обещал ей выдать вполне оформленные векселя.
Это удачное начало ободрило княгиню продолжать дело и довести его до конца. Она устроилась в аванзале своего должника и следовала за ним по пятам, куда бы дела его не привели. Она как будто сделалась членом главной квартиры армии и, нисколько не робея ни перед заносчивостью его племянниц, ни перед язвительными шутками его любимцев, не стесняясь ни недостатком помещения, ни даже иногда недостатком в пище, не отходила ни на шаг от Потемкина. Я не знаю в точности, достигла ли она этим чего-нибудь, но в самый разгар ее стараний князь Потемкин скончался. Когда же Любомирские обратились к его наследникам последние прежде всего желали видеть обязательства покойного князя, а так как последние существовали только в совести, а не на бумаге, наследники отказались платить. К несчастью, этих наследников нельзя было прямо привлечь к суду; это были – графиня Браницкая, супруга великого маршала Польши, статс-дама императрицы и кавалерственная дама ордена св. Екатерины, графиня Скавронская, статс-дама и главный предмет страсти своего покойного дяди; княгиня Голицына, муж которой пользовался большим уважением за свою честность и свои заслуги; г-жи Шепелева и Юсупова[241]241
Эти пять племянниц князя Потемкина, перечисленные графом Федором, происходили от брака его сестры Елены с Василием Андреевичем Энгельгардтом. Шестая племянница была замужем за тайным советником Михаилом Жуковы.
[Закрыть]; затем граф Самойлов, Андреевский кавалер и генерал-прокурор или министр юстиции и финансов и еще несколько лиц вполне подходящих к ролям главных крикунов. Надо было собрать всех этих лиц, получить от них отказы и затем удостоверить эти отказы, а между тем грозная тень покойного и настоящее или притворное горе императрицы вместе с разными другими обстоятельствами составляли непреодолимую преграду вокруг этих четырех миллионов.
Князь Любомирский не отличался ни умом, ни влиянием, ни сообразительностью; княгиня же растерялась среди мелких чиновников и не могла стряхнуть с себя пыль передних. Но у них были дети и законное право всегда имеет нечто внушительное, прикрывающее тех, кто может им облечься; кроме того, при Дворе были люди, могущие замолвить слово в их пользу. Им посоветовали за недостатком письменных доказательств обратиться к так называемому суду совести, нечто вроде третейского суда, установленного императрицей под непосредственным надзором правительства, и, к счастью для них, они послушались этого совета.
Мне в то время минуло двадцать два года[242]242
Граф Федор молодится; он родился в 1766 г., так что ему тогда, в 1794 г., было уже двадцать восемь лет от роду.
[Закрыть] и я был только камер-юнкером, но был принят в ежедневный и интимный круг императрицы, которую мои шалости очень забавляли. Граф Зубов, премьер-министр и фаворит, тоже как будто не мог обойтись без меня и я, без хвастовства – ибо с тех пор прошло уже столько лет, могу сказать, что ввиду неизвестности моей дальнейшей участи, большая часть всей России и добрая часть Европы заискивали у меня, в доказательство чего дальше приведу любопытные факты. И вот однажды утром во время аудиенции, которые в этой стране зависят более от смелости, чем от занимаемого положения, я из разговоров услышал, что князь Любомирский, согласно правилам суда совести, ищет двух лиц, которые могли бы защищать правоту его дела перед этим судом, но получил уже более двадцати отказов. Это была очень серьезная вещь, так как подобные отказы в этих случаях кладут клеймо на того, кто их получает или же кто их дает, и я был возмущен общею трусостью. «Если бы он обратился ко мне, – сказал я громко, – я не решился бы ему отказать и мне, может быть, удалось бы также найти себе товарища». На следующий день, рано утром, мне доложили о приходе князя. Он пришел в парадном мундире с лентою через плечо – ибо поляки изощряются в вежливости – и, после многих извинений за свою смелость, сделал мне предложение защищать его интересы, предоставляя мне назначить себе товарища по моему усмотрению. Я сразу постиг все последствия, которые мог иметь мой ответ, но я сам искал это осиное гнездо и не в моем характере было трусить. Поэтому я принял на себя роль третейского судьи и объявил, что я выбираю своим товарищем г. Вейдемейера, служившего раньше у его дяди и состоявшего в это время секретарем Совета. «Я не знаю ни законов, ни языка, – сказал я князю, – но голос чести легко прозвучит, а формальностями займется мой коллега». Бедный князь, вне себя от восторга, чуть не обнял моих колен и повсюду рассказал о своей удаче.
Это произвело, поистине огромное впечатление. Никто не ожидал, что я, в свой юный возраст, решусь впутаться в такое серьезное дело, и многие думали, что я бросаюсь в этот омут из неосторожности, или что граф Зубов толкает меня туда, как блудного сына; мне в тот же самый день пришлось выслушать от разных лиц выражения недовольства. Наследники удивленные и возмущенные, но вынужденные принять решение, назначили, со своей стороны, третейскими судьями: своего родственника, престарелого сенатора Жукова, человека недалекого и прославившегося когда-то своим безнравственным поведением и некоего Ермолова, отличавшегося таким же поведением и по данное время. Председателем суда совести был тогда сенатор Ржевский, но он представлял собой не более как сидящее в кресле чучело или марионетку, в то время как его сыновья находились в зависимости от графа Самойлова, министра юстиции и, как я уже сказал, сонаследника. Мы проверили наши правомочия, и заседание началось.
Всякий другой, кроме меня, ужаснулся бы той пропасти, над которой я добровольно примостился. Императрица, поклоняясь памяти человека, которого она в течение двадцати пяти лет удостаивала своего доверия и своей дружбы, считала себя оскорбленной тем, что я, единственная опора которого состояла в ее милости, посмел открыто выступить против его памяти, и успокоилась лишь при мысли о моем невежестве и о моей неопытности. Граф Зубов, очень довольный тем, что нашелся человек, чтобы вырыть из могилы исполина, которого ему лишь с большим трудом – и не в одном ли только воображении – удалось опрокинуть, но вынужденный тщательно скрывать эти чувства перед императрицей, делал вид, как будто он возмущается мною, считавшимся его близким другом и занявшимся столь неуместным делом. Целый легион завистников, сдерживаемых до того моим влиянием, не имея возможности громко нападать на мои принципы, поднял вопль против моей дерзости и против неосторожности моего поведения. Я скоро заметил, что тот, для которого я великодушно рисковал своим положением, уже начинал опасаться неудачного выбора и что мой товарищ, которого я привлек к этому делу, женатый на камер-юнгфере императрицы, стал руководствоваться чужими советами.
Тем временем жизнь при дворе продолжала быть для меня тем, чем она при данных обстоятельствах всегда бывает: приятным времяпрепровождением в безоблачной атмосфере, где ничего не предвещает грядущих гроз и где бывают только мелкие неприятности. С внешней стороны ничего не изменилось для меня, после того как прошло первое удивление моему поступку. Императрица, обращавшаяся со мною как всегда, делала вид, что ничего не знает. Граф Зубов, который говорил со мною об этом лишь как о заблуждении благородного сердца и о юношеской шалости, под рукою наставлял окружавших нас лиц, чтобы они меня хвалили за красоту моего поведения и за величие моего характера. Ему было безразлично видеть, как я погибаю, ибо в сердце он меня не любил, и в его расчеты входил только позорить память человека, который долгое время всех подавлял своим презрением. Что касается меня, то я не замечал за собою ни малейшей неуверенности или боязни, и если бы я даже почувствовал нечто подобное. То старание противной стороны подкупить меня вполне успокоило бы меня на этот счет. Все наследники вместе и каждый в отдельности старались расположить меня в свою пользу, а графиня Браницкая, главная из них, несмотря на свою скупость, предложила мне 180 000 руб. с тем, чтобы я отказался от моего посредничества.
Между тем заседания третейского суда продолжали идти своим чередом, хотя дело не двигалось вперед; приводились законы, которые не имели ничего общего с процессом и в которых я тоже ничего не понимал. Я изображал из себя собаку того вертельщика, которая, пробежав десять миль, остается все на одном и том же месте. Ермолов позволил себе однажды утром высказать свое соболезнование по поводу того, что я, будучи так молод и не опытен, решаюсь спорить с ним, день и ночь не расстающимся с законами, ибо этот несчастный состоял членом комиссии о сочинении проекта нового уложения. «Не знаю, – ответил я ему, – может быть, вы и спите на законах, но это довольно безразлично для суда, признающего только законы совести; мне во всяком случае ясно то, что вы хотите меня усыпить, но этого я никогда не допущу».
Противная сторона хотела выиграть время. Я как бы для того, чтобы обеспечить себе порт на случай будущих ураганов, добился назначения на место посланника в Неаполь, и мои противники рассчитывали на какой-нибудь случай, чтобы вынудить меня поскорее уехать, предоставив князя Любомирского и его детей их произволу. Заметив это намерение и желая воспользоваться им против моих врагов, я испросил шестинедельный отпуск, якобы для поездки в Москву и устройства там своих домашних дел. Это неожиданное решение произвело величайшую сенсацию при Дворе и в обществе. Подумали, что я раскаялся и отказываюсь от дальнейшего влияния на этот своеобразный процесс, а поэтому сейчас же дали мне просимый отпуск, и я уехал в Москву.
То, что я предвидел, случилось. Как только я приехал в Москву, я получил официальное извещение о состоявшемся мнимом решении суда; я говорю «мнимом», ибо оно без моего согласия не могло считаться законным. Добродушный Ржевский храбро стал на сторону сильнейших, и князь Любомирский был осужден к потери своих четырех миллионов; казалось, таким образом, что все кончено, наследники торжествуют, и императрица, освободившись от всякого беспокойства по этому поводу, посмотрела на меня, как на ветреного глупца. Но это именно был момент, когда я мог развить всю свою находчивость. Я в тот же день отослал суду обратно его решение, ограничиваясь припиской, что я еще не умер и явлюсь ко дню окончания разрешенного мне Ее Императорским Величеством отпуска. Тем временем я приступил к составлению особого мнения по этому делу. Для его решения достаточно было немного честности. Моя записка состояла из двух столбцов, с одной стороны – из подлинного текста на французском языке, снабженного моею подписью, а с другой – из перевода на русский язык, который я не подписал, опасаясь, что противники, не имея возможности оспорить мое мнение по существу, могли бы придраться к букве. Помня это, я выехал обратно в Петербург.
Час спустя по выходе из коляски, я отправил пакет к председателю с записочкой, в которой было сказано, что так как суд постановил решение без меня, то я считаю себя в праве разъяснить дело без него и что, в виду равнодушного отношения суда к истинному смыслу своей задачи, я предпочитаю передать мое особое мнение, являющееся окончательным, непосредственно в руки его председателя. Двор тогда находился в Царском Селе. Ее Императорское Величество встретила меня с той снисходительной добротой, которую сила так охотно оказывает разоблаченной посредственности; Зубов – с зубоскальством, говорящим много, но не объясняющим ничего; его приближенные – с видом укоризны и недовольства, остальные же царедворцы – как люди довольные тем, что совершена непоправимая ошибка. Но приближался момент катастрофы. На другой день, утром, императрица принимала в аудиенции некоторых лиц, прибывших из С.-Петербурга. Не будучи любопытен в мелочах, я лишь впоследствии узнал подробности. Когда мы собрались к обеду, я видел на лицах графини Браницкой и графа Самойлова выражение торжества и радости, которое меня удивило.
Императрица появилась со всеми признаками плохо подавленного гнева, с красным лицом и хриплым голосом и села за стол, не сказав ни слова лицам, мимо которых она проходила. По праву моей должности. Я сидел напротив нее и заметил, что она нарочно старалась не глядеть на меня. Я хотел выяснить это обстоятельство и по старой привычке начал разговор, но она промолчала и лишь покраснела. Я стал догадываться о причинах такого поведения, когда ко мне подошел курьер и сказал мне на ухо, что, по окончании обеда, меня ждет в своих покоях фельдмаршал граф Салтыков. Я полагал, что он, как всегда, после Совета вернулся к себе на дачу, и это отклонение от его привычек и приглашение от такого высокопоставленного лица, у которого я вообще не бывал и который, под предлогом, что я отвлек от него графа Зубова, делал вид, что меня ненавидит, – предвещали мне нечто необыкновенное и недоброе. Как только императрица удалилась во внутренние покои, я отправился к фельдмаршалу и застал его в крайнем смущении, вероятно, по причине моей репутации, – как человека очень откровенного.
Он стал извиняться в причиняемом мне беспокойстве, сделал вид, что прочитывает важные письма, которых он в действительности вовсе не читал, поднимал от времени до времени, как это было его привычкой, нижнюю часть своего костюма, постоянно сползавшую, и, наконец, собрав достаточную долю самоуверенности и присутствия духа, сказал мне своим обычным лукавым голосом:
– На меня нашей августейшей государыней возложено относительно вас, дорогой граф. Ужасное поручение!
– И какое именно, Ваше Сиятельство? – спросил я его.
Новые извинения с его стороны, затем уверения в его уважении и дружбе ко мне и выражения искреннего соболезнования по поводу обычной неосторожности молодых людей, губящих себя преувеличением добродетельных чувств, – наконец, все возможное, чтобы привести в отчаяние человека, желающего поскорее узнать свою участь.
– Будьте так любезны, Ваше Сиятельство, объяснить мне подробнее, в чем заключается мое несчастие!
– Итак, знайте, если вы желаете поскорее узнать вашу судьбу! Знайте, что Ее Императорское Величество поручила мне сказать вам, что, будучи даже членом Конвента в Париже или в Варшаве, вы не осмелились бы представить такую назойливую записку, как та, которую вы послали третейскому суду, но что она сумеет вас поставить в должные рамки уважения и долга.
– И это все, Ваше Сиятельство?
– Увы, дорогой граф, это мне, ввиду моей симпатии к вам, уже кажется слишком много!
– Позвольте, Ваше Сиятельство, поблагодарить вас за ту деликатность и вежливость, которые вы соблаговолили вложить в исполнение данного вам поручения! – И я хотел откланяться.
– Оставайтесь, мне приказано также передать ответ, который вам угодно будет.
– У меня на это лишь один ответ, но я думаю, что он теперь неуместен.
– Ничего, вы можете мне довериться.
– Так будьте же столь добры, Ваше Сиятельство, передать императрице, что мое непоколебимое почтение и безграничное поклонение Ее Величеству заставляют меня думать, что она не дала себе труда прочесть мою записку.
– Но, граф, как же так? – воскликнул фельдмаршал.
– Я не могу вам ответить ничего другого, – прибавил я и, пользуясь удивлением старого царедворца, быстро вышел.
Пока посылали за моей каретой, одно преданное мне лицо рассказало мне, что Ржевский в сопровождении Самойлова еще до начала Совета бросились императрице в ноги, прося простить их за их дерзостное обвинение человека, осыпанного ее милостями, в непочтении к ее священной личности, в непослушании высшим законам и т. д. и т. д. По дороге в Петербург я составил черновое письмо, которое я решил написать императрице. Я переписал его дома и отправил его в Царское Село с таким расчетом, чтобы императрица получила его на следующий день при вставании. Это письмо состояло из восьми страниц большого формата и было разделено на две части: 1) мое мнение по делу Любомирского, 2) мое мнение о поведении императрицы во все время ведения процесса. Это письмо было писано чистосердечно, с полным доверием, и содержало такие истины и рассуждения, какие можно позволить себе только с лицами, обладающими высшим рассудком. Я доказывал ей, что она одна обесславляет память покойного князя, выставляя свои сомнения на счет его, что общество относится к нему справедливее, и это ей, не менее чем мне, известно, что князь Потемкин, будучи всегда обременен государственными делами, запускал те дела, которые касались лично его, в том числе и настоящее дело.
Когда я отправил это письмо, я поехал к себе на дачу, чтобы повидаться с женою и друзьями, которых мне в то время редко пришлось видеть, но ничего не сказал им о происшествии. Я полагал, что мое письмо только что получено императрицей, как вдруг ко мне явился курьер фельдмаршал, с просьбою быть на следующий день, в семь часов утра, в его доме у Петергофских ворот. Это было предвкушение моей победы. Столь быстрый ответ и поручение, данное старику министру, которого берегли от всяких утомлений, сделать восемь миль для того, чтобы переговорить со мною, – доказывало, что со мною обращались как с личностью, заслуживающею внимание и пребывающею в милости. Действительно, когда двери фельдмаршала раскрылись передо мною, я заметил в его словах досаду, которую он старался скрыть, но которая говорила мне больше, чем его слова. Он передал мне ответ, написанный императрицей собственноручно на четырех страницах большого формата. Она входила во все подробности дела, останавливаясь также на впечатлении, которое оно могло произвести, и удостаивала меня даже объяснений в свое оправдание, что заканчивалось следующими знаменитыми словами: «Возможно, что с точки зрения законодательства ваши мысли лучше моих, но мои мысли – закон, и ваши должны им подчиниться; я, впрочем, требую, чтобы вы ими пожертвовали в знак вашей привязанности ко мне, на которую я рассчитываю». Я хотел положить в карман это драгоценное доказательство одобрения и уважения, но фельдмаршал объявил мне, что ему приказано отобрать это письмо и отнести его обратно и что все, что он может мне разрешить, – это прочесть его еще раз, что я и сделал. Я собирался ответить на письмо, но Салтыков сказал, что императрица мне это запрещает и что этим дело для меня вообще кончено. И, действительно, она отняла у суда совести это дело и предоставила себе самой решение.
Вечером я опять явился ко Двору. Ее Величество обошлась со мною, как с лицом, с которым у нее есть секреты, а придворные старались у меня заискивать. Скоро после того я уехал к своему посольскому месту в Неаполь. Но несмотря на мое отсутствие, а затем мое заключение, императрица никогда не произнесла решения по этому делу. При воцарении же Павла I, на письменном столе покойной императрицы нашли мою записку в два столбца, которая чуть было не стоила мне дорого. Император ее прочел и написал внизу под моею подписью: «Быть по сему!» Эти три слова превратили мою записку в императорский указ, послужили руководством для Сената и заставили, наконец, наследников князя Потемкина уступить князю Любомирскому.








