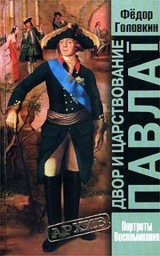
Текст книги "Двор и царствование Павла I. Портреты, воспоминания"
Автор книги: Федор Головкин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 29 страниц)
Флоренция, 21 апреля 1817 г.
…Я получил доказательство памяти обо мне, доставившее мне большое удовольствие; а именно от добродушного неаполитанского короля, не принимавшего никакого участия в преследованиях, жертвою которых я сделался со стороны покойной королевы. Он поручил Нарышкину выразить мне свое благоволение и много обо мне расспрашивал… Я думаю, что Юрий должен втайне радоваться приключениям лорда Амгерста в Китае. Статьи газет по этому поводу являются для него как бы оправдательными документами, на публикацию которых он получил разрешение[316]316
Это намек на неудачу графа Юрия Александровича Головкина в своей китайской экспедиции в 1805 году.
[Закрыть].
Флоренция, 23 апреля 1817 г.
…Я получил из Петербурга очень странное известие. Вы знаете, как мой брат[317]317
Граф Петр Гаврилович Головкин, обер-егермейстер, был женат на Софье Александровне Демидовой.
[Закрыть] расстроил свои дела, как он навлек на себя немилость за то, что взял отпуск, как он запутался в этом ужасном водочном процессе, стоившем состояния стольким лицам. 7-го марта вечером он сидел со своей женой, оплакивая свои потерянные поместья, которые были назначены в продажу с публичных торгов на другой день, как вдруг отворяется дверь, и курьер приносит ему, от имени государя необходимую для его спасения сумму. Это – заем, но бессрочный и беспроцентный. Вот – чудо, с какой стороны ни смотреть на это происшествие, и милость весьма солидная. Обер-камергер Нарышкин, профессор в придворных делах, объяснил мне это чудо.
Дело в том, что приближается день свадьбы[318]318
Здесь идет речь о свадьбе великого князя Николая Павловича, брата Александра I, с принцессой Шарлотой прусской, которая была отпразднована 1/13 июля 1817 г.
[Закрыть] и что некому на ней предводительствовать; самое подходящее лицо для этого – мой брат, но полагают не без основания, что он обижен за то, что его не назначили по смерти Толстого обер-гофмаршалом, и вот хотят его поставить в такое положение, чтобы он не мог отказаться от обязанностей, в которых он достиг совершенства. А после свадьбы его назначат на эту высокую должность, принадлежащую ему по старшинству! Да благословит Господь государя и его слуг! Что касается меня, то я предпочитаю быть главным надзирателем дворцов и садов г-на д’Аррюфана!..
Флоренция, 12-го
Я когда-то был в дружбе с супругой президента парламента в Бордо, которая начинала все свои разговоры словами: «Я вам заявляю!», что заставляло герцога Лаваля спрашивать меня, до какой степени заявлений я дошел с моей президентшей. Я должен Вам сегодня заявить, мой друг, что я не могу дольше переносить тоски по родине!
Не потому, что мне здесь не нравится – напротив. Местность прелестна. Г-жа д’Альбани по-прежнему относится ко мне благосклонно, общество – снисходительно, великий герцог – милостиво; англичане по-прежнему смешны, но все это без Вас и не в Вашей стране, а потому я не могу больше перенести ничего другого. К тому же, у меня на шее огромное хозяйство Нарышкиных. Они должны были уехать еще восемь дней тому назад но Каффила, вторая калмычка г-жи Нарышкиной, захворала расстройством желудка, и на этом основании отменили заказ сорока лошадей и развязали тысячу узлов, и я всему этому не предвижу конца!
То, что Вы мне пишете по поводу князей Суворовых – совершенно верно, но если бы хорошие дела делались иным путем, чем в силу долга, они вовсе не делались бы. Эти мальчики, носители великого имени, обладают самыми лучшими данными, но имеют перед собою только то богатство, которое им самим удастся составить, казались почти что предоставленными на большой дороге самим себе; стало быть, их надо было оттуда взять, но никто об этом не думал; надо было напомнить о них императору, но никто не посмел это сделать; надо было им заменить отца и я нашелся, чтобы исполнить этот долг. Всякий сделал бы то же самое, и я не нуждаюсь в их благодарности. Это дело останется между Небом и мною.
Но я сделал еще худшую вещь, чем та, в которой Вы меня упрекаете. Я отнял у матери ее дочь и передал ее бабушке, чтобы она увезла ее в Россию. Я не мог перенести мысли, что эта молодая девушка четырнадцати лет догадается о предстоящих родах своей матери, и благодаря моему красноречию и моей находчивости все произойдет без свидетелей, без скандала, и если только большой караван снимется отсюда 20-го числа, то Нарышкины тоже ничего не будут знать об этом.
К тому же приблизительно времени я собираюсь отправить моих питомцев, в сопровождении этого добродушного голландца, который в пути будет считаться их отцом. Я не желаю, чтобы эти маленькие люди сдались в каком-нибудь итальянском городе предметом поклонения, которое их громкое имя могло бы вызвать, и хочу, чтобы они вышли из моих рук такими же простыми и милыми и прибыли в Гофвиль без спеси и дури. Не могу Вам сказать – ибо я справедлив – до какой степени я в этом деле доволен императором Александром. Он меня отлично понял, и это преклонение всемогущества перед здравым смыслом делает ему честь. Г. Фелленберг, директор Гофвильского заведения, был тоже в высшей степени корректен. Я не скрыл от него небольших средств этих детей и своего сожаления по поводу того, что я не могу предоставить им всех преимуществ блестящего воспитания, которое дается его пансионом. Он мне на это ответил, что предоставить им все преимущества и что условия будут вполне зависеть от меня. Таким образом, в силу полномочия, данного мне с обеих сторон, я мог решить это дело по своему усмотрению, и оно мне вполне удалось. Я буду уж очень стар, когда эти дети сумеют оценить все значение оказываемого им благодеяния, но я умру с сознанием, что я не был совсем бесполезен и более счастливым, чем если бы этот случай не отдал их в мои руки.
Моя переписка с Каподистрия одна из самых оригинальных, какие можно себе представить. Он меня осыпает любезностями по приказанию свыше, а также за свой собственный счет, а я все остаюсь при своей прежней манере. В своем сегодняшнем письме я ему пишу: «Сколько Вы ни старайтесь, Вы не заставите меня полюбить либеральное просвещение и либеральные мысли. Эти слова только талисманы, с которыми считают все дозволенным». А затем я еще присовокупляю, по поводу его любезностей: «Я сожалею, что Вы не подумали меня навестить, когда были в последний раз в Швейцарии; но Вы этого не хотели, а я никому не навязываюсь. Вы меня скоро оценили и узнали бы, что я стою гораздо меньше и в то же время гораздо больше, чем моя репутация; тогда Вы лучше поняли бы свободу, которую я позволяю себе в общении с Вами и которую вы, вероятно, прощаете мне только в силу Вашего ума».
Я полагаю, что Вы уже прочли рукописи с острова Св. Елены[319]319
Головкин, как и многие другие, в данном случае был введен в заблуждение очень ловкой подделкой женевского писателя Люббен ду Шатовье (1772–1842) под названием «Рукопись полученная неизвестным путем с острова Св. Елены», Женева 1817 г. Это сочинение, между прочим, приписывали Банжамену Констану, а затем г-же Сталь. Завеса анонимного писателя была приподнята гораздо позже, после выхода этого сочинения.
[Закрыть]. Мы получили их здесь из Лондона с курьером. Нет ничего более интересного и, по моему мнению, более подлинного. Если это не писано Бонапартом, то и «Кандид» не писан Вольтером. Усомниться в этом может только тот, кто его не изучал и никогда с ним не говорил. Это именно его беспорядочные и вместе с тем исполинские мысли, его громкие слова, его ужасные признания, его привычные смелость и независимость; его ловкость щадить некоторых лиц и некоторые мнения; это маленькое сочинение, кажущееся результатом скучного досуга, полно намерений и проектов. Я очень доволен, что прочел его, ибо весьма приятно видеть, как подобный человек сам себя изобличает и говорит то же самое, что говорю я, хотя мое мнение оспаривают; впрочем, я не понимаю, с какой стати извлекли на свет Божий это произведение тьмы и что могло заставить английского министра позволить или приказать публиковать его. Это сочинение запрещено во Франции, но Вы увидите, что оно вовсе не там может быть опасным.
У меня в настоящее время имеется на лицо доказательство злосчастной звезды, преследующей меня; это некто Шевалье О’Ара[320]320
Шевалье О’Ара (O’Hara) проживал в Петербурге в течение последних годов восемнадцатого столетия. Будучи эмигрантом и не имея никаких средств, он благодаря графу Шуазель-Гуффье, получил место в императорской публичной библиотеке. Графиня Головина, у которой он в Петербурге бывал запросто, отзывается о нем в своих «мемуарах» только с хорошей стороны. См. Keonce Pingand «Lrs Francias eu Russie» стр. 311–313, где имеются о нем некоторые подробности.
[Закрыть], скучнейший из людей, который ко мне пристает, что он, впрочем, делал уже два раза, в Петербурге и Теплитце. Он так многоречив в своих рассказах, что когда он входит в комнату, надо отказаться от всяких других проектов на этот день. Он так отклоняется от предмета разговора, что, по удачному сравнению Нарышкина, напоминает механизм тех бочек, которые предназначены орошать улицы на возможно большем пространстве; он сделался таким пугалом для всех своих знакомых, и последние так жестоко к нему относятся, что у меня не хватает смелости уклоняться от его разговоров. Г-жа д’Альбани сказала мне раз: «Вы увидите, что он вас попросит привести его ко мне». – «Никогда, – ответил я, – он слишком церемонный, пожелает быть вам представленным самим посланником». – «Все равно, в данном случае он предпочтет вас!» И действительно, он не замедлил обратиться ко мне по этому поводу. Но она дорого заплатит за свое предчувствие. Он ей расскажет всю историю Стюартов и все жертвы, которые им принесло семейство о’Ара и будет настаивать на том, чтобы она прослезилась из-за участи Претендента и кардинала Иорка, о которых он упоминает не иначе, как опуская свои большие глаза. Может быть, что в конце концов это начнет меня забавлять…
Флоренция, 31 мая 1817 г.
Знаете ли Вы, что я получаю теперь известия из Парижа только от Вас? Я так отстал от большей части моих друзей, а те, от которых я не отстал бы, так давно умерли, что, глядя на мою переписку, можно подумать, что я никогда не бывал в этой стране. У меня там остались только связи с государственной полицией. Меня предупреждают о вещах, относительно которых думают, что я их буду хвалить и желают знать мое мнение о всех мерах, предпринимаемых посланниками короля за границею, для безопасности правительства. Мне, например, не отказали в удовольствии известить меня, что Савари[321]321
В то время, когда Головкин писал это письмо, Савари (герцог Ровиго) переехал из Смирны в Австрию. При бегстве с острова Мальты у него не оставалось другого выбора, как искать защиты на турецкой территории. В Италии он не чувствовал себя в безопасности, а во Франции он был приговорен к смерти.
[Закрыть], будет пойман и заключен в Триесте, что действительно произошло так, как мне было обещано; что будут преследовать Сантини[322]322
Сантини был камерфурьером при императоре Наполеоне I. Англичане его прогнали с острова Св. Елены, куда он последовал за Наполеоном. О приключениях Сантини, по возвращении его в Европу, на послесловие из «Memorial de Sainte-Helene». Лас Казаса. (Брюссельское издание, 1824 г.).
[Закрыть] и возьмут его за горло и т. д. А я, со своей стороны, хлопочу о том, чтобы отправить в Америку эту негодяйку Реньо, связанную по рукам, по ногам и по зубам[323]323
Г-жа Реньо де Сен-Жан д’Анжели, урожденная Боннель. Ее муж, статс-секретарь императорской фамилии, был изгнан приказом от 17 января 1816 г. и должен был скоро после того бежать в Америку. В «Мемуарах» генерала Тьебо находятся несколько страниц, оправдывающих название ее «негодяйкой».
[Закрыть].
Флоренция, 23 июня 1817 г.
…Каподистрия тяжко болен и просит уволить его в отставку, или разрешить ему отправиться в путешествие. Это удобный случай сказать: «врач лечи себя сам», ибо он в течение пяти лет изучал медицину в Падуе и в Пизе и удостоился, вместе с некоторыми другими лицами родом из Флоренции, степени доктора медицины. Его здесь все знают и все сходятся во мнении, что это умный человек, при том сведущий и обладающий добрым сердцем; но он никогда не был дворянином, даже на своей родине, где легко быть им. Это, конечно, не имеет значения, раз он полезный и честный человек, но зачем же тогда претендовать на такую ничтожную вещь, как графский титул, на который он не имеет права? Но как все христиане, он будет иметь свой роман и захочет украсить им историю.
Флоренция, 28 июня 1817 г.
Со мною только что произошла такая необходимая вещь, что если бы Вы, вместо того чтобы прочесть ее в этом письме, нашли ее в Библии, Вы не усомнились бы в наличности чуда. Но для начала мне нужно вернуться к прошлому. Уже два года мне в России не удается довести до конца ни одного дела и вот почему. Когда меня отозвали из Неаполя, моя опала показалась всем столь неожиданной. Что г. Бержье, мой банкир, и г. Виоццоли, австрийский генеральный консул, сочли нужным, в наших общих интересах, наложить арест на мои вещи. После годичного заключения, покончив с ними расчеты, я добился отмены этого ареста и не думал больше об этом. Спустя двадцать лет, желая окончательно распорядиться своим имуществом, я не мог этого сделать по той причине, что я в свое время не заявил правительству о снятии ареста. Но где отыскать составленный о том документ? Находился ли он в одном из сундуков, сгоревших во время пожара Москвы, или же в одном из старых ящиков, оставленных в Берлине и припрятанных неизвестно где г-жей Брюж? Г. Берже любезно согласился возобновить этот документ, но г. Виоццоли обанкротился и исчез неизвестно куда. Все поиски оказались тщетными, и я считал его мертвым или скрывшимся, отчаивался когда либо иметь возможность распорядиться своим имуществом. Подумайте, какое это для меня было несносное стеснение!
И вот я полчаса тому назад собрался Вам писать, как мне вдруг докладывают о приходе главного директора государственных имуществ Ломбардского Королевства. Так как ради князя Меттерниха вся австрийская монархия за мною ухаживает, и я уже имел случай воспользоваться любезностями местной администрации, я счел долгом его принять. Его впустила. Никогда дорогой друг, я не испытывал подобной столь неожиданной радости! Это был г. Виоццоли! Он был так удивлен моим радостным приемом, что даже смутился: «Знайте, милостивый государь, что ангел, сидящий верхом на голубовато-золотистом облаке, показался бы мне теперь менее прекрасным и достойным любви, чем Вы!» И я стал его целовать, так что он, вероятно, подумал, что я сошел с ума, пока я, наконец, не объяснил ему причину моей пылкой любви. Завтра он мне принесет надлежащий документ, и мои седые волосы, наконец, освободятся из-под этой опеки. Согласитесь, что это одна из тех милостей Провидения, которые превосходят всякие человеческие ожидания. И подумал, что мне стоило только поехать в Милан, где находился этот господин, и остановиться у него в замке, где он проживает, чтобы освободиться от томления, в котором я находился восемь месяцев! А я думал, что он уже на том свете и просил Господа оказать мне благодеяние и отыскать хотя бы его книги, чтобы найти этот документ, который я не знал, где искать. Я до сих пор не могу прийти в себя и не знаю, откуда я почерпнул силу, чтобы Вам рассказать это происшествие.
Флоренция, 18 июля 1817 г.
…Я хотел вознаградить барышню Лунину за то, что она распространила слух о моем красноречии[324]324
См. письмо от 16 октября 1816 г.
[Закрыть]. Несмотря на стотысячный годовой доход, составляющий ее приданое в день ее свадьбы, ей еще не удалось выйти замуж. Двадцать три раза ей делали предложени, но ни разу ее отец (сумасшедший), ее мать (дура) и она сама не могли прийти к соглашению; недавно еще отказали князю Кампасса, испанскому гранду и красавцу мужчине. Поэтому я взял ее под свое специальное покровительство. Заметив. Что она влюблена в одного молодого человека[325]325
Т. Риччи.
[Закрыть], который, не обладая ничем кроме красивой внешности и крупного таланта к пению, не решался представиться Луниным, я просил г-жу д’Альбани сделать от его имени предложение; оно было принято, и все кончилось благополучно. Сегодня я, в качестве доверенного жениха, установил все условия, и через три недели будет отпразднована свадьба, кажется, на водах в Лукке.
От этого неожиданного счастья бедная девушка так охрипла, что я дрожу при мысли, что она вчера вечером могла иметь меньше успеха, чем обыкновенно. «Ах! В какое ужасное осиное гнездо вы меня толкнули», – сказала вчера вечером г-жа д’Альбани, – «до чего эти люди глупы. Как вы это можете перенести при вашем не особенно терпеливом характере! У меня закружилась голова и я, наконец, сама не знала, что говорю». Я не стану утверждать, что моя голова тоже не закружится сегодня утром, ибо отец в одно и то же время расточителен и скуп, нескромен и лжив, низок и противен; но я запасся храбростью, а мое общественное положение тоже окажется не вредным при переговорах с ним, ибо для того, чтобы повлиять на действительного статского советника Лунина требуется только поставить его лицом к лицу с величием и властью. Он мне вчера сказал: «Дорогой граф, устройте так, чтобы князь у меня пообедал, и я готов на все что вы хотите». Что Вы на это скажете, дорогая кузина, разве он не благороден?
Флоренция, 24 июля 1817 г.
Сегодня утром я имел большую радость. Я писал Вам о браке, готовящемся между Луниной и Риччи. Отец невесты требовал непременно, чтобы его зять был титулован, а жених принадлежал к одной из тех старинных аристократических фамилий, которые никогда не желали иметь титула. Но я решил устроить это дело, и только что получаю известие, что великий герцог Тасканский был настолько добр, что возвел жениха в графское достоинство. Его Императорское и Королевское Высочество выказал при этом такую милость и быстроту, которые меня глубоко тронули. Я пользуюсь отъездом Меттерниха, чтобы сообщить через него это счастливое известие в Лукку, так что г. Лунин узнает об этом завтра утром при вставании с постели.
Флоренция, 26 июля 1817 г.
…Принцесса Уэльская[326]326
Каролина принцесса Брауншвейгская (1768–1821) вышла замуж за наследника английского престола, впоследствии короля Георгия IV.
[Закрыть] более сумасбродна, чем когда-либо; она не дает покоя папе и кардиналу Консальви, чтобы они пожаловали Бергами Мальтийский крест. В памятной записке, которую она представила по этому поводу, она ссылается на довольно оригинальные примеры: на Риччио, любимца Марии Стюарт, и на князя Мира[327]327
Князь мира – Prince de la Paix – так звали известного Годой, первого министра в Италии при короле Карле IV (1788–1808) и любимца королевы (Прим. перев.)
[Закрыть]. Нельзя было найти, ни среди живых, ни среди мертвых никого менее подходящего!
Мне сообщили некоторые любопытные подробности о ее связи с Бергами. Она просила генерала Пино рекомендовать ей хорошего курьера. Он прислал ей этого человека, присовокупив, что несмотря на его ум и храбрость, он считает своим долгом предупредить ее, что этот человек два раза судился и что во второй раз он его с трудом спас от виселицы. Это, однако, не послужило препятствием, и четыре небольших путешествия порешили его счастье. При первом он был только курьером; при втором он сидел рядом с кучером; при третьем – в карете и был допущен к столу; а при четвертом он уже очутился в постели[328]328
Тут подразумевается постель в карете, какие устраивались в те времена в дормезах.
[Закрыть] – и к тому же публично. Он любил играть на сцене, и на даче, где принцесса имеет свое пребывание, был сооружен театр и была составлена труппа, в которой приняла участие сама Ее Королевское Высочество. Весь Милан и Комо получили приглашения на это представление и там можно было видеть то, чего никогда никто раньше не видал, а именно: каждый раз, когда являлась принцесса, в сопровождении Бергами, им неистово рукоплескали, а всех остальных освистывали с остервенением. Это было до того смешно, что в следующие разы никто из знати не счел возможным прийти, и пришлось удовольствоваться зрителями из простого народа.
Луккские воды, 6 августа 1817 г.
…Хотите, чтобы я Вам рассказал анекдот, который меня очень развеселил? Вы, конечно, слыхали про принципы курфюрста Гессенского, который смотрит на все двадцать пять лет Революции как на вещь не существующую. Он восстановил все то, что ему раньше принадлежало в смысле прав и имуществ и предоставил всякому делать то же самое. При этом он нисколько не горячится, а действует с точным спокойствием и твердою решительностью. К одному генерал-лейтенанту, который достиг этого чина не при нем, он любезно обратился со словами: «Здравствуйте, господин капитан!» Больше всего досады ему причинила отмена кос в войсках, и он приказал, чтобы в течение трех месяцев каждый опять заплел себе косу, длиною не менее трех футов. Так как это невозможно было исполнить, то прибегали к двум способам, чтобы не ослушаться его приказания: одни привязывали искусственную косу к отросшим за это время собственным волосам, а другие прикрепляли косу к своим шляпам. Когда недавно стояла очень жаркая погода, все старались прохладиться, и занимавшие караул во Дворце сняли свои шляпы. Вдруг их предупреждают о приближении курфюрста; каждый хватает первую попавшуюся шляпу и все становятся в ряд, но в замешательстве фланговый, у которого уже была коса, взял шляпу, на которой была прикреплена другая коса, так что у него оказались две косы. Курфюрст это скоро заметил. Распустив караул он подзывает к себе флангового и, вынимая из своего кармана лундор, говорит ему со слезами на глазах: «Я знаю, что ты всегда мне был предан, я очень доволен твоею верною службою, но постарайся все таки не преступать моих приказаний!» Это как будто сочиненная, ради потехи, сказка, но я могу Вас уверить, что это взято из официального рапорта и совершенно достоверно. Согласитесь, что это новый род помешательства, который мог появиться только у немецкого князька, или у батальонного адъютанта…
Луккские воды, 9 августа 1817 г.
…У нас здесь гостит этот маленький Бартольди[329]329
Иосиф Соломон Бартольди был известен в Риме, как меценат художников. Знаменитый композитор Феликс Мендельсон-Бартольди был его племянником.
[Закрыть], прусский генеральный консул при всех итальянских Дворах, что вынуждает его быть в вечном движении, которое он любит, как свой элемент. Он все видит и все знает, ко всему прислуживается и старается быть полезным; словом, по моему мнению он несносен, но люди с положением щадят его на всякий случай… Это еврей из Берлина, который, будучи в Риме, крестился, но, ради оригинальности, насмеялся над Св. Коллегией и сделался реформатором. Об этом обращении зашла речь в большом обществе «Что это за обращение: – сказал один старик кардинал – господин Бартольди только переменил комнату в обиталище дьявола», – сказал один старик кардинал. – Вы, конечно, будете очень возмущены подобным изречением, моя дорогая кузина, но потом вы над этим посмеетесь, ибо в устах кардинала эти слова звучат очень красиво!
Флоренция, 2 сентября 1817 г.
…Я не знаю, что делает мой брат. Его обошли при назначении на место обер-гофмаршала к великому скандалу всей России… Ваши сведения о свадьбе Луниных совершенно неверны. Господин Риччи, благодаря мне, уже граф и камергер Австрийского императора и ему это ничего не стоило. Я жду его сегодня из Рима с надлежащими разрешениями церковных властей. Генерал Хитрово исчислил мне сегодня все, что я сделал для русских за время моего пребывания здесь, и я сам этому удивился.
Празднество в Ливорно [330]330
Прежде чем покинуть Флоренцию, граф Феодор по приглашению князя Меттерниха, отправился в Ливорно, чтобы присутствовать там на празднествах, устроенных по поводу бракосочетания дон Педро, наследного принца Бразилии с Леопольдиной Эрцгерцогиней Австрийской (1817 г.).
[Закрыть]
Следующий день был кануном нашего отъезда из Ливорно и мы решили, что после посещения г-жи д’Альбани, я вечером у графини Аппони встречусь с Меттернихом. Все были в восторге, что предстоит момент отдыха, и великий герцог не мог воздержаться, чтобы не сказать, потирая себе руки: «Наконец-то завтра все будет сказано и сделано и не придется так скоро увидеть друг друга».
От г-жи Аппони я узнал, что Его Императорское Величество действительно на другой день уедет, но что другие Дворы еще останутся один день и что я, таким образом, побуду еще сутки на берегу Средиземного моря. Мы мирно разговаривали вдвоем, как вдруг докладывают о приходе человека, имеющего мне что-то передать от имени Бразильской принцессы. «А! это верно шутка нашего дорогого князя, – сказал я, – вы позволите его впустить, графиня?» В комнату входит господин, одетый в черный костюм со шпагой, имеющий вид камерфурьера и обращается ко мне со словами: «Ее Императорское и Королевское Высочество не хочет покинуть Европу, не познакомившись раньше с таким известным своими достоинствами лицом, как Ваше Сиятельство, и просит вас пожаловать завтра в десять часов утра на палубу корабли Жуан VI», куда маркиз Мариальва будет иметь честь вас проводить».
– «Но знаете ли вы, с кем вы говорите?» – спросил я удивленно. – «С Его Сиятельством графом Головкиным, бывшим российским посланником в Неаполе». – «В таком случае, милостивый государь, я прошу вас повергнуть к стопам Ее Императорского и Королевского Высочества мой ответ, что я не премину явиться завтра в десять часов». Я не мог удержать от хохота, но графиня Аппони не смеялась. Меттерних казался ей слишком сдержанным и дипломатичным, чтобы впутать имя эрцгерцогини в такую шутку. Тем временем подошел ее муж, и мы просили его разрешить наше недоумение. Он присоединился к своей жене.
Мы еще спорили об этом, как доложили о приходе камердинера эрцгерцогини Марии Луизы[331]331
Бывшей императрицы и супруги Наполеона I.
[Закрыть]: «Ее Императорское Величество, узнав, что Ваше Сиятельство завтра пожалует на палубу судна португальской эскадры, и желая разделить с Бразильской принцессой удовольствие вашего знакомства, сами желают вас проводить туда и будут ждать Ваше Сиятельство в своих покоях ровно в девять часов утра». – «Но знаете ли вы, с кем вы говорите? – повторил я ему свой вопрос и получил тот же ответ. Дело принимало трагический оборот. Я как-то неловко сделал большой реверанс и просил доложить Ее Величеству, что я повинуюсь ее приказанию, а затем опустился в кресло. «А что!» – поддразнивала меня графиня Аппони. «Ну что же!» – заметил граф, поглядывая на меня с любопытством, ибо он с трудом привыкал видеть меня на почве, которую он считал своею, находя, что он делает мне много чести, что вообще замечает меня; а тут я оказался стоящим так высоко над ним и над всеми другими! Я ничего не отвечал и углубился в мысль об этом досадном приключении, все еще надеясь каким-нибудь способом отделаться от него, как в комнату вошел князь Меттерних.
К счастью, он пришел один, ибо между нами произошла очень бурная сцена. Я жаловался на то, что он злоупотребляет относительно меня своим положением и обстоятельствами, и настаивал на том, то я никому не дал права распоряжаться моей свободой, даже самому государю; я напомнил ему также, что у меня с собою нет другой одежды, кроме той, что на мне. «Эрцгерцогиням все это известно, но они все-таки желают вас видеть, чтобы с вами познакомиться и побеседовать». – «Я не принадлежу к таким людям, с которыми можно себе позволить играть комедию, – продолжал я протестовать. – Если я бываю любезен, то для своих друзей, а не для принцесс, которых я, конечно бы обо мне, если бы они знали что делать со своим временем». – «Говорите, что хотите, – ответил Меттерних, – но я полагал, что имею право отвечать за вас, как за своего друга, и вы, надеюсь, не поставите меня в неловкое положение, ибо такой отказ не переносят даже от родного брата!» И он вместе с Аппони, который разыгрывал возмущенного, стал мне восхвалять чрезвычайное значение лестного отличия, выпавшего на мою долю. Они старались выставить беспримерную милость, заключающуюся именно в том, что меня приводило в бешенство. Наконец, я схватил свою шляпу и выбежал.
Но утро мудренее вечера, и за ночь я передумал. Бессонница дала мне время сообразить, что мне придется видеть много интересного и это я все увижу лучше чем кто-либо другой; а что если при этом выйдут неловкости, то они отразятся на самом Меттернихе или на эрцгерцогинях; поэтому я решил, что самое умное – предоставить этому делу свой ход. Я приказал моему камердинеру почистить мой жалкий костюм, состоявший из фрака, серой шляпы и легких нанковых панталон, и ровно в девять часов явился во дворец Ее Императорского Величества, прося доложить обо мне обер-гофмейстеру императрицы графу Нейппергу. Эрцгерцогиня тотчас же вышла сама в сопровождении князя Меттерниха, приветствовала меня несколькими лестными словами, и мы сквозь громадную толпу народа поехали в порт. Там нас ждала большая гондола, белая с бронзовыми украшениями, с возвышающимся посреди шатром из малиновой камки, над которым развивался большой тосканский флаг, с матросами, одетыми в ярко-красный цвет с золотыми галунами. Ее Императорское Высочество. Вошла в гондолу с графиней Каприани, ее статс-дамой, графом Нейппергом, князем Меттернихом и мною.
Когда мы вышли из порта, море оказалось очень бурным. Ее Величество побледнели, и это мне тоже дало возможность обнаружить, что я чувствую себя скверно. Мне всегда казалось, что самая страшная смерть – утонуть, и такое волнение, как то, которое нам тогда пришлось испытать, было для меня несносным. В один момент, когда ветер еще усилился, Мария Луиза мне сказала: «Старайтесь рассеяться, а главное не смотрите на море. Делайте как я, восхищайтесь прекрасно навакшенными сапогами князя».
«Ваше Величество, мои глаза заняты только одним предметом, и стихия, на которой мы находимся, даже не доходит до моего сознания. Если бы нам грозила хотя бы малейшая опасность я знал бы чем заняться, помимо сапог». Мои слова произвели хорошее впечатление. Она не даром была во Франции и отлично знала, что оттенок волокитства не мешает почтительности.
Нам пришлось проплыть три мили, пока мы добрались до эскадры; ветер не только был очень силен, но дул нам навстречу, так что переезд был продолжителен и труден. Причаливание к «Жуану VI» оказалось по истине ужасным. Гондола-то находилась на воздухе, а корабль погружался в пропасть; то эта пропасть разверзалась перед нею, и корабль уходил туда вместе с нею. Когда мы собирались броситься к трапу, нас удерживали матросы; и когда мы в следующий момент хотели выжидать более благоприятного случая, нас заставляли выходить, одним словом, я не могу себе представить и не припомню всех этих переходов с одного судна на другое, которое мне пришлось пережить в этот день. Бразильская принцесса встретила императрицу на верхней площадке трапа. Я заметил, что мое присутствие сильно отвлекает Двор от установленного церемониала. Испанцы и португальцы еще не приучились терпеть, чтобы к их принцам относились с неуважением. Но князь Меттерних, который, благодаря своему положению, привык не стесняться ничем, взял меня за руку и представил меня принцессе перед фронтом гвардии, которая в это время била поход и производила, вместе с музыкой поставленной на корме, ужаснейший шум. Он привел дикаря и это для него было своего рода торжество; но португальский обер-гофмейстер, который хорошо знал свое дело, сказал очень громко: «Я надеюсь, что князь Меттерних сделает мне честь сказать мне, кто этот иностранец, которого он представляет Ее Императорскому и Королевскому Высочеству». Князь, нисколько не смущаясь, ответил так же громко: «Это русский вельможа, мой попутчик, мой гость, и я желал чтобы Ее Императорское и Королевское Высочество с ним познакомилась, прежде чем расстаться с Европой». Когда же принцессы отошли, он меня представил ему, извиняясь несколькими словами в виде объяснения.
Этот обер-гофмейстер – граф Кастель-Мельор, внук того, который употребил, в качестве фаворита, во зло сумасшествие короля Альфонса; это очень важный барин, которого в своих поместьях застал ордер из Рио-де-Жанейро сопровождать эрцгерцогиню в Бразилию, что заставило его немедленно сесть на корабль вместе с женою, произведенною в статс-дамы принцессы, довольно хорошенькою, но вечно заплаканною, пятью маленькими вечно больными детьми и прислугою, состоящею из сорока человек. Обер-шталмейстер, маркиз Пенафьель, высокий мужчина с довольно красивым лицом, что редко встречается среди вельмож его страны, получил приказание показать мне каюты принцессы, куда, строго говоря, ни один иностранец не имеет доступа; но на море – много вольностей, а мое ничтожество имело свои преимущества. Я никогда не видел ничего более изящного. У входа, вместо дверей, опускалась тяжелая бархатная портьера малинового цвета с вышитыми на ней португальскими гербами. Гостиная была из индийской кисеи, вышитой золотом на голубом фоне; вдоль стен стояли диваны, покрытые такою же материей. Направо, над клавикордами, висел портрет Бразильского принца в натуральную величину, представляющий его в виде очень красивого, но плохо нарисованного мужчины; налево была размещена избранная библиотека, которую Мариальва выписал из Парижа. С той же стороны была дверь, ведущая в спальню, обитую кисеей, вышитой серебром на розовом фоне. Кровать, стоящая посреди комнаты, напоминала большую золотую колыбель; в тихую погоду она покоилась на бронзовых ногах, а в бурную – подвешивалась на золотых канатах: она была покрыта драгоценнейшими кружевами, какие только существуют. Золотой туалет превосходнейшей работы украшал глубину этой каюты. Другая каюта, по ту сторону гостиной, служила гардеробом, и мне ее показали только издали. По всю сторону гостиной находилась столовая, освещаемая сверху и очень красиво разукрашенная арабесками.








