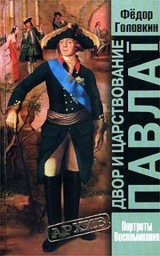
Текст книги "Двор и царствование Павла I. Портреты, воспоминания"
Автор книги: Федор Головкин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 29 страниц)
Фуше сказал мне однажды:
– Не боитесь ли вы лишиться того хорошего мнения, которое император имеет о вас? Возможно, что Его Величество выскажет вам по этому поводу свое мнение, чтобы указать иностранцам те пределы, которых они должны придерживаться в таких случаях, как настоящий! – «Я считаю это так же возможным, как и вы, милостивый государь, – ответил я ему, – но император, я надеюсь, уверен, что я этим воспользуюсь, чтобы указать иностранцам пределы того, что можно в подобных случаях ответить». Сцена, которою мне грозил министр, не имела места, и Бонапарт обошелся со мною весьма вежливо, как он это всегда делал и раньше.
За это время мы имели случай убедиться в том, какое неудобство представляют для политического деятеля любовные интриги. Однажды утром графиня Меттерних получила от герцогини Абрантес (г-жи Жюно) записку с настоятельною просьбою немедленно зайти к ней. Графиня тотчас же отправилась к герцогине, но каков был ее ужас, когда она очутилась лицом к лицу с герцогом, крайне разгневанным, который, заперев за ней дверь на замок, воскликнул: «Мы оба обмануты! Я только что перехватил письма вашего мужа к моей жене и пригласил вас, чтобы вы были свидетельницей удовлетворения, которое я намерен вам дать. Наше дело общее, и наша месть тоже должна быть общею». Можно себе представить положение маленькой, худощавой и вовсе не красноречивой особы, тяжко оскорбленной в своих чувствах, в присутствии взбешенного человека, без принципов и без воспитания, который кричал на весь квартал. Она все же нашла средство его успокоить, добилась его позволения переговорить сначала с его женой, опасавшейся за свою жизнь, и, наконец, убежала домой. Ей после этого следовало пойти прямо в Тюильрийский дворец, рассказать всю эту историю императору и потребовать от него удовлетворения за поступок Жюно, а также защиты для его жены, но графиня Меттерних посмотрела на это иначе, и, испугавшись скандала, начала вести переговоры с Жюно, свела дружбу со своей соперницей и в результате устроила дело так хорошо, что когда Бонапарт опять с ней встретился, он ее обнял и сказал ей: «Вы добрая маленькая бабенка, сумевшая избавить меня от большой неприятности с этим дураком Жюно».
Я должен признаться, что этот комплимент не утешил бы меня после такого оскорбления, которое усугубилось обстоятельствами, сделавшими его для супруги посла особенно чувствительным.
Когда был заключен мир, Меттерних вел переговоры по поводу женитьбы Бонапарта на старшей из эрцгерцогинь, чем предполагалось на сей раз запечатлеть мир. Я тогда перестал посещать Тюильрийский дворец и стал лишь изредка встречаться с Меттернихом. Не могло быть интимности сношений там, где было столь большое разногласие в принципах, и каждое из моих слов, каждый из моих взглядов, по необходимости, заключали бы в себе упрек или эпиграмму; а что касается благодарности за мои заботы о его семействе, то мне нельзя было рассчитывать на нее после того, как Бонапарт так вскружил голову графине Меттерних, что она ожидала от него величайших благ, и что мое поведение, во время ее пленения, казалось почти что дерзостью перед героем, которому она поклонялась. События следовали одно за другим с невероятною быстротою, Меттерних скоро стал премьер-министром и превратился для меня в газетную знаменитость, интересующую меня только потому, что я должен был признать в нем качества и таланты, которые я мог скорее оценить, чем кто-либо другой, хотя его узкая и лживая политика меня тем более раздражала, что вызываемые ею соображения большею частью относились ко мне[276]276
Они снова встретились лишь в 1817 г. во Флоренции. Когда Меттерних впервые увидал Головкина в столице Тосканы, он вскрикнул, бросился в его объятия и остался некоторое время в таком положении, под влиянием сильнейшего волнения. «Зная, что я провожу вечера у г-жи д’Альбани, – рассказывает граф Федор, – он в этот же день представился ей. Он вошел, присел на один момент с хозяйкой, а затем, со словами: «Надо мне поухаживать за графом Головкиным» вышел из ее круга, сел рядом с моим креслом и больше не вставал со своего места в течение всего вечера. Столь теплая и явная дружба озадачила дипломатический корпус и министерство Тосканы. Я сделался предметом общего внимания. Так как Меттерних никогда не упускал титуловать меня в обществе превосходительным, то ко мне стали применять и внешние формы глубокого почтения, так что моя роль мне скоро опротивела до крайности». // Впечатление Головкина, что Меттерних играет с ним комедию, не изгладилось также после великолепного приема, оказанного ему со стороны князя Меттерниха во время его двухнедельного пребывания на водах в Лукке. И это впечатление подтвердилось злою шуткой, которую сыграл с ним его приятель, когда он его представил Двору, весьма щепетильному в вопросах этикета, в дорожном костюме: «в серой шляпе, белом жилете и легких нанковых панталонах» (см. ниже «Ливорнские празднества»).
[Закрыть].
XXVI. Императрица Мария-Луиза
Императрица Мария-Луиза была довольно большого роста, хорошо сложена, блондинка, но не такая белая и розовая, как во время ее приезда во Францию; она одевалась изящно и проявляла такую легкость и грациозность движений, которые были бы более к лицу хорошенькой женщине, чем великой государыне. Она ни чуть не сожалела ни о троне, ни о муже, которых потеряла, и испытанное ею горе не оставило следов в ее чувствах. Она не хотела верить тому, что ее когда-либо могли заподозрить в желании встретиться снова с Бонапартом, или вернуться во Францию, и манера, с которою она говорила о своем сыне, подтверждала мысль, пришедшую мне в голову с самого дня его рождения, – что она вовсе не была его матерью. Когда я ей передал о тех опасениях, которые можно было иметь по поводу этого ребенка, она дала мне замечательный ответ:
– Поведение Венского Двора относительно его легко определить: он никогда не должен быть так богат, чтобы сделаться опасным, ни так беден, чтобы вызвать сострадание.
– Посвятив его церкви?.. – заметил я.
Она прервала меня:
– Да, надо будет его к тому готовить, но без принуждения.
Я был так доволен ее мнением, что просил у нее разрешения сообщить об этом французскому королю, что она и разрешила мне:
– Это очень добрый человек, которого я только могу хвалить и которому я искренне желаю счастья, – сказала она.
Свое положение в Париже Мария-Луиза описала мне, как не особенно приятное: разоренная страна, истощенные финансы, отсутствие общества и средств, коими можно бы его заменить. «Все что я желаю и очень прошу – это, чтобы меня не оставили в этом одиночестве и позволили бы мне, от поры до времени, съездить в Вену, чтобы убедиться, что у меня еще есть родители». При этом слеза заблестела в ее глазах. Эта принцесса была рождена для тихого домашнего счастья. Легкий и ровный характер, вкус к простым удовольствиям, способности к музыке и к ручной работе, любовь к телесным упражнениям, к лошадям, к танцам и к гулянью – все эти качества составляют счастье в обыкновенной сфере: но она узнала величие и роскошь и ее сферу не следовало суживать от недостатка средств к ее пополнению и украшению[277]277
Эти впечатления графа Федора об императрице Марии Луизе относятся к 1817 году, когда он встретил ее в Ливорно, на палубе корабля, который должен был везти в Бразилию ее сестру Леопольдину (супругу Дона Педро, наследного принца Бразилии). Несколько дней спустя он опять встретился с императрицей на водах в Лукке.
[Закрыть].
XXVII. Нарбонн
Граф Людовик Нарбонн-Лара родился в 1750 или 1751 г. от принцессы Аделаиды[278]278
Дочери Людовика XV. Головкин выдает за факт слух, о котором часто упоминалось, но который все же остался гипотезой.
[Закрыть]. Неизвестно в точности, кто был виновником этого кровосмешения, Людовик XV или дофин, но не подлежит сомнению, что это был один из них. На этом основании говорили, что поведение Нарбонна во время революции является тем более непростительным, что никто в такой степени не принадлежал к семейству Бурбонов, как он. Как только беременность его матери стала известной, из Пармы пригласили некую г-жу Нарбонн, очень честолюбивую даму, которая губила свой талант к интригам в кабинетах инфантины. Она приехала в положении беременности, была назначена статс-дамой к принцессе и родила, когда это оказалось нужным. Ее возвели в герцогини, что более подходило к ее имени, весьма почтенному, чем к роли, которую она согласилась сыграть. Ее муж и в роли герцога сохранил более благородные чувства, – оставался вдали от Двора и перед смертью лишил своего мнимого сына наследства. Из этого сына вышел красивый, умный и любезный в своих манерах и в разговоре молодой человек, так что принцесса Аделаида с трудом сохраняла секрет, который она постоянно нарушала своими заботами о нем. Она назначила его кавалером своего Двора, и вся Франция была свидетельницей его чрезмерных и нескромных расходов. Достаточно сказать, что каждый раз, когда он давал ужин у г-жи Конта, артистки французской комедии и его любовницы, он посылал в Версаль к принцессе Аделаиде за ее посудой.
Революция сняла маску с этого героя салонов. Он сделался военным министром короля, которого ограбил до чиста и которого он, более чем кто-либо другой, должен был защищать до последней капли крови. Против воли добродушного короля он был назначен на это место, где он стал преступным, и первый надел на себя фригийский колпак. Спустя несколько недель он, по неспособности, должен был оставить это место, но что его окончательно лишило уважения порядочных людей, было письмо, которое он заставил написать принцесс, чтобы добиться от президента национального собрания разрешения выехать из Франции. Письмо это кончалось словами: «Мы имеем честь, господин президент, быть с почтением Вашими всепокорнейшими служительницами Аделаида и Виктория французские». Графа Луи – так его называли по причине успеха, которым он пользовался у дам, – женили на дочери и наследнице первого президента Нормандинского парламента[279]279
Приблизительно то же самое, что старший председатель судебной палаты. (Прим. перев.)
[Закрыть] Монталона. Г-жа Нарбонн последовала за принцессами в Италию, вместе со своей мнимой свекровью, герцогиней, а граф Луи стал путаться в любовных интригах эмиграции, то в Англии, то в Швейцарии.
Я должен рассказать здесь анекдот, хотя мало интересный сам по себе, но довольно пикантный благодаря замешанным в нем личностям. Революция разбросала на поверхности земли мужей, любовников, друзей. Г-жа Сталь, вынужденная искать убежища в своем замке Коппе, вспомнила прелестные минуты, которые она провела в Париже с графом Луи. Он тогда был в Лондоне. Г-жа Сталь послала ему необходимые на дорогу деньги, умоляя его, во имя любви и дружбы, скорее приехать к ней. Получив это нежное приказание он стал думать только о том, как бы скорее преодолеть препятствия, отделявшие его от берегов Женевского озера. Но тем временем в Коппе появляется швед такой замечательной красоты. Что было бы бесполезно и смешно оказать ему сопротивление[280]280
Это швед по всей вероятности был некто Риббинг. См. письмо госпожи Сталь Мейстеру от 17 мая 1744 г. (Lettres inedites стр. 113).
[Закрыть]. Г-жа Сталь, потому ли, что она думала, что у нее довольно времени для начала нового романа, или же потому, что она не рассчитывала на такое усердие Нарбонна, отдалась победителю без сопротивления; но как только она начала изучать силу любви над сердцем Севера, она получила из Женевы записку от руки графа Луи. Какое ужасное замешательство! Как она противопоставит друг другу двух столь ревнивых соперников, из коих каждый не сомневается в неразделенности своей любви? Но ее ум пришел на выручку ее сердцу. Она потребовала от Нарбонна, чтобы он ждал ее приезда в Женеве.
Три дня прошли со шведом в разных приготовлениях, в сообщениях мнимых секретов и клятв в том, что не будут добиваться объяснений или жертв. Наконец, она все предусмотрела, все сообразила, и приемные в Коппе сделались свидетельницами первой встречи между гордым шведом и пылким французом.
День проходит вполне удачно: соперники очень холодны друг к другу, но заученная вежливость все покрывает, и дочь знаменитого Неккера ложится спать в восторге от такого успеха. Но когда, на другой день утром, в час не особенно ранний, все собрались к завтраку, двух интересных иностранцев не оказалось, за ними посылают, чтобы просить их к столу, но их нигде нет. Их ищут по всему саду, но не находят; начинают удивляться, в скоро и беспокоиться. Г-жа Сталь сохраняет все еще остаток хладнокровия; все принимаются искать и делать предположения, но все остается тщетным. Наконец, один из обитателей города заявляет, что он рано утром, около четырех часов, видел двух мужчин, которых можно было легко распознать по его описанию, и что они шли молча как будто по направлению к Швейцарии. Какой удар молнии и проблеск снега для г-жи Сталь! Она уже видит как течет кровь ее друзей и как одним ударом судьба лишит ее обоих! Ее отчаяние не знает пределов, ей нечего больше скрывать, она сама хочет умереть. Первому встречному она признается в своих чувствах. Доверенные люди рассылаются по всем дорогам. Местный врач получает приказание держаться наготове, на всякий случай. Красноречивые и нравоучительные увещания Неккера не имеют никакого действия на его умирающую дочь. Две трети дня проходят таким образом, как вдруг является Куэндэ, секретарь почтенного отца, и рассказывает, что он видел причалившую к берегу лодку, из которой вышли два господина, нагруженные рыбой. Действительно, Нарбонн, отправляясь спать, наткнулся на шведа, который приготовлял лесы: «Вы любите удить рыбу?» – спросил он его. – «Да, люблю». – «И часто это делаете?» – «Я собираюсь сделать это нынче, рано утром». – «Вы мне позволите сопровождать вас, – ибо я это тоже страстно люблю?» – «С величайшим удовольствием». И они отправились на рыбную ловлю, которая оказалась весьма удачной; но сильный ветер долго препятствовал их возвращению. После этого, в замке Коннэ два дня не решались глядеть друг на друга.
Когда эмигранты стали возвращаться, и Нарбонн в числе их вернулся во Францию; и так как у него не оказалось никакого имущества, он был очень рад занять две маленькие комнаты у виконтессы Лаваль, в самом дальнем углу предместья Сент-Оноре, в Париже.
Он немного рассчитывал на свое давнишнее знакомство с бывшим Отэнским епископом. Но Талейран, министр при Директории и при Консульстве, а затем первый сановник Империи и князь Беневентский, не считал удобным выдвигать, при Бонапарте графа Луи. Изящные манеры, образование, скорее блестящее, чем основательное. И чрезвычайная ветреность характера казались ему слишком неподходящими для почвы, где разводились положительные таланты и дурные манеры, как главные условия карьеры. Нарбонн горько жаловался на Талейрана и этим восстановил против себя того, от которого он все ожидал, а так как все его честолюбие ограничивалось желанием получить подпрефектуру или какое-нибудь другое скромное местечко, как средство к существованию, то Талейран отговаривался тем, что он не может согласиться на такое уничижение своего старого друга или содействовать ему в этом.
Но когда испанские дела бросили некоторую тень на звезду князя Беневентского, граф Луи стал громче трубить о своем недовольстве и сблизился с врагами своего приятеля. Вдруг, в то время, как император воевал в Австрии, распространилось известие, встреченное величайшим изумлением, что Нарбонн призван в армию, в чине дивизионного генерала, а позднее узнали, что он назначен комендантом крепости Рааб.
Незначительное обстоятельство предрешило тогда его судьбу. Когда ему понадобилось представить императору рапорт, он вместо того, чтобы передать его из рук в руки, как делали другие, положил его в шляпу и в таком виде поднес его удивленному императору.
Монарху, жадному к почестям, сказали, что так было принято подавать рапорты королям, и с тех пор карьера Нарбонна не встречала более препятствий.
Вскоре после того Нарбонн был назначен полномочным посланником в Баварию; но он скучал в Мюнхене и просил меня выхлопотать ему посольство в Вене. Это было довольно легко сделать, ввиду доверия, которым я пользовался у австрийского кабинета, и предупредительности, которую я встретил бы со стороны Тюйлерийского двора, но мне казалось, что для этого еще не настал удобный момент, и я со дня на день откладывал разговор об этом с князем Шварценбергом, который только что приехал в Париж, в качестве австрийского посла; а тем временем ему предложили г. Отто, против которого он не возражал, так как он не имел приказания вмешиваться в это назначение. Но вот из Мюнхена прибыл Нарбонн, украшенный лентой св. Губерта, и с вполне определенным планом расположить в свою пользу общество и Двор. Мнимая откровенность в связи с ловкою лестью обеспечили ему благосклонность Бонапарта. «Ваша мать только что приехала?» – спросил он его однажды. – «Да, Ваше Величество». – «Говорят, что она меня не любит!» – «Я не могу скрыть от Вашего Величества, что она еще больше Вами восхищается, чем Вас любит».
Другой раз, когда Талейран не без иронии рассказывал императору, который плохо знал французский язык, что английский король правильно говорит на четырех языках, Нарбонн заметил: «На четырех языках! А я не знаю в Германии ни одного наемного лакея, который не знал бы по крайне мере шести языков». А затем еще, когда император однажды сердито сказал, что он не понимает, почему венский Двор отказывается выслать князей Ламбеска и Вадемон, Нарбонн воскликнул: «Ах, Ваше Величество, подарите их венскому Двору, маленькие подарки поддерживают дружбу!» Можно бы привести еще много подобных случаев, но я полагаю, что и приведенных достаточно, чтобы выяснить образ действий, принятый престарелым версальским царедворцем.
У Наполеона вдруг явилась симпатия к представителям старого режима, это очень огорчало его товарищей по счастью. Он хотел назначить Нарбонна почетным кавалером новой императрицы, но герцогиня Монтебелло, не желавшая иметь при себе такого кавалера, который мог найти нужным указать ей каждый реверанс, и находившая, что граф Богарнэ, над которым она много трунила, более способен к подчинению, которого она требовала от всех окружающих, – заставила Его Величество отказаться от этой кандидатуры. Зато он был назначен флигель-адъютантом при императоре, должность, на которой он играл роль старой куклы, предназначенной поддерживать почти забытые традиции. Ему тогда уже было около шестидесяти лет; двадцать пять лет он не садился на лошадь и всякому другому подобное положение показалось бы унизительным, но он так хорошо поддерживал свою роль, что, во время несчастного бегства из России в 1812 г., он один сохранил человеческий облик и достаточно бодрости духа, чтобы доказать императору, до какой степени он сам и все остальные впадали в ошибки. Тогда он, наконец, достиг желанной цели, получив посольство в Вене. Его друзья – а у него их было много – высказали при этом необыкновенную радость, но ни они, ни он сам тогда не знали, куда это назначение его поведет.
Посольство было непродолжительно. Европейские дела запутались. Австрия вернулась к приличной и отвечающей ее безопасности политике, от которой ей никогда не следовало отказываться. Нарбонн, совместно с герцогом Вюченским, был назначен уполномоченным на Пражском конгрессе, кончившемся тем, что был организован общий крестовый поход 1813 года. Вернувшись в главную квартиру в Дрезден, он застал там Наполеона в тот момент, когда победа его покинула. Военная казна, состоящая из двадцати пяти миллионов, была помещена в Торгау, и император, рассчитывая вполне справедливо на честность Нарбонна в вопросах, касающихся денег, и на его постоянство, когда затрагивалась честь, назначил его комендантом этой крепости, приобретшей впоследствии двойной интерес. Он удержался в ней и после того, как французы были вытеснены из Германии, но вскоре умер от какой-то болезни, похожей на чуму, которая там свирепствовала. Его преемник, не желая увеличить тревогу и без того тревожного времени, объявил, что он умер вследствие падения с лошади, и его друзья, оплакивая его кончину, должны были себя поздравить с тем, что он не дожил до сдачи крепости и не испытал презрения, неминуемого для человека, как он, забывшего до такой степени приличия и уважение, которые должны были ему внушить его происхождение и благорасположение его законных государей.
XXVIII. Русская колония во Флоренции (1816–1817 гг.)
I. ПредисловиеНедостаток справедливости, испытанный мною в России со стороны Двора и нации, заставил меня уже много лет отказаться от службы в этой стране, климат которой оказался бы, впрочем, достаточным, чтобы меня оттуда изгнать. Повсюду в других странах меня хорошо принимали, в особенности монархи. Сам не зная почему, я пользовался некоторым личным почетом, совершенно достаточным, чтобы удовлетворить мое самолюбие и который, как я заметил с тех пор, достигается легко, когда к удачным мыслям присоединяются приветливые манеры; то, что у себя дома возбуждает беспокойство, составляет успех вне дома. Но сколько я ни старался держаться вдали от сцены, к которой я принадлежал, – я не был вознагражден спокойствием духа за эту жертву, если мое удаление, вообще можно было назвать жертвой. Мой Двор находил, что я слишком счастлив, или что с моей стороны слишком смело обходиться без его милостей и чувствовать себя выше его благосклонности. Министры иностранных дворов и состоящие при них послы, в особенности представители России, стали беспокоиться при виде тех милостей, которых я там удостаивался, и, чтобы узнать причину этого явления и присмотреться к его результату, заставляли меня разделять все удобства, испытываемые теми, которые призваны играть блестящую роль, – в то время как я, не имея основания и, прежде всего, не располагая достаточными средствами, чтобы играть такую роль, не желал ничего другого, как только просвещаться и веселиться.
Утомленный глупою судьбою, выпавшею на мою долю, я решил пуститься, очертя голову, в тот лабиринт, в котором исчезают столько людей, более достойных, чем я, и который, под пленительным названием Парижа, предоставляет праздным людям столько средств развлечения. Но и там Бонапарт скоро меня откопал и приблизил к себе, желая впутать меня в свои политические сплетни. Моя откровенность и молчаливое прямодушие его обезоруживали, и я был единственным представителем противной ему партии, т. е. партии хорошего общества, которому он прощал некоторые общественные успехи. Он потерял трон, который при некоторой умеренности и меньшем самообольщении легко мог сохранить своему отдаленнейшему потомству. Бурбоны снова взошли на этот трон. Это было торжество для моих принципов и для моего сердца. Но их так плохо посадили на престол и они вели себя на нем до того вопреки своим собственным интересам и счастью Франции, что то, что должно было составить мир и счастье моей жизни, сделалось ее мучением. Поэтому я, наконец, решил удалиться в страну, где я не рисковал найти ни двора, ни дипломатов, ни интриганов, т. е. уехать в Швейцарию.
Но Лозанна, где я хотел поселиться, в виду некоторых родственных и дружеских связей, оказалась для меня чересчур маленьким городом. Много неуместных претензий на знатность происхождения и на богатство, отсталость в вопросах просвещения, казавшаяся непоправимой, мелочность взглядов, возведенная в принципы, революционное правительство, вечно жалующееся на него землевладельцы не умели ни перенести, ни свергнуть, – все эти мелкие волнения вселили в меня страх за мое новое положение. Я чувствовал, как мой ум сокращается до размеров сферы, в которую я сам его запер, и что от нравственной апатии мое здоровье пошатнулось, так что бегство показалось мне единственным исходом.
Желая в одно и то же время переменить местожительство и развлечься, выздороветь и остаться наедине, я отправился прямо во Флоренцию. Через этот город я проезжал еще в 1795 г., когда на меня было возложено Неаполитанское посольство. Красота страны, добродушие ее жителей, умеренность климата, простота придворной жизни и незначительные политические связи двора – делали для меня из этого города местопребывание, совершенно свободное от неприятностей и являющееся этапом по дороге, по которой неизбежно должны следовать все путешественники. Вместе с тем Флоренция обещала мне целый ряд наблюдений, безразличных для чувств, но весьма интересных для ума и для изучения людей.
По приезде во Флоренцию я пожелал видеть одну только графиню д’Альбани[281]281
Луиза графиня д’Альбани (1753–1824), урожденная княжна Штольберг-Гедерн, была вдовой претендента на английский престол Карла Стюарта (1788) и подругой поэта Альфьери.
[Закрыть], вдову претендента, которая там поселилась. Я имел честь познакомиться с ней еще в Париже, куда Бонапарт ее сослал, чтобы угодить своей сестре Элизе, которая сделавшись великой герцогиней Тосканской, считала себя оскорбленной уважением, коим графиня пользовалась во Флоренции Я предполагал в ней все те качества, которые могут меня привязать, и скоро увидел, что не ошибся. Она меня приняла как человека, которого встречают в пустыне, ибо она любила и великолепно умела беседовать, а добродушные флорентийцы не отличались по части разговоров. Она просила меня смотреть на ее салон, как на свой собственный, и наметить себе в нем место, которое не могло бы быть занято никем другим. С первого же дня там мимо меня стали проходить типы из всей Европы; мне это понравилось, и я объявил, что, так как законом для меня были только мое здоровье и мой каприз, то я только там желаю видеть Двор и публику. Это показалось очень странным до тех пор, пока со мною не познакомились ближе; когда же меня вдоль разглядели, то нашли, что я довольно вежлив, а так как одобрение общества зависит отчасти от странностей и противоречий и можно всего добиться, когда ни к чему не стремишься, я скоро стал предметом ухаживания со стороны разных лиц, которые при обыкновенных условиях едва ли бы даже заметили меня. Великий герцог, к которому я не пошел на поклонение, имел любезность открыть мне доступ в свои частные сады и в свою библиотеку – одну из прелестнейших, когда-либо существовавших как по количеству, так и по выбору сочинений. Министры, которые знали, что я ими пренебрегаю лишь из антипатии к новым лицам, к визитам и к торжественным обедам, старались меня соблазнить маленькими интимными обедами и, чтобы не встречать отказа, являлись ко мне лично с приглашениями.
Наконец, все те двери, в которые я не хотел стучаться, открылись сами собою и приглашения поступали так запросто и без претензий, что я незаметно втянулся повсюду, где я не замечал стремления сделать из знакомства со мною вопрос этикета.








