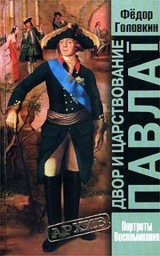
Текст книги "Двор и царствование Павла I. Портреты, воспоминания"
Автор книги: Федор Головкин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 29 страниц)
Головкин передает, что, когда Павел Петрович, еще в бытность свою великим князем, после кончины своей первой жены, обнаруживал такое неутешное горе, что даже опасались за его рассудок и его жизнь, принц Генрих Прусский, находившийся тогда в Петербурге, придумал, как средство спасти цесаревича от его печали, обвинить покойную великую княгиню в недостаточной верности супружескому долгу; для этой цели были пущены в дело не только подложные письма, но и Платон, бывший духовником Натальи Алексеевны, ввиду благости цели – спасти цесаревича от его горя, согласился подтвердить распущенную клевету, сказав великому князю, что узнал об этом из собственного признания усопшей, сделанного ею на предсмертной исповеди.
XXX. А. В. Суворов
Кажется, что все уже рассказано о Суворове (1821 г.)… Но, между тем, существуют о его личности некоторые мелкие подробности, которые доступны только людям, бывшим при дворе, и могут быть объяснены лишь теми, кто знаком был с государственными делами. Эти подробности придадут новые оттенки уже ясным, вполне определившимся чертам нашего полководца.
О благородстве происхождения Суворова были не особенно высокого мнения; но он украсил свое имя такими великими деяниями, что этот пункт совершенно неважен, тем более, что его отец был генералом и притом весьма заслуженным, которому доверено было поручение в Константинополе при очень важных обстоятельства. Суворов, от природы человек тщеславный, прекрасно умел оценивать людей, с которыми ему приходилось иметь дело. С того времени, как он начал думать, что достиг некоторой известности, и что за ним наблюдают, он, чтобы привязать к себе солдат, проявлял грубость в своих нравах и в действиях, а также крайне преувеличенное благочестие. Качества эти были вполне достаточны для того, чтобы закрепить за ним преданность солдат; вместе с тем, он сделал для себя безвредными своих соперников, которые видели в нем по его действиям человека, близкого к сумасшествию, и, не считая его поэтому опасным для себя, предоставляли ему идти его дорогой.
Зато он и достиг успеха, пользуясь всеми обстоятельствами, в которых не нашелся бы всякий другой, и дошел до высших степеней путями, которые казались достойными сумасшедшего дома. Средства Суворова для достижения цели были в одно и то же время так ничтожны и так необыкновенны, что я приведу лишь несколько случаев из его жизни, которые, для ознакомления с его личностью, стоят всех длинных повествований о его походах.
Во время первой польской конфедерации, после того, как поляков заставили признать своим королем Понятовского, ему было поручено уничтожить ее с незначительными военными силами, находившимися у него. Он скоро заметил, что препятствием для достижения этой цели являлось также и хорошо организованное конфедератами шпионство, так что каждый его шаг, который он намеревался сделать, был ими всегда предупрежден. Воспользоваться этим открытием было бы делом обыкновенного таланта, а при превосходстве сил у конфедерации даже уничтожение шпионства привело бы только к слабым или не вполне верным результатам. А вот что придумал Суворов. Он велел объявить в дневном приказе, что двинется на неприятеля при первом крике петуха. Конфедераты, по обыкновению хорошо обо всем осведомленные, со своей стороны сделали что нужно, чтобы все было готово для встречи его к полночи; между тем, как только наступили сумерки, Суворов пустился бегать по лагерю, крича, как умел, петухом. Солдаты уже знали его странности, и в несколько минут каждый был на своем месте; неприятель был застигнут врасплох, и меньше чем в час конфедерация прекратила свое существование.
Суворов никогда не имел при себе ни экипажа, ни кровати, ни даже лошади. Когда на нем были его сапоги, он считал себя раздетым; миска солдатских щей заменяла ему обед; когда ему было жарко, он ходил по лагерю в одной сорочке; если он позволял себе несколько развлечься с первой попавшейся маркитанкой, он потом бежал к ближайшему ручью, крича солдатам: «я согрешил, я согрешил!». Подобное поведение сделало Суворова любимцем солдат; но ему было мало этого: он хотел усыпить своих соперников и поразить придворных и потому вел себя также странно даже при дворе; во время пребывания в Петербурге: он пользовался чудным помещением во дворце, но обедал в нем в 10 часов утра, при чем ел копченую рыбу, кислую капусту, соленые огурцы и кашу; ложась спать снимал сапог только с одной ноги и шпоры с другой; забавлялся тем, что разрывал простыни из тонкого голландского полотна и дорогие китайские одеяла. Я видел однажды как государыня Мария Федоровна предложила ему тарелку с первыми плодами; он поблагодарил императрицу и велел отнести всю тарелку в свою комнату, вместо того, чтобы взять один персик или абрикос. Этот человек, который являлся ко двору, для того только, чтобы быть увенчанным лаврами или чтобы получить приказание пожать новые, этот человек входил в покои государя и великих князей не иначе, как с земным поклоном, и дело доходило чуть не до насилия, чтобы заставить его переменить положение, которое люди обыкновенно принимают в храме. Всякий понимает, какую противоположность составлял этот образ действий с гордым видом графа Румянцева или с рассчитанной небрежностью князя Потемкина! Его военные рапорты состояли всегда из смеси выражений самых подобострастных или носивших отпечаток религиозности, но всегда чрезвычайно кратких; иногда он придавал им стихотворную форму. О своем участии в делах он предоставлял докладывать другим, ограничиваясь сам только сообщением о происшедшем деле. В один из его походов, в войне против турок в 1770 году, большую важность представляло занятие крепости Туртукая. Овладев ею, он в своем донесении ограничился следующим двустишием:
«Слава Богу, слава вам.
Туртукай взят, и я там».
Долговременное служение Суворова в низших офицерских чинах дало ему время обогатить себя разнообразными сведениями. Он был глубоко образован, но в беседе делал часто вид, что спрашивает по невежеству: он отлично знал много языков, но, постоянно притворяясь по крайнему недоверию к людям, прикидывался, будто говорит только на родном языке.
Наконец, желание Суворова внушить недоверие к нормальному состоянию его умственных способностей было так велико, что он никогда не возобновлял разговора с лицом, которое не отвечало ему сразу или не отвечало хотя на один заданный вопрос, хотя бы оно заведомо неспособно было на него ответить. Например, на вопрос: «Где Калькутта?» – следовало отвечать: «На Миссисипи!», и тогда он находил вас восхитительным и крепко обнимал вас от всего сердца.
Когда венский двор просил Павла I назначить Суворова для командования войсками в Италии, государь сделал вид, что он удивляется, что желают этого назначения, потому что Суворов не ходил на парады, как он, и не придавал ни малейшего значения прусским экзерцициям. Государь открыто смеялся над Суворовым, хотя был очень польщен, что у него просили о его назначении. Но когда у Суворова дело коснулось подготовительных работ с австрийским послом графом Кобенцелем и с генералами, принцем Ауэрспергом и Дитрихштейном, он выказал такое знание местности, на которой ему предстояло действовать, а также такое понимание военных операций французов, что оставалось только восхищаться и молчать: Суворов знал гораздо больше тех, которые имели смелость собираться учить такого человека, как он.
Так как я вменил себе в обязанность не обходить в моих воспоминаниях, которые я оставляю после себя, ничего того, что я видел и слышал, то я закончу эту статью двумя фактами, которые могут вполне обрисовать, портрет Суворова. В 1792 г. он приехал в Царское Село, где находился тогда двор, и нашел там князя Потемкина, которому угрожала немилость государыни. Положение Екатерины между этими двумя личностями было довольно щекотливо, так как она уже решилась не выдвигать ни того, ни другого. Однажды в воскресенье она прислала за мной за час до своего туалета и дала мне поручение к фельдмаршалу очень длинное и важное, говоря, что она не хотела затруднять старика (очень молодого), заставляя его подниматься к ней (труд, который он исполнил бы с удовольствием).
Я велел доложить о себе фельдмаршалу от имени ее величества; после бесчисленных с его стороны знаков почтения, которые меня совсем уничтожали, он сообщил мне такие точные и ясные подробности дела, Что я пришел в восхищение. По всей вероятности, он заметил это, потому что в то время, когда он провожал меня, несмотря на мои просьбы избавить меня от этой муки, до последней передней, – увидев там г. Ребиндера, обер-шталмейстера, он громко спросил его: «Кто этот господин, который уходит? – я его не знаю». Нужно заметить, что мы ежедневно обедали у государыни в числе шести или восьми человек, и что герой-царедворец хорошо знал всех приглашенных с первого дня. Но то, что я собираюсь передать, более замечательно.
Как-то заговорили о ложных репутациях, которые создаются людьми. Суворов сделал глупое лицо, – сначала промолчал, а потом с казал вдруг: «Очень трудно исполнять свой долг; меня считали за варвара, при штурме Праги, убито было 7000 человек. Европа говорит, что я чудовище; я сам читал это в печати, но я хотел бы поговорить об этом с людьми и узнал от них: не лучше ли кончить войну гибелью 7000 человек, чем тянуть дело и погубить 100 тысяч? Столько людей, которые гораздо умнее меня; очень бы желал, чтобы кто-нибудь потрудился объяснить мне это!».
Он имел от своей жены, княгини Прозоровской, толстой и глупой женщины, которую его победы покрыли бриллиантами и знаками отличия, когда все обыкновенные награды были исчерпаны, хотя они постоянно жили врозь, двух детей: дочь, вышедшую замуж за графа Николая Зубова, впоследствии обер-шталтмейстера, добрую и добродетельную маленькую особу, которую он очень любил, и сына…
Этот сын, очень красивый пошел затем довольно быстро в гору, но утонул в пьяном виде, переправляясь через какую-то реку в Турции. Он поступил хорошо, сделав это, потому что благодаря игре и разным сумасбродствам, потерял все земли и бриллианты, которые получил его славный отец. Он оставил в большой нужде, от брака со старшей дочерью обер-шталмейстера Александра Нарышкина, двух дочерей и двух сыновей, которых я видел брошенных на произвол судьбы, в 1816 году, во Флоренции.
Император Александр пожаловал им 25 000 рублей пенсия до совершеннолетия младшего. Я просил его величество поручить мне двух сыновей и распоряжение пенсией, потому что мне казалось ужасным видеть внуков Суворова, остающихся без образования и без хлеба, на берегах Арно. Я отдал их в знаменитый институт Гасвиля. Они до сих пор находятся там. Я сомневаюсь, чтобы из них вышли выдающиеся люди, но, по крайней мере, их нравственность и слава их имени, кажется мне, находится в безопасности.
XXXI. Шевалье Д’Азара
Шевалье д’Азара, бывший так долго испанским министром в Риме и умерший посланником в Париже, был, по его словам, сицилианец незнатного происхождения. Это был человек среднего роста, носивший отпечаток благородства, с сильным характером, замечательного ума и обладавший познаниями преимущественно по древней литературе и искусствам. Каждое утро, без исключения, перечитывал он Горация. У него было слишком много такта и вкуса, чтобы его цитировать, особенно по-латыни, но можно было заметить, что поэтический дух, которым отличалась его беседа, был воспитан в этой высокой школе. Он был друг и покровитель Менга. Артисты и писатели, если только были сколько-нибудь того достойны, находили в нем мецената.
Сначала он был известен по своему управлению Римом, которое разделял с ним кардинал Берни, французский поверенный в делах. Дружба их, основанная на короткости их ежедневных сношений, всегда была искренна. Кардинал обладал кротостью и мягкостью в той же степени, как шевалье – силой и высокомерием; один успевал там, где другой терпел неудачу. Г. де Берни дополнял г. д’Азара в ловкости, а последний придавал энергию первому. Что ускользало от первого, легко давалось второму. По смерти кардинала, Азара остался один господином Рима. Привычка, более чем религия, составляла основу папского могущества, и, со времени французской революции и после превратностей судьбы, испытанных австрийским императорским домом, Испания одна, можно сказать, поддерживала величие папского престола. Преждевременно утомленный человеческими слабостями и политическими ошибками, испанский министр обратился к филантропической системе, которая отнимала у него часть энергии.
Он не вдруг увидал, до какой степени уклонился от своих собственных принципов и от законов своего положения и, гордый воспоминаниями о власти, которой владел он в продолжение полувека, полагал, что достаточно было его «Quos ego» для удаления всякой опасности. Он полагал также, что, заняв Толентинское ущелье, через которое Бонапарт готовился перейти, он своим красноречием и логикой заставит вернуться вспять человека, для которого не было преград в продолжение многих лет. Азара вдался в обман, наравне с Францией и всем миром, и честь его пострадала также наравне с честью других; по крайней мере извинением ему служили его прошлые успехи и хорошие намерения. В расчет человеческого самолюбия входит преувеличение значения проступков тех, которые казались наименее способными их сделать, потому-то так много людей, стоявших несравненно ниже Азара по своим талантам и характеру, старались наложить темные пятна на поведение, а впоследствии и на память шевалье Азара. Вследствие этого именно я вменил себе в обязанность воздать должное памяти Азара, хотя и не разделял его мнений, отдать справедливость этому благородному и открытому характеру, который никогда не сбивался с пути чести, и осмелился стать выше своего положения и данных ему инструкций, когда ему грозила опасность удалиться от него. Сейчас увидят, что я говорю о нем со знанием дела. Буду стараться оправдать испанского министра, основываясь на некоторых фактах его долгой политической карьеры. Этот мало интересный в данное время предмет прольет несколько света на другие, которые в том нуждаются, и всегда будут возбуждать интерес.
Климент XIV так мало рассчитывал быть папой, что в самый день возведения его в это достоинство, видя Азара у решетки конклава, поцеловал у него руку с просьбой оказать ему покровительство у будущего первосвятителя. Это был бедный монах, очень застенчивый, по привычке искавший себе покровителей. Ученые не могли понять, почему г. Каррачиоли и другие писатели хотели его выставить в истории за гениального человека. Когда испанский министр пришел с поздравлением, то сказал ему: «Обращаюсь с первой просьбой к вашему святейшеству». – «Могу ли отказать в чем-нибудь своему благодетелю?» – «Просьба моя заключается в том, чтобы вам хорошенько обмывали ноги, потому что этому не придают особого значения». Я откровенно расспрашивал министра относительно смерти Климента XIV. Вот его ответ: «Что бы там ни говорили писатели и романисты, знайте, что жизнь этого бедного человека никогда ничем другим не была отравлена, как только страхом перед ядом. Это положительно трус, умерший от страха». Предчувствия, беспрерывная боязнь его, были так сильны, что, вручая кардиналу Берни папскую грамоту об уничтожении иезуитов, он сказал ему: «Вы этого хотели: это мой смертный приговор», и с этой минуты впал в агонию. Г. кардинал Берни рассказывал противное, (я это слышал, между прочим, от герцогов де Ноайль и де Лаваль), он приписывал смерть отраве.
Никто при папском дворе не возбуждал так досады г. Азара, как Пий VI. Во-первых, вследствие возведения его в папское достоинство, из-за которого Азара едва не лишился места, потому что мадридский двор не хотел одно время признавать нового папу. Поведение Броти считало скандалезным: он рано достиг кардинальского пурпура, и вовсе не каноническими путями, но судьба явно покровительствовала счастливцу. Испанский двор получил о том известие об избрании с отвращением. Карл III горько плакал и думал отменить баллотировку. Азара нуждался во всех своих умственных способностях и в действительной бодрости духа, чтобы воспрепятствовать этому большому скандалу и, быть может, церковной схиме, тем более опасной для религии, что враги его, уже явно озлобленные, не пропустили бы такого благоприятного случая осмеять своего властителя. Но новый папа заставил его дорого поплатиться за такую большую услугу. Он был до того упрям и груб, что каждый день бывали новые неприятности. Испанский министр назначил ему в государственные секретари Буонкомпаньо, умного и знатного человека, младшего брата князя Пиомбино, с которым у него ежедневно бывали неприятности более, или менее важные. Однажды у них дело дошло до того, что св. отец ударил кардинала, который, в свою очередь, взяв его святейшество за ворот, порядком поколотил его. Г. Азара, тотчас же предуведомленный об этой сцене, отправил слишком горячего кардинала в Болонью, а сам отправился потом в Ватикан, где ожидал его папа, с живейшим нетерпением. Как только папа завидел его издали, так закричал: «Расскажу вам неслыханный случай». – «Все знаю, св. отец, и мнение мое бесповоротно». – «О! Негодяй представил вам это дело по-своему». – «Я ему верю: он слишком знатного рода, чтобы снизойти до лжи». – «Я желаю, чтоб вы меня выслушали». – «Хорошо». Рассказ был очень длинен, а св. рассказчик – очень вспыльчив, по обыкновению. – «Ну, что вы о том думаете теперь?» – «Думаю, что кардинал держал себя по-княжески, а папа – не лучше лакея».
Тон г. Азара со св. коллегией (собором кардиналов) был тон визиря с рабами. Азара сам находил его смешным, неприличным, но считал необходимым, и оставлял его не иначе, как с людьми действительно достойными, что производило тогда большой эффект, как вообще нечто редкое, выдающееся. Он меня так сильно полюбил, что бывало, когда я замечал перед обедом, что я находил общество слишком многочисленным, или недостаточно избранным, то приказывал приносить два прибора в гостиную, где мы обедали вдвоем, и посылал принцессу Сантакрос в столовую для приема гостей. Помню факт, который особенно поразил меня, хотя сам по себе был ничтожен. Доложили о кардинале, приверженце Австрии. – «Его надо принять. Вот уже десять раз со вчерашнего дня, как он просит допустить его до меня». Кардинал входит, говорит несколько слов на ухо шевалье, которого легкий пароксизм подагры удерживает на кушетке. – «Жалею, что подумал, будто ваше в-ство приехали только поблагодарить меня за посланные книги; но ничего не потеряно. Я пошлю за римским губернатором, намою ему порядком голову, и дело уладится». Кардинал удалился. Послали за губернатором; с ним обошлись, как с последним из людей, и, полтора часа спустя, кардинал вернулся благодарить за быстро оказанную справедливость. Дело шло об убийстве его повара. Мне необходимо было привести несколько подобных анекдотов, чтобы сделать более правдоподобным тот, который сейчас расскажу; он послужит ответом всем, хотевшим выдать г. Азара за якобинца и изменника делу Бурбонов.
Это было в 1794 г. Маленький король Людовик XVII только что умер в руках негодяев, которым поручили его особу. Азара, как и я, был в личных отношениях и вел правильную переписку с Monsieur (братом Людовика XVIII), поселившимся в Вероне и признанным регентом меньшинством дворов. Легко было предвидеть, что принц примет титул короля, но державы и все наши дозволят ли смуты? Могли ли бы мы взять на себя ответственность за инициативу! Могли ли мы, не считая личного чувства, дать пример низости? – «Друг мой, сказал мне Азара, не знаю, что сделает мой двор, но знаю хорошо, что он должен сделать, и я придам величия новому королю». Мне, молодому русскому посланнику было не так легко, как старому министру, уверенному в своем кредите, разрешить такое деликатное дело, но я всегда полагал, что главное нужно быть благородным, и мы первые во всей Европе, признали вдвоем Людовика XVIII. Когда я принес свою ноту шевалье, для отправления вместе с его, он мне сказал: «Это не все: надо заставить папу сделать то же, и как у вас нет никакой официальной роли, вы можете начать атаку. Если получиться успех, то это будет важный шаг, который может увлечь за собой общественное мнение. Если же нам не удастся, то, по крайней мене, мы поступим, как люди благонамеренные. После полудня отправился я в Ватикан. Кардинал Зелада, государственный секретарь, был предупрежден заранее и впустил меня к папе. Его святейшество принял меня, по обыкновению, очень хорошо; но я застал его таким боязливым, нерешительным, и к тому же столь естественно упорным относительно всего, что не выходило из его святейшего мозга, что мне надо было отказаться от славы внушить ему идею, как бы ни была она прилична и серьезна по последствиям, которые могла повести за собою. Г. Азара не потерял бодрости духа, и на следующее же утро сам принялся за атаку. Последовали просьбы и отказы, возражения и упорство, угрозы и упрямство. Наконец обоюдная вспышка. Министр вышел из себя и, в присутствии служащих прелатов, наполнявших приемную, закричал папе: – «Ваше в-ство, вы были и будете всегда глупцом!» Св. отец, привыкший, в продолжении 30 лет к внутреннему раздору, затаил новую обиду, но затем еще более упорствовал в желании не признавать старшего сына церкви. Впоследствии, когда Испания, переменив систему, завела сношения с национальным конвентом, Азара написал королю Людовику XVIII: «Говорят, что двор мой ведет переговоры с Францией. Не знаю, будет ли продолжаться пенсия вашему в-ству (36 тысяч пиастров), но умоляю ничего не предпринимать по этому поводу. Всем, что я имею, я обязан покойному королю Карлу III, моему доброму государю. Я получил состояние свое от Бурбонов, и оно должно перейти к Бурбонам. Глава их дома не должен стесняться принять доказательства признательности человека, который служит им уже 40 лет.» В то время как Азара это писал, он уже содержал на свой счет в Риме французских принцесс и их свиту.
Самая неприятная миссия, которую должен был выполнить г. Азара в продолжение своей долгой дипломатической карьеры. Возложена была на него королем Карлом III, который относился к Азара с особенным уважением. Следовало поехать в Неаполь с письмами, в которых заключались усиленные просьбы к королю Фердинанду заточить королеву в монастырь или тотчас же отправить ее в Вену. Но слабость сына разрушила справедливость отца. Оба двора помирились только со смертью последнего, и гнев королевы не имел ни границ, ни конца. Министр, более спокойный, забавлялся тем, что приводил в отчаяние принцессу, которую, к тому же, публично обвинял, будто она хотела его отравить. Одна из самых удачных его мыслей лучшего всего осуществилась, когда он велел поставить в испанском дворце, в Риме, большую картину, на которой изображен был король обеих Сицилий, на коленях принимавший свои владения, как дар отеческой любви.
Приехав впоследствии в Рим, королева, с самой границы, даже форейторам говорила об Азара, называя его не иначе, как плутом, испанским негодяем. Когда карета остановилась перед дворцом Фарнезе, королева тогда только вышла, когда римский губернатор уверил ее честным словом, что Азара выбыл из города, чего он не мог не сделать, вследствие убедительных просьб папы. Тем не менее в случаях, повторявшихся ежедневно все чаще и чаще, когда следовало отделить частные интересы от общих, министр придерживался образа действий, достойного общественного деятеля и честного человека. Приведу пример достаточно сильный, который не оставит ни малейшего сомнения относительно его лояльности и откровенности. Регент Швеции, герцог Зюдерманландский, впоследствии Карл XIII, поссорился с неаполитанской королевой, вследствие оказанной ею протекции барону Армфельд, шведскому министру в Италии, замешанному в заговоре против этого принца, который напрасно старался овладеть им в Неаполе. Последовало объявление войны, довольно неосторожное со стороны Швеции, в виду ее сношений с востоком, но так как обе воюющие стороны не могли сразиться оружием, то с обеих сторон прибегнули к перу самых адских составителей пасквилей. Королева, боясь нового памфлета, который выпустит на ее счет г. Актон, синьор Пиранети, шведский агент в Риме, поверила мне свои новые опасения. Я хотел убедить ее отнестись к памфлетам с полным презрением, но, вместо того, чтобы принять такой мудрый совет, она умоляла меня спасти ее от нового оскорбления, мысль о котором преследовала ее даже во сне. Я обещал подумать о том. На следующий день новые настоятельные просьбы. Тогда я высказал ей, что у меня только одно средство повиноваться ей, средство, которое однако не удобно ни предложить, ни принять. Королева пожелала знать какое. Средство заключалось в том, чтобы обратиться к шевалье. Азара, который, будучи распорядителем в Риме, один мог запретить, или перехватить пасквиль. Что касается меня, я так полагался на принципы этого министра, что вполне был уверен в возможности получить от него начальническое распоряжение, необходимое для успокоения ее в-ства. Сперва она и слышать не хотела; не опасность казалась ей неминуемой, и она согласилась на все. Однако, ввиду того, что при этом дворе осторожность была далеко не лишняя, я поставил условие ожидаемой от меня услуги. Я должен был написать письмо в кабинете королевы, предоставив ей заботу его отправить. Она прочитала его, секретарь ее запечатал письмо, и оно было отправлено. Несколько дней спустя прибыль из Рима на мое имя огромный тюк. Это было все издание и манускрипт пасквиля. Письмо, сопровождавшее его, было вскрыто только у королевы, которая не устояла противу желания его прочесть. Азара уведомлял меня между прочим: – «Советую вам обратить особенное внимание на доказательство уважения, которое с удовольствием даю вам. Достаточно было одного вашего вмешательства, чтобы заставить уважать королевскую корону на той, которая столь недостойна носить ее. Клянусь вам всем для меня священным, что нет более ни одного листка памфлета ни в манускрипте, ни в печати; но в то же время примите совет не так легкомысленно оказывать услугу людям, неспособным ее оценить». Действительно, когда королева захотела меня погубить, она поставила в число причин недовольства мной, что, будучи аккредитован при ее особе, я поддерживал такие близкие сношения с ее смертельными врагами, что с обеих сторон принесены были большие жертвы. Я полагаю, что впоследствии г. Азара снедало большое горе, но без угрызения совести, при воспоминании о неудаче его переговоров в Толентино. Он жил, как и следовало честному человеку, привыкшему к успеху, но жил очень дурно, и следовало простить его врагам, также, как и всем не знавшим его, за дурное суждение о нем. Его манера держать себя во Франции была в зависимости от его привычек. Однажды, когда Бонапарт сделал вид, будто не видит его и повернулся к нему спиною, Азара сказал громко своим соседям: «Император думает рассердить меня: он видно не знает, что я нисколько не ценю его внимания». – Бонапарт покраснел, и минуту спустя, обернувшись, притворился удивленным. – «А! Вы здесь, г. посланник, а я вас искал…» и обошелся с ним как нельзя любезнее. Возвратившись как-то из дворца Бонапарта, он сел на кушетку и испустил дух. Ему было тогда за 70 лет.
Разговор его был содержателен, остер, игрив, откровенен, и Иосиф II, наслаждаясь им в Риме, имел к нему полное доверие, основанное на уважении к его личным достоинствам. Когда предмет разговора увлекал Азара, у него являлось вдохновение, которое всегда удивляло и часто увлекало все собрание. Когда речь зашла за столом о памфлетах, осыпавших нас, кто-то нескромно заметил, что, по их мнению, 4/10 наследников престола были незаконнорожденные. – «Что за беда?» – живо воскликнул Азара: «Говорят, что Астурийский принц сын г. Далокастро, но опять скажу, какое кому до того дело! Его воспитывают и готовят быть королем. Испанцы знают, что у них должен быть король. Тот ли, другой ли, только бы он знал дело и сделал их счастливыми. Вот главное. Одни изменники и дураки откажутся ему повиноваться. Я готов это прокричать на мадридских улицах, совершенно так, как говорю здесь».








