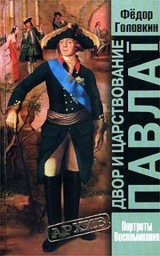
Текст книги "Двор и царствование Павла I. Портреты, воспоминания"
Автор книги: Федор Головкин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц)
Через пять месяцев после своего отъезда из Неаполя, граф Федор добрался, наконец, до русской границы. Там его тотчас же арестовали и отвезли в Пернов, маленькую крепость в Лифляндии, где он был заключен. Рассказ о его пребывании в этой крепости, и о последующем освобождении содержит интересные места; он будет приведен под статьей «Пернов».
Воспоминания о Дворе и царствовании Павла I графа Федора дают нам некоторые разрозненные сведения о жизни графа при Дворе Императора Павла I. Хотя ему был внушен строжайший запрет острить, но кажется, что он не мог вполне отказаться от этого любимого препровождения времени. Он не сумел снискать милости своего строгого и капризного государя и 22 июня 1800 г. был изгнан из столицы, с обязательством жить в своих имениях. Год, проведенный им в этом изгнании, он употребил на обучение деревенских детей азбуке, на покрывание лаком своих экипажей и на составление всемирной истории[143]143
Об этом он сам пишет из своего изгнания барону Николаи.
[Закрыть].
Восшествие на престол императора Александра I вернуло ему свободу; он воспользовался ею, чтобы отныне вести жизнь космополита. Первые годы XIX века он прожил в Дрездене[144]144
В пятой главе книги, написанной о графе д’Антрэг (d’Anyraigues) Леонсом Пэнго: «Тайный агент во время Революции и Империи» (Un agent secret sous le Revolution et l’Empire, Paris, 1884 г.) содержатся ценные сведения о Дрезденском обществе начала XIX столетия.
[Закрыть], этом Эльдорадо отставных русских, где он вел знакомство с д’Антрэг и д’Армфельдом, а в особенности сблизился с Меттернихом. В 1804 г. мы его встречаем в Берлине, где он принимает участие в придворных увеселениях, устраиваемых по почину молодой и прекрасной королевы Луизы. В 1806 г. он снова туда возвратился с берегов Женевского озера, где он часто посещал замок Коппе. На сей раз он стал давать королеве советы по политическим делам, что крайне не понравилось при Дворе. Затем он поехал в Москву, но остался там не дальше заключения Тильзитского мира. После этого он поселился в Париже, где он занимал вначале красивую квартиру на улице Кастилион[145]145
«Безмолвие» Корреджио составляет главное украшение моей гостиной и эту картину все хвалят и ею восхищаются. К ней я прибавил лучшие рисунки моей коллекции. Их яркие и нежные краски в хорошо вызолоченных рамках выделяются очень красиво на сером английском фоне, окаймленном золотыми виноградными ветвями. Занавески из кисеи и нанки дополняют общее впечатление, представляющее весьма приятное на вид сочетание изящного с простым. Моя спальня вся задрапирована белым, что меня очень старит и придает мне ужасно толстый вид; довольно изящный будуар – тоже не способствует моей красоте; за то остальные комнаты не так приятны на вид, но более подходят к моей внешности. Мой балкон обставлен померанцевыми и гранатовыми деревьями, а также лавровишней, жасмином, резедой и туберозами, и если Вам угодно меня теперь посетить, мне не трудно будет встретить Вас с подобающим почетом (письмо г-же Эйнар-Шатлен от 11 июля 1808 г., напечатанное в Revue Suisse, т. XXIV, 1861 г.)
[Закрыть], обставленную с роскошью, какая подобает русскому графу. Впоследствии он купил, в окрестностях Парижа, дачу, которую назвал «Монталлегр»[146]146
Это совсем новый дом, четырехугольный, с тремя окнами во фронте и в четыре этажа. Мои люди и я чувствует себя здесь очень хорошо, и я могу еще сдать маленькую квартиру. Все это заново меблировано и отличается северо-голландскою чистотою. Дом расположен среди маленького парка в английском вкусе, на берегу Сены, по дороге из Парижа в Сэн-Жермен, в четырех милях от одного и от другого, в полумиле от Мальмезона и в трех четвертях мили от Версаля. Люсьена и Марли – на горе над нами, а вокруг нас восхитительные и бесчисленные прогулки. Дамы, с которыми я вижусь, большею частью живут в окрестностях, а г. Буасси-д’Англа с его чудной библиотекой – у самых моих дверей». Письмо от 5 октября 1808 г. Николаю Шатлену, напечатанное в Revue Suisse, т. XXIV, 1861 г.).
[Закрыть].
«Я пользовался большим успехом в обществе, что во Франции имеет такое решающее значение, – рассказывает граф Федор, – ибо, благодаря моим манерам, моим разговорам и даже моим недостаткам, я представлял из себя настоящего француза: одно лишь мое политическое ничтожество не соответствовало тем любезностям, которыми меня осыпали. Очутившись с самого начала среди лучшего общества, я походил на растение, разведенное в хорошие дни старины».
Где находился граф Федор Гаврилович в 1812 г., столь бурном для его родины? Он об этом не говорит ни в Воспоминаниях, ни в письмах. Но в Национальном Архиве имеется один документ, ясно доказывающий, что он за все время войны с Россией находился во Франции: 19-го июля 1811 г. он просит у Паскье, префекта полиции в Париже, разрешения уехать на минеральные воды, в Контрексвилль – по семейным обстоятельствам и для здоровья. «Будьте так любезны узнать у герцога Ровиго, хочет ли он подарить жизнь столь опасному врагу, как я, разрешив ему беседовать с бакалейщиками и фабрикантами из Нанси в таком важном месте, как Контрексвилль…» Несколько насмешливый тон этого прошения не препятствовал его успеху и на просьбу графа последовало разрешение. В марте 1813 г. он ее повторяет и проводит весну и лето в Швейцарии. Он встречается там то в Лозанне, то на даче, на прелестном маленьком островке при впадении реки Аар в Тунское озеро. В октябре 1813 г. мы его опять находим в Эпинэ, любимым и уважаемым членом кружка, принадлежащего к легитимистской аристократии.
Следующий год граф Федор выступил в неблагодарной роли дипломата-любителя[147]147
См. в «Портретах и Воспоминаниях» статью «Нессельроде».
[Закрыть], но так как ему этим путем не удалось войти опять в милость к государю, он снова удалился в Лозанну. Однообразная жизнь, которую пришлось вести в скромной столице Ваатланда, ему, однако, скоро надоела и осенью 1816 г. он отправляется во Флоренцию[148]148
См. ниже «Русская колония во Флоренции с 1816 по 1817 гг.
[Закрыть]. Столица Тосканы кишела тогда знатными иностранцами; в особенности там встречалось много русских. Среди этого космополитического общества граф Федор чувствует себя опять хорошо и встречается там со своим старым другом, князем Меттернихом. Отблеск славы, окружавшей тогда знаменитого государственного деятеля, падает также на графа Федора. В Лукке он наслаждается внимательным гостеприимством князя. Затем он его сопровождает в Ливорно, где знаменитый дипломат, который умел также быть большим проказником, представил его, в костюме простого туриста, Бразильской принцессе и ее сестре, императрице Марии Луизе, окруженным пышным Двором. Это был последний раз, что граф Федор блистал, веселился и веселил других. После своего возвращения в Лозанну, он ведет там уединенную и праздную жизнь[149]149
Некоторые из его приближенных советовали ему приобрести права гражданства кантона Ваатланда и определиться там на общественную службу. Но он на это отвечал, что гордится своею любовью к Воотланду, но что вокруг этого маленького, тоненького и лишь немного подслащенного общественного пирога и без того уже толпится слишком много народу. «И потом, – говорил он, – человек, деду которого именным указом Петра Великого было поручено положить первый камень при закладке С.-Петербург, не мог бы в Лозанне занять место меньше старосты собора св. Франциска или педеля Академии, на которую и так много охотников».
[Закрыть] «между развалинами старины и приготовлениями к будущности», – как он выражается в «Разных письмах, собранных в Швейцарии». Местрали в Вюльеране, Фрейденрейхи в Монна, фон Мюйдены в Лоазнне, Ноайль, Эйнары и Николай Шатлэн в Ролле составляют круг его ближайших друзей. Состояние его здоровья, уже расстроенного, ухудшается из года в год, и в 1823 г. кризис уносит его навсегда.
В обширном кругу своих знакомых граф Федор пользовался репутацией очень занимательного и приятного человека.
В дневнике княгини Меттерних[150]150
Memoires du prince Metternich, т. VI, стр. 670.
[Закрыть] мы читаем заметку от 4 по 10 декабря 1843 г.: «…В пятницу герцогиня Талейрин обедала у нас с Шуленбургом, обоими Гюгелями, Левенштейном, Зенффтом, возвратившимся из Мюнхена, и некоторыми другими кавалерами. Один из сих последних рассказал несколько анектодов о Головкине, которые очень рассмешили Клементия (князя Меттерниха), а герцогиня поделилась с нами случаями из его жизни, свидетельницей коих она была сама и которые являются единственными в своем роде».
Граф Федор много писал. Пока он был молод, он сочинял стихи, которые, однако, были посредственны. В продолжение всей своей жизни он имел склонность к изложению своих мыслей в форме писем. Его переписка была очень обширна и письма женщине разоблачают в нем счастливого наперсника некоторых из самых красивых и самых умных светских женщин того времени. «Говорят, что весь Париж находит вас таким очаровательным, что вас принимают за француза былого времени, сто лет тому назад, который возвратился во Францию под видом русского, чтобы повеселиться», – сказал ему г-жа Сталь, и в этом же приблизительно духе ему пишут письма все его корреспондентки, в числе которых находятся царствующие особы[151]151
В конце этой книги, под общим заглавием: «Корреспонденты Головкина», помещен выбор писем, исходящих от лиц известных своим умом, с которыми он находился в сношениях: г-жи Сталь, Жозефа де Мэстра, графа де Коаньи, шевалье Буффлера, графа Каподистрия и др.
[Закрыть].
Граф Федор несомненно обладал качествами, необходимыми для того, чтобы нравиться красавицам большого света его времен: он был приятный собеседник, остроумен и не без юмора, немного насмешлив, в общем натура импульсивная и великодушная, под внешностью образцового кавалера. Легкость, с которой он писал по-французски, по-видимому, облегчала ему успехи по части переписки.
Письма интимного содержания, писанные им в 1816 и 1817 гг. из Флоренции его двоюродной сестре, г-же де Местраль д’Арюффан, представляют большой интерес. Они ясно доказывают, что способность наблюдать и изящно излагать свои наблюдения никогда ему не изменяла. Достигнув зрелого возраста, он поставил себе более серьезные задачи. Его крайне легитимистские убеждения внушили ему написать: «Рассуждения по поводу нравственного состояния Франции»[152]152
«Consideration sur la consitution morale de la France», Geneve, Paschoud 1815.
[Закрыть], сочинение, которое очень не понравилось русскому правительству, по причине некоторых нападок на только что установившийся новый порядок вещей в Европе и, главным образом, на шведского короля[153]153
См. в конце этой книги письмо графа Каподистрия от 2/14 июня 1816 г.
[Закрыть].
Немного позже он издал «Отношение воспитания к правительству»[154]154
«L’Education dans ses rapports avec le Gouvernemant» Geneve et Paris ches Paschoud 1818.
[Закрыть]. Но в роли воспитателя граф Федор положительно скучен и то же самое можно сказать по поводу его единственного романа: «Принцесса Амальфи».
Более полезным трудом были: «Разные письма, собранные в Швейцарии, сопровождаемые примечаниями и разъяснениями» (1821 г.). Историк, изучающий Швейцарию в XVIII столетии, будет не без пользы с ними справляться. Сэнт-Бёв в письме Вилльмену[155]155
Факсимиле этого письма находится в журнале «L’Art». (Июнь 1904).
[Закрыть], написанном, вероятно, в 1838 г., по возвращении его из Швейцарии, говорит об этом труде Головкина следующее: «Я прочел довольно хорошие сборники и образчики французской литературы Ваатланда, а именно – «Письма, собранные в Швейцарии», – сочинение одного русского, графа Головкина, где приезд Вольтера и все его сношения с местными жителями описываются в его же письмах, которые мало известны и, как всегда, пикантны».
Его «Воспоминания» – бесспорно лучшее из его сочинений[156]156
Деятельное сотрудничество при составлении «Мемуаров» Станислава-Августа, последнего польского короля, внушило ему, может быть, вкус к подобным работам. Во всяком случае, подробности, сообщаемые им по поводу этих неизданных Мемуаров, весьма любопытны: «Я был одним из числа лиц, которые были допущены к ближайшему кругу короля. Давнишние деловые сношения, о чем я буду говорить в другом месте, те воспоминания об общественных событиях, которых меня удостоила Екатерина II, моя склонность к искусству и к литературе – вот данные, благодаря которым я во всякое время был вхож в кабинеты, куда я еще раньше вводил нескольких лиц, отличавшихся приятностью и благонадежностью обхождения. Однажды ночью, князь Безбородко был послан из Гатчины за мною и за вице-канцлером князем Куракиным, чтобы вызвать нас к государю для внезапного в одно и то же время допроса о характере наших сношений с королем. Мы на это имели лишь один ответ, но как наши отношения с ним ни были невинны, их все-таки пришлось прекратить. Я уже больше не встречал короля, кроме только как на торжественных выходах, и это было большой потерей для всего мира, так как мы постоянно редактировали, в виде Мемуаров, дневник, состоявший из девяти больший фолиантов, который был начат королем в день его коронования и закончен в день его отречения от престола. Там, с чистой совестью, как на исповеди, было собрано все – политика, вопросы управления, придворные интриги и любовные приключения. Положение короля среди Дворов Австрии, России и Пруссии в течение тридцати лет было такого рода, что постоянная необходимость знать обо всем создала из этого дневника наиболее полный из всех существующих отрывков истории. Точность дневника была доведена до того, что там можно было найти записки расходов мельчайших сумм, если только эти расходы имели какое-нибудь отношение к делам. Я тщетно требовал, на следующий же день после смерти короля, выдачи этого сокровища его семейству, но граф Сергей Румянцев, которому было поручено императором привести в порядок наследство короля, погрузил этот дневник в безбрежный океан правительственных хартий!»
[Закрыть]. Как хороший наблюдатель, схватывающий, главным образом, смешные стороны того, что он видел, и владеющий вполне свободно французским языком, он оставил нам ряд пикантных описаний, характеризующих правителей и дипломатов того времени. Тем не менее все эти лица, сквозь призму его воображения, испытали не мало изуродований и не следует, конечно, придавать его рассказам безусловную веру. Надо, впрочем, заметить, что «Воспоминания» графини Головиной, напечатанные недавно на русском языке, подтверждают многие из черт и подробностей, к которым было основание относиться с подозрением.
Воспоминания о Дворе и царствовании Павла I составляют самую существенную часть его сочинений, так как автор был, в одно и то же время, наблюдателем и действующим лицом в том, что он описывает. Царствование Павла Петровича было мрачно и трагично, но то, что граф Федор видел и слышал при Дворе этого несчастного государя, представляет ничто иное, как жалкую комедию, смешные стороны которой не ускользнули от этого наблюдателя, кажущегося, на первый взгляд, поверхностным и беспечным.
Мы его видим то принимающего участие в обрядах, коронования «в бархатном кафтане, богато расшитом шарфами, в штиблетах из белого атласа и в треугольной шляпе с белым султаном, по-военному»; то провожаем его в ночной поездке, в карете с зеркальными стеклами, когда он, дрожащий от холода в зимнюю ночь, отправляется к посланникам иностранных Дворов, чтобы объявить им о рождении великого князя Михаила Павловича; то присутствуем при гневном припадке императора, когда Головкин, которому Павел I, назначая его на должность церемониймейстера, настрого запретил «заниматься в его царствование остротами», забывает этот запрет.
В то же время граф Федор Гаврилович оставил нам очень ясный портрет самого себя. Ибо разнообразие местностей и лиц, о которых он говорит, легкость, с которою он рассуждает о серьезных делах, значение, которое он нередко придает мелочам, интерес, с которым он следит за европейскими событиями[157]157
Князь Петр Долгоруков пишет в своих «Мемуарах»: «Граф Федор был один из величайших хвастунов своего времени; он рассказывал, будто он ведет политическую переписку с Людовиком XVIII, выдавал себя за главного составителя Хартии 1814 г. и никогда не замечал, что, слушая его, все втихомолку посмеивались». (Dolgoroukov, Memoires т. I, стр. 115).
[Закрыть], незнание русского языка и русской жизни, а главное – самоуверенность, проявляемая им в своих мнениях, характеризует его как космополита.
Таким образом, граф Федор представляет собой прототип того любопытного класса русских, являющегося произведением сложившихся обстоятельств и управлявшего Россией в течение девятнадцатого столетия.
Часть II
Двор и царствование Павла I
Великий Князь Павел
Этот государь родился в недобрый час. Народы уже давно с нетерпением ждали его появления на свет, но отец отрекся от него, а мать его не возлюбила. В его жизни долгое время было нечто неопределенное, непрочное, а от этого постоянное беспокойство легло в основание его характера. Нравственное воспитание, данное ему политикой, прибавило к тому нечто подавленное и подобострастное, что каждую минуту могло разразиться и делало его царствование столь страшным для трусливых людей. Первую часть своей жизни он провел в сожалении о том, что он так долго не мог царствовать, а вторую часть отравило опасение, что ему не удастся царствовать достаточно долго, чтобы наверстать потерянное время. Это царствование имело большие последствия для всей Европы и было богато весьма странными и оригинальными событиями, которые поучительны для тех, кто, в постигшем родину несчастье, оценивает свободу и жизнь только по их нарицательной цене.
В продолжение всей этой неблагополучной эпохи, казавшейся очень длинной, хотя она продолжалась всего пять лет, самым несчастным из всех русских людей был сам император.
Мой дневник, в котором я каждый вечер отмечал все события при Дворе, должен послужить мне основанием к своего рода летописи. Руководствуясь фактами, я хотел бы доказать, что одно и то же лицо может быть, разом, очень плохим государем и очень честным человеком и что это неминуемо имеет место в тех случаях, когда ум не уравновешивается чувствами, а порывы власти не управляются сознанием долга; кроме того, я желал бы еще указать на то, что в наших суждениях о государях мы упускаем из виду преимущественное и непреодолимое воздействие физических влияний на нравственный облик их действий.
Павел, который был так безобразен, родился красавцем, так что лица, видевшие в галерее графа Строганова его портрет, где он, в возрасте семи лет, изображен в парадном орденском костюме, рядом с портретом императора Александра I в том же возрасте и в том же костюме, спрашивал, отчего у графа Строганова один и тот же портрет встречается два раза. Все дети Павла были на него похожи и тем не менее они были красивы и хорошо сложены; но это становится понятным, если принять во внимание, что он в 1764 и 1765 гг. пережил болезнь, сопровождавшуюся судорогами и что от этого произошло сокращение нервов на его лице; жизнь его удалось тогда спасти только посредством операции горла. Его глаза сохранили много выражения, а его очень большие зубы были так белы и ровны, что рот от этого казался почти приятным. Он был чрезвычайно худ и состоял весь из костей и мускулов, но в талии хорошо сложен и, если бы он, желая вырасти и приобрести величественный вид, не приучил себя к театральной походке, его можно было бы назвать стройным.
Его воспитание было поручено графу Панину, впоследствии министру иностранных дел, приобретшему во время своего посольства в Швеции репутацию даровитого дипломата. Этот выбор делал честь как императрице, так и графу Панину, ибо последний принял участие в заговоре, посадившем ее на престол, с условием, что она, до совершеннолетия великого князя, примет на себя только регентство. Было ли поведение гувернера последствием его добродетели или же его честолюбия – во всяком случае надо было твердо верить в его честность, рассчитывая на то, что принесенная им, в конце концов, присяга заставить его отречься от замысла, который должен был возвести так высоко его счастье и славу. К нему назначили, в качестве помощников, нескольких немцев, считавшихся способными к исполнению обязанностей инструкторов, но слишком незначительных, чтобы заводить интриги. Самый замечательный из них был Эпинус[158]158
Следующий анекдот, оказавшийся в бумагах графа Федора, заслуживает внимания, так как он не лишен некоторой пикантности: «У нас в России жил один старик из Любека Эпинус, прикомандированный сначала к делу воспитания великого князя Павла, а затем к департаменту иностранных дел, где ему поручалась работа с шифрами. Под очень простою внешностью это был умный человек, отличный математик и физик, настоящий философ и величайший любитель ходить пешком. Екатерина II его очень ценила и воспользовалась случаем при учреждении учительских семинарий, чему он много содействовал, чтобы наградить его орденом св. Анны. Принося императрице свою благодарность, Эпинус сказал: «Я почтительнейше благодарю Ваше Величество за то, что Вы меня на остаток моей жизни предохранили от палочных ударов». Он всегда возмущался безнаказанностью, которая приобреталась в России орденами, но с этого дня он всегда носил свой орден на старом сюртуке коричневого цвета, в котором он совершал свои экскурсии».
[Закрыть], хороший писатель и физик. Не было упущено ничего, что могло придать воспитанию больше блеска. Молодой великий князь прошел с успехом гимназический курс и весьма прилежно занимался литературой; история, география и математика преподавались ему хорошими учителями, но из длинных разговоров, которые я с ним имел, я вывел заключение, что такие крупные отделы воспитания, как политика, военное искусство и государственное право были им только слегка затронуты. Павел умел вести скорее блестящий, чем основательный разговор, отличался большою вежливостью к женщинам, правильно оценивал величие своей судьбы и питал высший страх перед императрицей, как матерью и государыней. При его раздражительном и желчном характере было не легко добиться этого последнего результата, для чего ловкий гувернер воспользовался следующим случаем:
Великий князь достиг девятнадцатилетнего возраста, не говоря и не делая ничего такого, что могло вызвать беспокойство относительно его намерений или возбудить сомнение на счет беспрекословности его повиновения; но вдруг, в такой момент, когда этого меньше всего ожидали, была открыта очень обширная переписка с неким бароном Кампенгаузеном[159]159
Автор по-видимому ошибается, так как здесь речь идет не о Кампенгаузене, а о Сальдерне.
[Закрыть], молодым лифляндцем большого ума и довольно бурного поведения. Эта переписка хотя и не заключала в себе ничего явно преступного и не содержала никакого проекта, но в ней говорилось о будущности, о правах и надеждах; это были плохо переваренные мысли головы, в которой начинается брожение. Императрица и гувернер, обсудив этот случай, решили им воспользоваться. Панин, вместо того, чтобы явиться к великому князю, как всегда, велел ему сказать через камердинера, чтобы он немедленно зашел к нему. Великий князь, удивленный, прибегает впопыхах и вместо того, чтобы встретить со стороны своего наставника обычное почтение, застает его лежащим в кресле. Не двигаясь с места, Панин обратился к нему со следующей речью:
– Кто вы, по вашему мнению, – наследник престола?
– Конечно, как же нет?
– Вот вы и не знаете, и я хочу вам это выяснить. Вы, правда, наследник, но только по милости Ее Величества благополучно царствующей императрицы. Если вас до сих пор оставляли в уверенности, что вы законный сын Ее Величества и покойного императора Петра III, то я вас выведу из этого заблуждения: вы не более как побочный сын, и свидетели этого факта все на лицо. Взойдя на престол, императрице угодно было поставить вас рядом с собою, но в тот день, когда вы перестанете быть достойным ее милости и престола, вы лишитесь как последнего, так и вашей матери. В тот день, когда ваша неосторожность могла бы компрометировать спокойствие государства, императрица не будет колебаться в выборе между неблагодарным сыном и верными подданными. Она чувствует себя достаточно могущественной, чтобы удивить свет признанием, которое, в одно и то же время, известит его о ее слабости, как матери, и о ее верности, как государыни. Вот ваши письма барону Кампенгаузену, прочитайте их еще раз и подумайте о том, какое решение вам остается принять[160]160
Этот эпизод, рассказанный графом Федором, хотя и не правдоподобен, но представляет некоторый интерес, так как указывает на одно из течений мысли, столь опасных для прочности трона, которые выступали наружу вследствие некоторых неправильностей в поведении Екатерины II.
[Закрыть].
Эта страшная речь произвела то действие, на которое можно было рассчитывать: великий князь просил прощения. Оно ему было обещано, но с тех пор всякое чувство нежности между матерью и сыном исчезло. Она стала для него только всемилостивейшею государыней, а он для нее верноподданным. Иногда его желчь, растроганная нескромными царедворцами, проявлялась наружу, но Екатерина, уверенная в действительности нанесенного ему удара, никогда его не боялась. В течение двадцати трех лет она позволяла ему производить военное учение нескольким тысячам человек, на расстоянии всего одной мили от Царского Села, где при ней находились только шестьдесят гвардейских гренадер. У него было одно изречение, обрывающее всякие коварные наущения: «Прежде чем быть сыном, великий князь есть подданный, и религия мне внушила, что все, что я мог бы предпринять против моей матери, послужило бы впоследствии только к оправданию моих сыновей, если бы они когда-нибудь задумали предпринять что-либо против меня».
Столь умеренное поведение обеспечило ему при жизни императрицы существование, значительно превышающее меру того, что обыкновенно предоставлялось наследнику престола. Он жил на всем готовом, получая содержание в 175,000 рублей серебром, а великая княгиня, его супруга – 70,000 руб. Когда он приступал к какой-нибудь более значительной постройке, императрица предоставляла в его распоряжение или материал, по его выбору, или же вспоможение наличными деньгами. Два раза в неделю он, по утрам, являлся к императрице, где один из статс-секретарей докладывал ему все текущие дела и она сама давала объяснения на вызываемые этим докладом вопросы. Кроме обер-гофмейстера, состоявшего лично при нем, он был окружен таким же штатом, как сама императрица. Он устраивал празднества у себя в городе и на даче, и Ее величество в таких случаях была настолько внимательна к нему, что посылала на бал к его Высочеству часть окружавшего ее общества и даже своего фаворита. С тех пор, как императрица подарила ему Гатчину, купив это владение у наследников князя Орлова, великий князь имел возможность отправляться туда на дачу, когда ему было угодно; он проводил там иногда всю осень, прежде чем возвратиться на зиму в столицу.
Казалось бы, что в такой стране, как Россия, подобное обхождение исключало всякое неудовольствие. Но, несмотря на то, постоянно раздавались жалобы и претензии; фавориты молодого двора громко вопили и никто им в этом не препятствовал.
Екатерина выписала в С.-Петербург ландграфа Дармштадтского с его тремя дочерьми, чтобы великий князь выбрал себе между ними супругу. Он избрал самую некрасивую, но самую умную, нареченную впоследствии великой княгиней Наталией. Ее две сестры вернулись домой, награжденные лентой св. Екатерины и одаренные бриллиантами; одна из них, принцесса Луиза, вышла потом замуж за герцога Веймарского[161]161
Карла Августа (1758–1828 гг.)
[Закрыть] и приобрела известность величием своего характера, выказанным Наполеону; а другая, принцесса Амалия, была выдана за наследного принца Баденского[162]162
Карла Людвига, дочь которого (Елисавета Алексеевна) впоследствии вышла замуж за императора Александра I.
[Закрыть].
Молодая великая княгиня в весьма короткое врем вполне овладела умом великого князя, что одинаково не понравилось как императрице, так и народу; первой, потому что она ей показалась интриганкой, а второму, потому что она им видимо пренебрегала. Никто тогда не предвидел, что ее карьера скоро кончится, так как никто не знал, что ее мать скрыла то обстоятельство, которое препятствовало ей дать престолу наследника. Мне впоследствии, в Германии, сообщили об этом следующее: принцесса родилась с неестественным наростом хвостца, который увеличивался с ростом и становился весьма тревожным. По этому поводу были спрошены первые хирурги Европы, но безуспешно. Наконец, явился какой-то шарлатан из Брауншвейга, осмотрел ребенка и обещал удалить этот нарост. Он велел изготовить род сиденья из железа и посадил туда бедную крошку с такою силою, что хвостец переломился и провалился во внутрь тела. Девочка чуть не умерла от этой ужасной операции, но хотя ее тогда вылечили, она должна была умереть с выходом замуж; действительно при первых же родах ребенок был остановлен внутренним препятствием, о котором никто не знал и которое нельзя было устранить. Великая княгиня выказала в последние минуты необычайный героизм, требуя, чтобы ею пожертвовали ради ребенка. Это был сын, но жертва матери не могла его спасти. Это происшествие описывалось различно, но то, что я рассказываю – истина[163]163
См. подробности в «Зап. Имп. Росс. Истор. Общ. Т. XXVII, стр. 79; Asseburg, Denkwurdigkeiten, стр. 270; Шильдер Им. Павел I стр. 104 сл. Этот автор говорит: «Вся ответственность за это происшествие падает на ландграфиню, увлекшуюся мыслью о блестящем браке ее дочери».
[Закрыть]. Г. де Николаи, секретарь этой принцессы, и ля-Фермьер, ее чтец, были моими друзьями и присутствовали при всем этом. Я все эти подробности и то, что будет сказано дальше, знаю от них.
Горе великого князя не знало границ. Он отказывался от всякого содействия и совета, и императрица была очень озабочена; тогда принц Генрих Прусский, находившийся как раз в С.-Петербурге, просил ее предоставить ему избрание средства, чтобы вернуть великому князю спокойствие, от которого, казалось, зависела его жизнь. Императрица колебалась и хотела сначала знать, какими средствами принц воспользуется, но он не хотел ей этого сказать, зная, что она воспротивится его плану. Опасность, между тем, все увеличивалась и Екатерина, наконец, уступила принцу, полагаясь на его мудрость. Тогда, в течение суток, была разыграна самая гнусная интрига, которую когда-либо затевали против памяти усопшей, интрига, которую никто не осмелился бы защитить разумными доводами. Принц Генрих насильно ворвался к упорно уединявшемуся великому князю и сказал ему, что, рискуя прослыть за невежу, он должен открыть ему тайну, а именно, что он убивается ради женщины, совершенно не достойной нежной памяти и сожалений. После этого первого удара, принц выждал, пока оскорбленный в своей чести великий князь не потребовал от него объяснений; тогда он стал ему напоминать разные случайные обстоятельства, подкрепляя их письмами, которые были заранее заготовлены на основании мнимых признаний, сделанных будто бы покойной на исповеди ее духовнику Платону; последнего заставили подтвердить эту ложь, ввиду блага, ожидаемого от нее, и указать виновника в лице ближайшего фаворита несчастного супруга – графа Андрея Разумовского, внешность и смелость коего придавали некоторую правдоподобность приписанной ему роли. Когда все было готово, чтобы нанести великому князю последний удар, принесли ларчик, наполненный мнимыми письмами, и призвали Платона, впоследствии знаменитого московского митрополита, привыкшего еще раньше к разным интригам, который должен был открыть тайну принятой им от умирающей исповеди. Эта чудовищная интрига имела полный успех. Великий князь добровольно вернулся к жизни и согласился через несколько месяцев поехать в Берлин, чтобы встретиться там с виртембергской принцессой, избранной для того, чтобы его окончательно утешить. Но граф Разумовский за всю свою остальную жизнь не мог добиться разрешения предстать перед великим князем. Дерзость этой интриги делала ее всегда в моих глаза мало вероятной, но подробности переданные мне гг. де Николаи и ля-Фермьером о внутренней жизни великокняжеского двора, в течение трех лет, пока продолжался этот брак (1773–1776), убедили меня в том, что эта мысль сама собою должна была прийти в голову принцу Генриху и что, желая предохранить великого князя от гибели, он не мог отыскать ничего лучшего[164]164
Предпочтение, даваемое графом Федором этому объяснению внезапной немилости графа Андрея Разумовского, следует, вероятно, приписать не столько его любви к истине, сколько его ненависти к принцу Генриху Прусскому. «Никогда я не встречал человека более посредственного, пользующегося некоторою репутациею, ни более смешного, при больших протекциях, – говорит граф Федор в одной статье, посвященной специально принцу Генриху; – это был маленький человечек, очень худой и плохо сложенный, расхаживающий на очень высоких каблуках. У него – безобразное лицо с огромными глазами, как у плотвы, из коих один косится на бок, с большим сердцеобразным париком на голове, украшенным буклями в голубиное крыло. Его фрачный костюм пестрел розовыми, лиловыми и желтыми цветами. Жеманные манеры, напоминающие скорее старую кокетку, чем пожилого мужчину, и хриплый голос, который он старается смягчить развязными манерами, – вот этот человек, на которого вам указывают, приговаривая: «Это великий человек».
[Закрыть].
Павел, будучи в то время еще очень молод, в семейной жизни, у себя дома, проявлял высшую степень фамильярности и товарищеских отношений. Граф Разумовский входил к нему утром, когда он еще был в спальне с великой княгиней, которая очень смеялась над его возней с фаворитом, при чем оба иногда, во время свалки, валялись на кровати. Так как уединенная жизнь Его Императорского Высочества давала повод ко многим вольностям, которыми фатоватый Разумовский потом хвастался перед Двором, то принцу Генриху стоило только приписать преступные намерения тому, что в публике уже давно служило предметом критики.
Великий князь, для которого семейная жизнь представляла так много прелести, в скором времени забыл, в объятиях свежей и рослой принцессы, ту, которую он сначала считал возможным пережить, и потомство, вышедшее из этого нового брака, в достаточной степени доказало, что он был устроен весьма мудро. Его вторая жена далеко не обладала умом первой, но у нее были все те качества, которых не доставало первой: беспредельное восхищение перед императрицей, большое пристрастие к представительству и к придворной жизни и чрезвычайное благоволение к нации, языку которой она поспешила выучиться и религию которой она приняла с искренним умилением и верою в нее. Как известно, русские великие князья могут жениться только на принцессах, принявших православие. Герцогиня Виртембергская, женщина очень тщеславная, предназначив своих дочерей к занятию первых европейских тронов, придумала, чтобы избавить их впоследствии от упрека в отступничестве, ограничить их религиозное воспитание первоначальными элементами христианской веры и решать вопрос об их вероисповедании лишь в момент их замужества[165]165
Русские историки любят подчеркивать легкость, с которою немецкие принцессы отступали от своей религии каждый раз, когда им приходилось выходить замуж за наследника русского престола. По этому поводу интересно прочесть приведенный Бильбасовым документ о принятии православия принцессой Ангальт-Цербтской, а также письмо Екатерины II графу Румянцеву от 17 августа 1792 г., приведенного генералом Шильдером (История Императора Александра I, стр. 231, прим. 120): «Вопрос о вере не составлял затруднений, не более чем все остальное, речь идет о принцессе Луизе Баденской, невесте великого князя Александра, впоследствии императора Александра I). Нашелся учитель богословия, который доказал Баденскому принцу преимущество православной веры, и успех получился такой, что можно было ожидать момента, когда сам принц пожелает перейти в эту веру.
[Закрыть]. Таким образом, виртембергская принцесса, сделавшаяся супругой великого князя Павла Петровича, перед тем была предназначена дармштадскому принцу и должна была принять лютеранство, но тотчас же перешла в православие, как только принц Генрих Прусский, ее родственник, предложил ее русскому Двору; а ее сестра, принцесса Елисавета, была помещена в католический монастырь в Вене, когда император Иосиф II назначил ее для своего племянника, впоследствии императора Франца.
Не следует, однако, приписывать великой княгине всю заслугу ее прекрасного поведения, так хорошо приспособленного к новым обстоятельствам, в которых она очутилась. Переход от маленького двора в Монбельяре к большому Петербургскому Двору требовал много наблюдательности, а так как ее мать знала ее слабость, по этой части, она назначила ей в подруги и советчицы некую г-жу Шиллинг, вышедшую впоследствии за лифляндца, генерала Бенкендорфа[166]166
Его сын, граф Александр Христофорович Бенкендорф, впоследствии был грозным шефом жандармов.
[Закрыть]. Эта особа, под весьма скромною внешностью, сумела в короткое время так завладеть умом великого князя, что при его дворе ничего не делалось без ее совета. В виду этого сочли нужным установить за ней секретное наблюдение; но из донесений, которые императрица получала о ней, она скоро прониклась искренним уважением к г-же Бенкендорф. Не решаясь высказать это слишком открыто, чтобы не рассердить великого князя и не обеспокоить его фаворитов, Екатерина, однако, не упускала ни одного случая, чтобы доказать ей свое благоволение; так, например, однажды, когда г-жа Бенкендорф находилась в последнем периоде беременности, она заставила ее сесть, несмотря на то, что вся царская семья стояла. До тех пор, пока продолжалась ее милость, двор престолонаследника отличался спокойствием и хорошими манерами. Постоянная вспыльчивость великого князя уравновешивалась мирными занятиями у домашнего очага, ибо великая княгиня любила товарное искусство и гравирование, которые чередовались интересным чтением вслух г-жи Ля-Фермьер. Не обошлось, конечно, без того, чтобы эта хорошо организованная семейная жизнь не имела также смешных сторон, о которых мне стало известно от г-жи Нелидовой, фрейлины великокняжеского двора, а также из разговоров с императрицей.
Я никогда не мог выяснить, что именно заставило Екатерину отправить великого князя в путешествие. Последствия в достаточной степени доказали неосновательность мотивов, которые ей тогда приписывали, между прочим – будто она хотела от него отделаться. Сам великий князь позволил себе распространить эти некрасивые слухи и придать им правдоподобность своими нескромными разговорами и странными сценами. Так например, во Флоренции, обедая в тесном семейном кругу и без соблюдения этикета у великого герцога Леопольда. Он вдруг вскочил из-за стола и, сунув все свои пальцы в рот, чтобы вызвать рвоту, стал кричать, что его отравили. Великогерцогская семья, крайне обиженная в своей мещанской простоте, все же старалась всеми средствами его успокоить; но потому ли, что Павел действительно воображал, что он находится в опасности, или же потому, что он притворялся, – его удалось успокоить лишь с большим трудом. В Неаполе, когда однажды зашла речь о правительстве, королева сочла нужным сказать, что не следует говорить о законах в присутствии принца, привыкшего к самому совершенному законодательству, которое существует на свете. На это великий князь воскликнул: «Законы в России! Законы в такой стране, где та, кто царствует, может удержаться на троне только в силу того, что она законы топчет ногами!» Все ужаснулись – как мне впоследствии передавала сама королева – и постарались скорее переменить разговор.
Когда он хотел, великий князь умел впрочем быть очень любезным, и во Франции это с ним часто случалось. Передают много остроумных изречений, принадлежащих ему. Я приведу одно из них, характеризующее сразу двух лиц: в Трианоне герцог, впоследствии маршал, де Коаньи, весьма модная в то время личность, стоя облокотившись на камин, спросил великого князя, не меняя своего положения, как он находит французов: «Они очень милы, – ответил Павел, – хотя немного фамильярны». Несмотря на то, что он лицом был очень некрасив, над чем он сам посмеивался, он так хорошо умел себя держать, что отнюдь не казался простым и был настолько сдержан, что как будто ничему не удивлялся. Однажды в его честь устроили бал в большой галерее в Версале, где уже много лет не давались празднества, и король рассчитывал, что произведет этим большое впечатление на великого князя. Когда граф дю Нор[167]167
Псевдоним, под которым великий князь Павел Петрович путешествовал по Европе. (Прим. перев.)
[Закрыть] вошел, он раскланялся и стал, как всегда, разговаривать с придворными: «Посмотрите-ка на моего дикаря, – сказал Людовик XVI, потеряв терпение, графу де Бретёль, – ничему он не удивляется». – «Это потому, – ответил министр, – что он каждое воскресенье видит то же самое у своей матери». Бретёль, который потом был послом в России, мне сам рассказал этот эпизод и он говорил правду. Если же, как я думаю, цель преследуемая Екатериной, когда она своего наследника отправила путешествовать, была просветительная, то она в ней ошиблась, ибо он вернулся таким же, каким уехал; в ее присутствии, он по-прежнему был неловкий царедворец, а за ее спиной неудачно выражал свое недовольство. И действительно, никто из тех, кто наблюдал за ним в Европе, не удивился его поведению, после того, как он взошел на престол.








