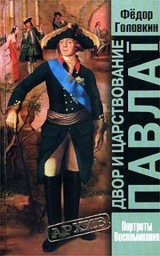
Текст книги "Двор и царствование Павла I. Портреты, воспоминания"
Автор книги: Федор Головкин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 29 страниц)
VIII. Кобенцль[231]231
Граф Федор, говоря о Кобенцле, имел осторожность не заимствовать черты его биографии из «Секретных воспоминаний» Масона. Поэтому приводимые им анекдоты вполне удачно дополняют портрет, нарисованный Масоном.
[Закрыть]
Это семейство блестящим образом закончило свою карьеру. Двоюродные братья, графы Филипп и Людовик, достигли всего, чего только можно достигнуть в Австрии. Не было ни одного сколько-нибудь важного дела, в котором один или другой не играл бы в свое время роли, а графиня Румбек, родная сестра Людовика, со своей стороны сумела обратить внимание публики в Вене и за границей своими странностями и обществом, которым она себя окружала. Внешность обоих могла их утешить за то, что им не было суждено иметь детей. Граф Филипп был небольшого роста, худощав, с желтым лицом и манерами итальянского ростовщика. Людовик был толст, с рыжими волосами косыми глазами и грязен до того, что то было заметно, даже когда он был одет в парадный костюм; а его жена, урожденная Ля Ровере де Монтеляботте, была, хотя и не глупа, но одна из самых неприятных женщин, которых можно было встретить, и так неопрятна, что она за столом занималась ловлей блох. Тем не менее внешность этих господ, помимо протекции, оказываемой им императрицей Марией Терезией, чувствовавшей большую привязанность к графу Людовику, не мало способствовала блестящей карьере, к которой их предназначали их прирожденные и приобретенные таланты; можно сказать, что они слишком плохо выглядели, чтобы возбуждать в соперниках ревность или беспокоить их честолюбие и это способствовало назначению их в самые блестящие посольства и, наконец, на министерские посты.
Граф Людовик имел особенное пристрастие к светской жизни и к тому же столько находился в движении, что нельзя было понять, когда он работает. Больше всего он любил французскую комедию и, к несчастию для своего положения, требующего достоинства, сам играл в ней в совершенстве, а когда не мог играть, повсюду говорил только о ней. Это ставило его иногда в весьма неловкое положение. Однажды вечером, когда он должен был играть роль «Пандольфа» в комедии «Serva Padrona», он загримировался и переоделся до полной неузнаваемости; но внезапно у него так заболели зубы, что он только успел броситься на кровать, где в таком виде и заснул. Ему попеременно прислуживали два камердинера и один из них, который должен был присутствовать утром при его вставании, не видел, как он накануне лег. Кобенцль, проснувшись на другое утро, позвонил; камердинер входит и, при виде этого ужасного лица, испуганно убегает и кричит во весь голос, что дьявол овладел кроватью Его Превосходительства. Весь дом в ужасе сбегается и можно себе представить гнев посла и разговоры, которые этот инцидент возбудил в Петербурге. Другой раз, из Вены прибыл важный курьер и Кобенцль приказал его впустить, забыв, что он в этот момент был занять репетицией роли, в костюме жида, с приставною бородою и пластырем на глазу. Курьер отступает на два шага и отказывается передать ему депеши. Хотя ему объясняют, в чем дело, но он упорствует и пришлось послать за Тосканским посланником, бароном Зедделером[232]232
Иммануил-Иоанн-Непомук Зедделер, Тосканский посланник при Русском Дворе, был сыном барона Людовика Ивановича Зедделера, поступившего на русскую службу и принявшего русское подданство. Это предок целого семейства военных, отличившихся в войнах, которые Россия вела в XIX веке.
[Закрыть], который лично знал курьера, чтобы убедить его, что перед ним действительно находится посол Ее Императорского и Королевского Апостолического Величества.
Я уже некоторое время был назначен посланником в Неаполь, когда императрица, однажды, в Царском Селе обратилась ко мне за обедом со следующими словами, относившимися косвенно к приглашенному тоже Кобенцлю, которым она почему-то была недовольна: «Постарайтесь там понравиться и действуйте так, чтобы вам тоже там понравилось. Я ставлю в ваше распоряжение все средства и запрещаю вам только одну вещь – играть комедию. Тот, кому поручено быть моим представителем, должен отказаться разыгрывать других лиц». Удар был тяжел, но попал метко. Кобенцля тогда обвиняли, что он играл комедию, в то время, когда у него в кармане было известие о смерти Марии Антуанетты, но я этому никогда не верил. Он был готов унизиться, чтобы иметь успех, но не был способен на такую подлость. Г-жа Румбек, его сестра, которую не любили за ее праздные разговоры и за ее шутки и для которой главной задачей жизни было развлекать своего брата, могла бы много вредить ему, если бы его карьера не сложилась в виде бесповоротной судьбы. Во время его первого посольства в Петербурге ее, к большому огорчению брата, выслали из столицы. Когда он впоследствии был назначен послом в Париж, во время Консульства, он каждый вечер отправлялся к г-же Бонапарт, чтобы составить партию втроем. При этом его нередко заставляли ждать, а иногда отсылали обратно домой, но он в следующий раз возвращался, покорно перенося презрение, которое он вполне заслужил. Правда, что ему зато почти всегда удавались дела, но спрашивается, могут ли такие средства, если от них не зависит благо родины, даже в случае удачи, давать право на славу, и должен ли порядочный человек вообще приносить отечеству такие жертвы?
Кобенцль был расслаблен бессонными ночами и обильною пищею; ибо одна любовь, которую он старался проявить к женщинам, считавшимся в моде, не могла быть причиной его смерти в пятидесятилетний возраст. Его небольшое состояние, а также более значительные средства его брата Филиппа, вместе с их именем перешли к графу Коронини, дворянину из Штирии и Карниолии, как и сами Кобенцли. Память о родителе графа Людовика уважается бельгийцами, которыми он управлял во времена принца Карла Лотарингского, брата императора Франца.
IX. Князь де Линь[233]233
Виктор дю Блед в своем очерке о князе де Линь (Revue des Deux Mondes от 1 апреля 1889 г.) приводит отзыв графа Головкина, который ему был сообщен частным путем.
[Закрыть]
Карл, князь де Линь и князь Священной Римской Империи, был, в то же время, первым грандом Испании, кавалером ордена Золотого Руна, капитаном немецкой гвардии германского императора, фельдмаршалом и пр., что, в связи с его высоким происхождением, огромным, отчасти уже расточенным богатством, большим пронырством и веселостью характера, а также с многочисленными путешествиями и нравственностью, приспособляющегося к случаю, сделало из него то, что обыкновенно называют большим барином, и создало ему знаменитость, которой недоставало лишь таланта и признания. Его молодость прошла между Венским Двором, политика которого состояла в том, чтобы оказывать бельгийцам отличие, и Версальским Двором, где король и принцы его называли фамильярно «Шарло». Иосиф II, пользовавшийся, большею частью, услугами людей посредственных, считая их более податливыми, а также людей приветливых, как более вкрадчивых, вел через его посредство разные переговоры с Россией – не без задней мысли, отказаться, в случае надобности, от его слов; но он назначал его также в армию, где Линь проявлял храбрость и деятельность, не обижаясь тем, что к нему потом подсылали товарищей по командованию или даже подчиняли его высшему начальнику. Князь де Линь был высокого роста и хорошо сложен, с лицом, которое, вероятно, было когда-то очень красиво, но со временем изнежилось. В двадцатилетний возраст он, должно быть, был большим щеголем и фатоват. При первом знакомстве, его манеры казались необыкновенно изящными, но на другой же день он начинал проявлять поразительный цинизм. Он говорил и проделывал такие вещи, которые совершенно не соответствовали ни его имени, ни занимаемым им должностям. Его неряшество, по-видимому, было преднамеренно. В его замке близ Вены[234]234
На Каленберге.
[Закрыть], его любимом местопребывании, после того, как он потерял Бельэль и владения, расположенные в Нидерландах, царствовал невообразимый беспорядок; когда у него не было особенно важных дел, он вставал только к обеду, и днем, пока он предоставлял свою растрепанную голову искусным рукам своего камердинера или верного мулата, в его спальне можно было видеть осленка или козу. Опрокинутая чернильница, неразборчивые и покрытые помарками рукописи указывали на то, что он писал, при чем его произведения, как прозаические, так и поэтические, были более чем посредственны. Его любимую дочь, Христину, княгиню Клари, «которую он одну из всех своих детей считал действительно своим ребенком», можно было видеть сидящей в углу, занятой разбором или перепискою его рукописей, что дополняло эту оригинальную картину, а иногда она сидела около него, ела фрукты и журила его за его речи. Его сочинениям не было счета, а между тем г-же Сталь стоило не мало труда извлечь из них два тома, потому что даже те анекдоты, которые могли им придать пикантность, были плохо рассказаны.
Когда Фридрих Великий решил послать в Петербург своего наследника, Венский Двор счел уместным отправить туда князя де Линь с поручением помешать переговорам высокого гостя, который, будучи от природы застенчивым, к тому же уехал из Берлина с недугом, причиняющим ему большие боли, о чем он не посмел сказать своему дяде, королю. Несколько дней спустя, прусский принц посетил Академию наук и вследствие бесконечных речей и осмотра минералов, оружия и зародышей в банках так утомился, что с ним сделался обморок. Князь де Линь немедленно садится в карету и летит во дворец. Екатерина, узнав, что он приехал, просит его зайти к ней и спрашивает его, по какому поводу он так рано явился. «Увы, Ваше Величество! – воскликнул князь, – я последовал за прусским принцем в Академию и, когда увидал, что он лишился чувств[235]235
На французском языке здесь выходит игра слов, которая не может быть передана в переводе: «il y etait sans connaissance» – значит: он был там (т. е. в Академии наук) «без чувств» и то же «без знаний». (Прим. перев.)
[Закрыть], поспешил сюда, чтобы доложить об этом Вашему Величеству». Эта острота и много других, в связи с оригинальностью князя, который впрочем лично не особенно понравился в Петербурге, достигли все же цели, намеченной Венским Двором.
Иосиф II не так быстро улавливал смысл острот, как его августейшая соседка в России. Возвратившись из Нидерландов, крайне недовольный своей поездкой, он пожаловался князю де Линь на дурное расположение к нему фламандцев. «Ведь я, в конце концов, желаю только их блага[236]236
Тоже игра слов, которая по-русски не совсем выходит: «Je ne veux que leur bien», – значит, я желаю только их блага, в смысле их пользы, и может тоже значить их блага, или добра в смысле имущества. (Прим. перев.).
[Закрыть]», – сказал он. – «Ах, Ваше Величество! – ответил князь де Линь, – поверьте, что они в этом вполне убеждены!» Император не понял этой игры слов, которая три недели спустя облетела всю Европу.
X. Прекрасная фанариотка (г-жа де Витт)[237]237
1766–1822.
[Закрыть]
Кто не слыхал, тридцать лет тому назад, об этой прекрасной гречанке? Кто ее не видел, когда она путешествовала по всей Европе? Что касается меня, то я ее видел в 1781 г. в Берлине. Она раньше была рабыней в Серале, пока Боскам, поверенный в делах Польши в Константинополе, не увез ее оттуда; впоследствии он ее уступил человеку неизвестного происхождения, по имени де Витт, который возил ее по всем большим городам[238]238
Словацкий, знаменитый польский поэт, умерший в Париже в 1840 г., посвятил поэму истории последних лет ее жизни, причем он в предисловии чуть ли не извиняется, что касается столь деликатного предмета. См. Валишевский «Вокруг трона», стр. 152.
[Закрыть]. Когда возникла война между Турцией и Россией, она очутилась в главной квартире в Яссах, где она так сумела опутать Потемкина, что его племянницы ее приревновали. Она пребывала там под видом его подруги, желающей его цивилизовать, и вложила в это столько прелести и хитрости, что вполне подчинила себе князя. Его племянницы опасались больше за свое влияние, чем за его сердце, но их беспокойство и маленькие интрижки не могли ее сбить с позиции. Она последовала в 1791 г. за князем в Петербург и получила там, в подарок, прелестный дворец, роскошные экипажи, туалеты, не оставлявшие желать ничего лучшего, и звание графини Священной Римской Империи. Вопреки строгому придворному этикету, князь ее даже лично представил государыне, которая, на следующий же день, одарила ее прелестным бриллиантовым ожерельем. Весь двор лежал у ее ног и низость льстецов дошла до того, что в то время, как Ее Величество принимала в аудиенции дипломатический корпус граф Кобенцль, австрийский посол, прогуливался в кабриолете с г-жей де Витт под самыми окнами императорского дворца. После смерти князя Потемкина, ее нового друга, она удалилась в поместья, которые он ей подарил, и разговоры о ней на некоторое время притихли.
В одном из этих поместий, соседнем с знаменитым владением Тульчиным, с ней познакомился граф Потоцкий. Его сердце, уже так давно свободное от увлечений, воспылало к ней любовью, которая довела его до самых сумасбродных и непристойных действий, причем в числе его соперников оказался его старший сын. У поляков такого рода дела устраиваются быстро; заговорили о разводе и было решено принудить графиню Потоцкую дать свое согласие. Она перестала пользоваться милостью; к тому же ее язык создал ей много врагов, а ее чрезмерные расходы – много кредиторов, так что ни граф Шуазель-Гуффье, ни я оставшиеся ей верными, не могли ей ни в чем помочь, ни даже дать ей совет. Однажды ее спросили о ходе ее разводного процесса: «Увы! – ответил она, – граф Потоцкий настаивает на том, что он не отец своих детей. Но это прибавляет лишь несправедливость и злословие к роковой печати их законности».
Павел I, который не любил г-жу де Витт, отнесся к ней отрицательно. Несмотря на то, вновь испеченная графиня Потоцкая появилась при Дворе. Но насколько она была хороша собою и очаровательна в греческом костюме, настолько она показалась смешной в придворном туалете и с манерами великосветской дамы. Можно было сказать, что эта комедиантка была восхитительна в роли горничной-любовницы и некрасива, даже противна, в роли Нинетты при Дворе. В то же время, настоящая графиня Потоцкая старалась утешиться или отомстить, распуская разные остроты, которые окончательно отдалили ее от Двора и от столицы.
XI. Граф Шуазель-Гуффье
Граф Шуазель принял двойную фамилию после того, как он женился на последней представительнице рода адмирала Бонниве, известного сподвижника короля Франциска I[239]239
Мари-Габриель-Флоран-Огюст граф де Шуазель Бопре (1752–1817) принял фамилию Шуазель-Гуффье после женитьбы на последней из рода Гуффье. Вторым браком он был женат на княжне Елене де Боффрмон. Его старший сын Антуан-Луи-Октав (1773–1840), пер Франции и российский камергер, первым браком был женат на Потоцкой, а после ее смерти вторично женился на урожденной Тизенгаус, написавшей впоследствии «Воспоминания об императоре Александре». Ее сыновья были уже русские подданные.
[Закрыть]. Граф был французским послом при Блистательной Порте, когда вспыхнула Революция. Он совершил путешествие по Турции, результатом которого явилось прекрасное и общеизвестное сочинение «Живописная поездка по Греции». В Константинополе он был известен своими интригами против России, но зато, когда возникла война между Турцией и Россией, он приобрел не меньшую известность деятельной защитой русских пленных и даже выстроил для них среди арсенала деревянный госпиталь, где они пользовались прекрасным уходом. Когда на его родине Революция восторжествовала, он еще некоторое время держался в Турции против интриг якобинцев Востока, но, в конце концов, все-таки был вынужден искать приюта у поверенного в делах России, который, не зная взгляда на него своего Двора, обошелся с ним сначала довольно пренебрежительно. Но после того, как из Петербурга было получено на имя бывшего французского посланника весьма любезное приглашение, поверенный в делах понял, слишком поздно, как ему следовало обращаться с графом.
В Петербурге никогда никого не возвещали с большим шумом и не ожидали с большим нетерпением, как его. Я помню, как в Царском Селе императрица, спускаясь, в сопровождении принца Нассауского, по маленькой лестнице колоннады и завидев меня, крикнула мне издали: «Отгадайте, кого мы здесь через две недели увидим!» Шуазель не мог мне прийти в голову, так как я знал о нем лишь из его сочинения, которое я как-то перелистывал. «Граф Шуазель! – продолжала императрица, – мне доносят, что он уже вступил на нашу территорию и может быть здесь скорее, чем мы думаем». Она произнесла эти слова с таким увлечением, что я приписал это литературной известности Шуазеля, соблазнившей, вероятно, фаворита Зубова, а также симпатиям, которые императрица всегда питала к парижским остроумцам. И вот, по истечении месяца, к нам прибыло возвещенное чудо и на первый же взгляд было оценено гораздо ниже своей репутации. При Дворе, а особенно при тогдашнем Петербургском Дворе не долго ломали голову над людьми, и вновь прибывший человек быстро подвергался критике, после чего он, через какие-нибудь сутки или одобрялся, или же безапелляционно осуждался.
Граф Шуазель был небольшого роста, широк в плечах, с приятными жестами и огромными черными бровями, торчащими на лбу, как конский волос из лопнувшего тюфяка; его маленький нос напоминал клюв попугая; его взгляд казался слишком обдуманным, а лицо было чересчур разгоряченно; его черты выдавали более хитрость, чем ум, а под его размашистыми и простыми манерами скрывалась некоторая неловкость. На груди ни звезды, ни ленты, а лишь маленький крестик св. Людовика в бутоньерке. Всего этого было достаточно для его осуждения и падения с самого порога. Так как Шуазель уже несколько лет тому назад выехал из Франции, то этот главный предмет для разговоров того времени оказался мало интересным в его устах. Он, между прочим, рассказывал, что Отэнский епископ Таллейран, его близкий друг и товарищ детства, не признает долга в четыреста тысяч франков, которые он ему отдал на хранение; это обстоятельство показалось довольно пикантным. Но на следующий день он опять об этом заговорил и это уже показалось пошлым. В обществе Шуазелю столь же мало повезло, как и при Дворе. Смешная страсть к одной великосветской кокетке окончательно лишила его симпатии. Ее Величество, обещавшая ему место президента Академии наук, как только княгиня Дашкова выйдет в отставку, стала увертываться от обещания, отказывая Дашковой в отставке, и ограничилась тем, что велела купить у Шуазеля его серебряный сервиз, представлявший значительную ценность. Наконец, граф Эстергази, поверенный французских принцев, обладавший весьма твердым положением и пользовавшийся, вопреки данным ему инструкциям, своим влиянием для того, чтобы топить тех из французских подданных, которые могли бы его затмить, нашел Шуазеля достойным предметом для своих интриг и окончательно погубил его в глазах императрицы. Вот доказательство тому: однажды вечером, когда я стал утверждать, что нельзя более приятно и поучительно толковать о всем, касающемся искусств, чем это делает Шуазель – что была сущая правда – императрица обошлась со мною довольно круто, посоветовал мне не решать вопросов которых я не понимаю.
Некоторые лица, из чувства ли справедливости, или из расчета, старались, в разное время восстановить его репутацию. Это попробовал между прочим сделать граф Марков, по просьбе своей возлюбленной г-жи Гюс, но несмотря на его влияние у императрицы, все было тщетно, и Шуазель мог попасть ко Двору не иначе, как в толпе остальных царедворцев. Эта опала, по-видимому сильно огорчавшая его, при перемене царствования сама собою поставила его в ряды почетных жертв предшествовавшего режима. Павел I допустил его в свою интимную компанию, назначил его президентом Академии художеств, поручил ему знаменитую Варшавскую библиотеку и, что лучше всего этого, подарил ему поместье в Самогитии, дающее 50 000 руб. дохода, благодаря чему он стал гораздо богаче, чем он когда-либо был, так как все, что он раньше имел, принадлежало не ему, а его жене. Но легкость, с которой он попадал под влияние первой встречной женщины, оказавшей снисхождение к его безобразной внешности, затем некоторые ростовщические дела, скомпрометировавшие его имя, а больше всего – ненависть новых министров к эмигрантам, низвели его скоро до худшего состояния, чем он находился при смерти Екатерины. О нем еще раз вспомнили на один момент, когда было решено поставить Суворову памятник. Его пригласили, спросили его совета и он мог подумать, что входит опять в милость; но 21 января 1800 г. он был выслан из Петербурга за то, что обедал у графа Кобенцля, австрийского посла, которому тогда было запрещено появляться при Дворе, а, может быть, и за то, что он разговаривал с Дюмурье, относительно которого Павел еще сам не знал, как ему быть.
Так как и я, на следующий день, оказался высланным, то мне пришлось с ним встретиться в маленьком трактире, в двух милях от столицы, где он наравне с многими другими, ожидал прибытия своих экипажей. Нас там было около восьмидесяти изгнанников, все из того же разряда, между прочим престарелый маркиз Ламбер и г-жа Жеребцова, сестра Зубова. Бедный Шуазель с грустью расставался с довольно посредственной женщиной, которую он воображал любить до безумия, и с хорошенькой квартирой холостяка, где он нас нередко угощал маленькими обедами на шесть приборов.
Я уже сказал, что с Шуазелем можно было весьма приятно разговаривать обо всем, что касалось искусства, и, действительно, это было большое удовольствие. Если он вам объяснял какое-нибудь ремесло, он говорил весьма ясно и поучительно. Но помимо этих предметов его разговор был самый обыкновенный. Зато никто в его положении не рисовал так хорошо карандашом. Он, впрочем, только этим и занимался и, ради рисования, забывал о самых важных делах. Что же касается нравственной стороны его характера, то находили, что я совершенно правильно обрисовал его, сказав, что если бы Таллейран был послом при Порте, а Шуазель – епископом Отэнским, то мы первого встретили бы в Петербурге, а второго – в должности министра иностранных дел Конвента, Директории и Бонапарта. Вся разница между ними состояла бы во внешности, росте и таланте.
Впоследствии я встретился с графом Шуазель-Гуффье в Париже, во время Империи, и прожил несколько лет, вращаясь с ним в одном и том же обществе. Он проводил дни у того же друга молодости, относительно которого он нам в России рассказывал, что был им обижен на четыреста тысяч франков, ухаживал за ним, чтобы добиться места префекта, члена Совета или сенатора, а затем каждый вечер рассказывал мне о нем разные ужасы. Он тогда до смешного был влюблен в княгиню Елену Боффрмон, остроумную даму и подругу г-жи де Жанлис. Мы их называли маленькими учеными, потому что они всегда обо всем рассуждали и толковали. Он занимался этою любовью у себя дома, в присутствии жены и пяти замужних дочерей, которые были этим возмущены. Когда же его жена умерла, он женился на своей обожаемой Елене, тоже незадолго перед тем овдовевшей, которой пришлось испытать, со стороны своих падчериц, довольно плохое обращение.
Когда наступила Реставрация, никто не оказался более роялистом, чем граф Шуазель-Гуффье, за что он был возведен в перы и получил пенсию. Кроме того, он был избран членом французской Академии и окончил свое сочинение «Живописное путешествие по Греции». За неимением средств он не мог достроить свой красивый особняк на авеню Нельи, где все было устроено по образцам Афин и разработано с редким совершенством. После его смерти это хорошенькое владение было превращено в общественное гуляние под названием «Сада Марбеф». Мне было стыдно за парижан, а в особенности за королевских принцев и принцев крови!








