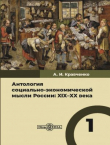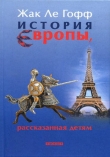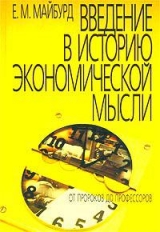
Текст книги "Введение в историю экономической мысли. От пророков до профессоров"
Автор книги: Евгений Майбурд
Жанр:
Экономика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 41 страниц)
Еще о теории затраченного труда
«Не потому хлеб дорог, что платится рента, а потому рента платится, что хлеб дорог». Возвращаемся к этому, как собирались. Что значит "хлеб дорог Кому дорог? Вспомним, что говорил Смит о действительной цене и меновой ценности в связи с затратами труда (см. главу 14). Действительная цена – это то, во что обходится вещь тому, кто хочет ее сделать или добыть. Это мера его собственных усилий тела и напряжения души. А меновая ценность (т. е. цена продажи) – это мера экономии его телесных и душевных тягот.
Рикардо не оспорил и не опроверг такой подход к проблеме. Полемизируя со Смитом, он спорил о многом другом, но этот подход он как бы не заметил вовсе. Ему казалось, что Смит напрасно отказался от принципа затраченного труда, сформулированного для первобытного общества. И Рикардо принял этот принцип как универсальный для общества на любой стадии его развития, фактор же капитала он попытался свести к фактору-труду.
Действительно, капитал оказывает влияние на ценообразование тем, что его создание требует затраты труда. Но он также влияет на цены и тем, что создает экономию живого труда, И с этой стороны его влияние более непосредственно, потому что здесь сказываются явления, происходящие с живым трудом, а в первом случае идет речь о влиянии прошлого труда на живой. Капитал проявляет свою благотворную роль лишь постольку, поскольку выгода от экономии живого труда перевешивает ущерб от затраты прошлого труда (который был употреблен при создании этого капитала).
Рикардо развивал лишь одну сторону данного двустороннего явления – лишь сторону затраты. Он пытался свести капитал к трудозатрате, но капитал на это не поддался. Когда Рикардо говорит "хлеб дорог", он имеет в виду: дорог для производителя. Он говорит об издержках производства. Но в этом выражении подспудно присутствует и второй смысл: дорог для покупателя. Но тут уже речь не об издержках, а о цене. Для Рикардо то и другое – почти одно и то же. Он постоянно твердит: затрата труда регулирует цену. Он говорит: затрата труда на крайнем (наименее плодородном) участке, который не дает ренты, регулирует цену хлеба на рынке. В другом месте он подчеркивает, что речь идет именно о рынке свободном, конкурентном, а не о монополии производителя.
Но если рыночную цену хлеба не диктует никакой монополист, каким же образом наибольшие издержки производства могут эту цену регулировать. Давайте порассуждаем. Рикардо говорит: рост населения увеличивает потребность в хлебе, а это заставляет осваивать земли, пустовавшие из-за плохого качества. Но он не говорит о том, какой механизм запускает и осуществляет это движение к землям, еще не освоенным. Каким образом фермеры узнают о том, что пора уже распахать эту пустошь? Что хоть и дорого обойдется мне хлеб на этом участке, но я его все равно смогу продать? Что, им говорит об этом Госплан? Или правительство гарантирует им закупку хлеба по цене издержек?
Нет. Правительство, по схеме Рикардо, не вмешивается в рынок, и не придуман еще Госплан. Мы догадываемся: о том, что настал момент распахать пустошь, фермер узнает не где-нибудь, а только на рынке. Сигналом ему служит повышение хлебных цен. Происходит же это повышение потому, что спрос на хлеб растет, а предложение хлеба на рынке не растет. Только по данной причине. Механизмом, который понуждает фермера идти пахать целину, является механизм спроса и предложения.
Именно так, и только так. Повышение цены предшествует вовлечению в обработку новых участков земли. Не максимальная затрата труда, не максимальный размер издержек регулируют цену хлеба. Скорее цена хлеба регулирует тот максимальный размер издержек, который может окупиться, на рынке. Рента платится не потому, что хлеб дорог для производителя, а потому прежде всего, что хлеб дорог на рынке. Первопричина – не издержки, а цена. Но тогда что остается от трудовой теории ценности?
Чтобы выпутаться из мешанины, которая образовалась вокруг этого вопроса за столетие с большим "гаком", давайте будем различать две трудовые теории ценности. Одна – трудосберегающая, которую можно обнаружить у Адама Смита. Другая – трудозатратная, которую предложил Давид Рикардо. Первая связывает ценность с выгодой, вторая связывает ценность с утратой. Какая из них верна?
А что значит "верна"?
О теории и практике в экономической науке
Существует такой полемический прием: мол, практика доказывает истинность (или ложность) такой-то теории. Маркс даже выдвинул формулу: «Практика – критерий истины». Такой подход может таить в себе неожиданные ловушки.
…В одном из рассказов Борхеса[29]29
Хорхе Луис Борхес (1899–1986) – загадочный аргентинский писатель, один из самых эрудированных людей XX в. Свободно ориентируясь во всех земных культурах, он любил сопоставлять и сталкивать различные типы мышления, получая философские и логические парадоксы. Все это делалось в художественной форме. Считается писателем для интеллектуалов.
[Закрыть] повествуется о человеке, обнаружившем в дебрях Амазонки неизвестное племя со странными обычаями. В числе прочего они верили, что их шаман может превращать людей в муравьев. «Один субъект, – сообщает рассказчик, – почуяв мое недоверие, указал мне на муравейник, будто это могло служить доказательством». Однако мышление аборигенов как раз допускало подобные доказательства муравейником. Как ни странно, но и мышление некоторых экономистов прошлого столетия, как мы увидим вскоре, тоже допускало такие 'доказательства". В чем тут ловушка?
Есть реальность и есть наука, которая хочет эту реальность объяснить. Есть явление и есть теория, которая истолковывает это явление. "Доказательство муравейником" – это когда некто для обоснования своего истолкования данного явления указывает вам на то, что данное явление имеет место. Вот, мол, явление же налицо – значит, мое толкование истинно. Муравейник видите? Значит, шаман может превращать людей в муравьев. С учетом сказанного еще более удивительно, что значительная часть публики склонна была принимать всерьез подобные доводы, как это случилось с некоторыми теориями Маркса, Вот что значит ловушка, и вот почему нужно быть крайне осторожными, сопоставляя теорию с практикой.
Альберт Эйнштейн говорил, что хорошая физическая теория должна обладать двумя качествами, которые он называл так: внутреннее совершенство и внешнее оправдание. Первое означает, что теория не должна быть самопротиворечивой, в ней все должно быть взаимоувязано. Второе означает, что теория должна хорошо согласовываться с опытом. Хорошо согласовываться с опытом – это максимум того, что мы можем требовать и от экономической теории по отношению к экономической практике. Мы не должны искать в опыте доказательства теории, но мы вправе требовать от теории, чтобы она не входила в противоречие с опытом. Разумеется, и в нашей науке хорошая теория не должна содержать натяжек, подтасовок, а также взаимоисключающих положений. В одной из ближайших глав, однако, мы найдем и эти вещи.
Жизнь так сложна, что ее редко можно описать теорией во всей необходимой полноте. В науке, подобной нашей, теория всегда оставляет "за скобками" многие вещи из той самой действительности, которую эта теория берется описать. Теория в экономике – это всегда схема, бледная тень живой реальности. Когда на практике выходят вещи, вроде бы отвечающие предсказаниям какой-то теории, это не означает, что данная теория "доказана". В лучшем случае это позволяет говорить, что данная теория пока неплохо работает, поскольку опыт с нею согласуется.
Экономическая действительность первой четверти XIX в., казалось, опровергала теорию Адама Смита. Требовалось нечто иное, и оно явилось в виде учения Рикардо, которое отвечало определенным запросам общественного сознания Великобритании. Многим в XX в. успех учения Рикардо представляется странным. Вокруг него сложился тогда кружок учеников и почитателей, превозносивших его (особенно после преждевременной смерти) заведомо выше заслуженного. Один из них сказал, например, что Рикардо был тем, кто создал экономическую науку; другой назвал его великим открывателем истины. И все они говорили о его превосходстве над Адамом Смитом.
Мы видим, однако, что в долговременной перспективе лучшую согласованность с опытом проявило учение скорее Смита, чем Рикардо. Не произошло ни беспредельного роста земельных рент и цен на продовольствие, ни обеднения рабочего класса, ни остановки накопления капитала. До вековой стагнации (что-то вроде "тепловой смерти Вселенной" по Больцману) Европа и мир пока не дожили. Это еще ничего не доказывает, но это говорит, что теория Рикардо, во всяком случае, описывает реальность недостаточно хорошо. В то же время мы имеем право констатировать, что конечные выводы и предвидения Смита неплохо согласуются с тем развитием, которое имело место до сих пор. Однако только по этой причине, без углубленного анализа, мы не можем утверждать, что сказанное происходит именно и только по тем основаниям, на которые опирался Адам Смит.
Джон Стюарт Милль
Наиболее выдающимся из учеников Рикардо был Джон Стюарт Милль (1806–1873), известный не только как экономист, но и как логик. Из экономических сочинений Дж. Ст. Милля наибольшим вниманием пользуются два: «Опыты по некоторым нерешенным вопросам политической экономии» (1844) и «Основы политической экономии с некоторыми приложениями их к социальной философии» (1848). Более интересным и ценным для науки многие историки считают первое из них. Но более известным и влиятельным стало второе. «Основы» на много десятилетий вперед стали действительно основами экономической науки для студентов и начинающих ученых во многих европейских странах Это сочинение трижды целиком переводилось на русский язык. Первое издание вышло в 1874 г. в переводе Н.Г.Чернышевского. Новый перевод (под ред. О.П.Остроградского) вышел в 1896 г. Третий перевод, уступающий, к сожалению, предыдущему, вышел в 1980 г. «Опыты» на русском языке не издавались. Оставаясь в целом верным последователем Рикардо, Милль многое подправил в его учении и внес немало уточнений по множеству частных вопросов. Он первым, как уже было сказано, обратил внимание на возможность двух вариантов толкования Закона Сэя. Схематичные положения Рикардо о закономерностях международного обмена Милль претворил в более строгие формулировки так называемого закона уравнивания, международного спроса. В излишне строгое положение Рикардо об обратной зависимости между заработной платой и прибылью Милль внес существенное уточнение: технический прогресс в производстве предметов рабочего потребления снижает издержки производства этих товаров, отчего реальная ' зарплата растет без снижения прибыли на капитал.
Все это (и многое другое) было изложено уже в "Опытах". Свои "Основы политической экономии" Милль задумал как синтез всех экономических знаний, добытых после Адама Смита. Книгу Смита он считал сильно устаревшей и свои "Основы" представлял чем-то вроде “Богатства народов”, но для своего века.
Милль поставил своей целью систематизировать достижения экономической мысли. Историки не раз отмечали известный эклектизм этого труда. Подчас можно обнаружить, что противоречия между доктринами не столько разрешаются, сколько сглаживаются, затушевываются искусным построением материала и изящным слогом (книга действительно написана замечательным языком, и чтение ее доставляет эстетическое удовольствие). Такие вещи кажутся странными для мастера логики, автора большого труда "Система логики".
Джон Стюарт Милль
По-видимому, Милль многое делал сознательно. В «Основах» он хотел создать систему, но у него не было своего системообразующего принципа (в том смысле, в каком мы говорили выше о системах Смита и Рикардо). фактически Милль должен был взять этот принцип у Рикардо (что и было сделано), но ведь у него была другая задача. Рикардо позволял себе проводить свой принцип трудовой ценности с железной целеустремленностью. Даже в его уловках, о которых мы говорили, видна своеобразная последовательность – если можно так сказать, логика танка, которому нужно попасть из пункта А в пункт Б. Приняв у Мальтуса закон народонаселения и у Сэя – закон рынков, Рикардо не мог принять многого другого в их экономических взглядах – того, что не укладывалось в его систему.
Милль поставил своей задачей объединить Сэя, Мальтуса и Рикардо. У первых двух четкой системы он не нашел, так что оставался затратно-трудовой принцип Рикардо, который не вызывал сомнений у Милля. Взяв все положительное у Сэя и Мальтуса для соединения с учением Рикардо, Милль обрек себя на эклектизм. Дело лишь усугублялось тем, что и у самого Рикардо не все концы сходились. Милль сделал все, что мог. Он углубился в построения своих предшественников, нашел в них немало того, что было неведомо и самим авторам, многое повернул другим боком, подгоняя детали. Но органично соединить несоединимое он не мог. Поэтому его системообразующим принципом стала не та или иная экономическая идея, а логический компромисс. Он поступался строгостью логики ради системы.
Приведем один пример. В главах, посвященных законам меновой ценности, Милль говорит, что существуют рыночные колебания цен под воздействием спроса и предложения. Но это именно колебания, а центром их является величина ценности, определяемая издержками производства (расход капитальных благ плюс заработная плата плюс обычная прибыль). И в главах о труде и заработной плате он тоже солидарен с Рикардо: уровень зарплаты тяготеет к прожиточному минимуму, определяемому ценами хлеба и других средств существования.
Когда Рикардо писал такие вещи, он шел как первопроходец. Он видел проблему, старался ее решить и излагал такое решение, какое ему удалось найти. Когда Милль писал эти вещи, он уже знал аргументы критиков теории Рикардо. Уже была обнаружена "нестыковка", о которой мы писали выше. Милль нашел свое решение: нестыкуемые вещи он разнес по разным главам и частям Получилось: с одной стороны так, с другой – эдак… и все. Он не решает проблему, а обходит ее.
Однако, как бы строго мы ни судили сделанное этим мыслителем, цели своей он добился. Джон Стюарт Милль создал учебник по политической экономии для последующих поколений. Вплоть до Маршалла им пользовались во многих университетах Запада как наиболее полным и глубоким изложением учения экономистов-классиков.
Классическая экономическая наука
Выражение «классическая политическая экономия» придумал Маркс. Он делил ученых на «классиков» и «вульгарных». Первым он приписывал «анализ внутренней сути капитализма», вторым – поверхностное описание «внешней видимости» и «апологетику», т. е. оправдание несправедливого, как он считал, общественного строя. Исходя из такого критерия, классики у него начинались от Петти и кончались на Рикардо. После Рикардо, считал Маркс, осталась школа рикардианства (Джеймс Милль, Рамси Мак-Куллох и др.), которая стала «разлагаться» и потерпела окончательное крушение в 1830 г., когда грянула Июльская революция. Маркс серьезно полагал, что социальные события могут разрешать теоретические споры.
"Буржуазная" (немарксистская) наука сочла полезным взять у Маркса термин "классики", чтобы вложить в него другое содержание – вполне научное и более точное. В соответствии с таким пониманием классики придерживались определенной системы предпосылок, или постулатов, относительно изучаемой экономической реальности. Такие предпосылки не всегда осознавались самими классиками и еще реже формулировались ими. Обычно они считались сами собой разумеющимися.
Мы уже отмечали подобное явление, когда говорили о меркантилистах. Классический период можно считать этапом экономической мысли, который пришел на смену периоду меркантилистов. Это грубое деление, но допустимое, как показывает хотя бы книга Смита. Если это так, тогда можно сказать, что классическая наука возникла в результате выявления скрытых предпосылок, принятых у меркантилистов, анализа этих постулатов, их выверки и преодоления того, что было признано ложным либо устаревшим.
Классики, как и меркантилисты, не представляли себя "этапом", на смену которому должен прийти другой "этап". Когда экономическая мысль стала пересматривать учение Смита, Рикардо и их последователей, она обнаружила, что и у них имелись свои постулаты, которые можно оспорить. Начался этот пересмотр примерно в последней трети прошлого века и продолжался многие десятилетия. Если исходить из подобного критерия, то классический период развития экономической мысли начался с физиократов, Кантильона и Юма, вступил в завершающую фазу у Джона Стюарта Милля, а окончательные проводы классическому образу мышления устроил Джон Мейнард Кейнс (расскажем об этом обязательно – см. главу 29).
Не следует думать, будто все сказанное проходило гладко и однозначно. Последующую экономическую науку иногда называют неклассической, однако после второй мировой войны в ней появилось направление неоклассического синтеза. Его представители вернули в науку некоторые постулаты классиков, отторгнутые (как им представляется, необоснованно) сторонниками кейнсианства. Не так давно была даже предпринята попытка прямо вернуться к рикардианству. Споры эти не завершены до сих пор (и про них расскажем, только позже).
Какие же представления чаще всего выделяют в качестве постулатов классической науки? Нужно сказать, что в разные времена и разными учеными акценты делались на различные моменты в мировоззрении классиков. То, что считалось существенным, скажем, в конце XIX в., не всегда упоминается в конце XX в. И наоборот. Наконец, следует обязательно иметь в виду, что постулаты, о которых мы сейчас будем говорить, появились в виде формулировок в результате позднейших исследований и обобщений. Не всем классикам эти представления были свойственны в равной мере. Не все сказанное ниже они разделяли безоговорочно. Многое может быть приписано классикам лишь условно и при серьезном упрощении их взглядов.
Тем не менее предмет для разговора имеется. Дело в том, что иной ученый действительно мог смотреть на вещи вообще шире и глубже, чем получалось по его теориям. Как бы реалистично ни представлял себе мыслитель экономические явления, для создания теоретической схемы или модели всегда приходится чем-то поступаться, что-то упрощать, принимать какие-то допущения. Постулаты, о которых идет речь, были извлечены историками экономической мысли как раз из моделей и схем, а не из размышлений общего характера, какие можно найти в трудах того или иного мыслителя. Попробуем изложить наиболее существенное.
Постулаты классической политической экономии:
1. Концепция "экономического человека". Человек рассматривается только с точки зрения экономической сферы жизни. У него есть один стимул поведения – стремление к собственной выгоде. Религия, нравственность, культура, обычаи и другие факторы, которые влияют на поведение людей в жизни, здесь не учитываются.
2. Равенство договаривающихся сторон. В каждой сделке обе стороны находятся в равном положении в смысле свободы выбора партнера, возможности вести торг до достижения максимальной выгоды, понимания своих интересов и знания своих возможностей, дальновидности и предусмотрительности, отсутствия посторонних факторов принуждения или ограничения и т. д.
3. Полная информированность. Каждый капиталист (рабочий и т. п.) полностью осведомлен о том, где (в каких отраслях, занятиях, местностях своей страны) прибыль (зарплата) выше или ниже; какие существуют условия приложения капитала (труда); каковы закупочные (если речь о сырье) и продажные (если речь о готовой продукции) цены. И такая информация доступна им не только на данный момент, но и на перспективу.
4. Текучесть ресурсов. Труд и капитал могут в одночасье перейти от одного занятия к другому, из одной отрасли в другую, из одной местности в другую – достаточно лишь, если капиталист или рабочий (со своей семьей) примет такое решение.
5. Эластичность численности рабочего населения по заработной плате равна или больше единицы… Это если выражаться в терминах современной науки[30]30
Эластичностью величины А по Б называют показатель, характеризующий степень зависимости А от Б. Эластичность показывает, на сколько процентов изменится А, если Б изменится на 1 %. Она выражается дробью: в знаменателе – изменение Б (в %), в числителе – изменение А (в %). Если дробь меньше 1, говорят, что А не эластично по Б. Чем больше дробь превышает 1, тем выше эластичность А по Б.
[Закрыть]. А проще – рост численности рабочего класса тесно зависит от роста совокупного фонда оплаты труда. Всякое увеличение заработной платы неминуемо ведет к росту численности рабочей силы, всякое уменьшение оплаты труда – к сокращению этой численности. При таком взгляде не всегда принимался во внимание разрыв во времени между рождением младенца и достижением им трудоспособного возраста[31]31
Смягчающим для классиков обстоятельством является то, что в те времена существовал детский труд, иногда с 6—7-летнего возраста.
[Закрыть].
6. Абсолютизация прибыли как цели фирмы. Капиталист рассматривался как воплощение фирмы. Единственной или важнейшей из всех целью фирмы считалось стремление максимизировать прибыль на капитал. Не принималось во внимание, например, что фирма иногда может поступиться частью прибыли (чтобы завоевать новый рынок сбыта или чтобы потеснить конкурентов на прежнем рынке за счет расширения объема своих продаж); что фирма может предпочесть скромную прибыль в надежно проверенном варианте более высокой прибыли, связанной с повышенным риском (а риском таким может быть просто перенос дела из одной местности в другую) и т. д.
7. Высокая подвижность уровня заработной платы. Считалось, что заработная плата ведет себя точно так же, как товарные цены. Мол, она может подниматься или падать в широких пределах под действием спроса и предложения на рынке труда. Впоследствии обнаружили, что более реалистично исходить из определенной инерционности заработной платы, особенно если речь идет о ее снижении (последнее явление почти исчезло из жизни с появлением и укреплением профсоюзов).
8. Главное – накопление капитала. Из трех факторов земля считалась невоспроизводимым ресурсом, капитал – накопленным трудом, а труд – важнейшим фактором производства, резерв которого практически не ограничен естественными условиями. Рост национального дохода зависел от темпов накопления капитала, которые, в свою очередь, зависели от количества применяемого труда. Недостаточное внимание уделялось тому обстоятельству, что величина создаваемого национального дохода зависит от того или иного распределения одинакового количества ограниченных ресурсов капитала и труда между занятиями и отраслями производства.
9. Особое отношение к земле как фактору производства. Земля считалась даром природы, который совершенно непохож на рукотворные средства производства и тем более на неограниченный ресурс труда. Отличие видели в том, что этот ресурс – невоспроизводимый (ограниченный), а также в способности земли самой совершать работу, плодоносить. Хотя классики понимали, что без вложения средств и труда не будет ни урожая, ни ренты, тем не менее рента понималась как произведение земли – ее подарок сверх того, что дают капитал и труд.
Впоследствии были осознаны две вещи. Во-первых, возделываемая земля является таким же продуктом овеществленного труда, как и промышленное оборудование. Был вложен труд в ее осушение или оросительную систему, в ее расчистку, обогащение и т. д. Во-вторых, машина, более совершенная, чем аналогичные ей, дает своему владельцу добавочный прирост дохода до тех пор, пока его конкуренты не смогут обзавестись таким же оборудованием. Этот дополнительный доход ученые стали называть квазирентой ("как бы рентой"), потому что он является продуктом ресурса ограниченного и в какой-то период времени невоспроизводимого – подобного земле в этом отношении. В указанных вопросах остались разногласия и по сей день, но большинство ученых сейчас считают, что нет необходимости в особой теории земельной ренты, отличной от теории капитала и прибыли.
10. Безусловный экономический либерализм. Еще Адам Смит обосновал идею естественной свободы, при которой роль государства сводится к минимуму. Смит, правда, умел не упускать из виду множество таких нюансов жизни, которые не могут быть учтены теорией. Он оговорился, что государство должно предотвращать такие употребления свободы, которые даже и без злого умысла могут повредить обществу. Его последователи, как правило, не вдавались в подобные нюансы и гораздо ближе стояли к идеологии laissez faire.
Два явления, которые обнаружились в XIX в., заставили многих ученых оспаривать экономический либерализм классиков. Одним из них было явное расхождение между ростом общественного богатства и положением больших трудящихся масс. Другое – это периодические кризисы.
Долгое время сомнения в универсальности экономического либерализма не получали теоретической основы. Лишь когда разразилась так называемая Великая депрессия 1929–1934 гг., стало очевидным, что в науке имеется большой пробел. И тогда все тот же Кейнс решительно осудил классическую доктрину экономического либерализма и выступил с обоснованием серьезного вмешательства государства в экономику (про все расскажем, как уже было обещано, в свое время).
Экономическая наука сильно изменилась по сравнению с ее классическим периодом. Очень многое сегодня понимается глубже, а в иных вопросах даже иначе, чем это было у классиков. Но сказанное не дает оснований для высокомерно-пренебрежительного к ним отношения. Перечисленные выше (и иные, не указанные нами) постулаты были необходимы для того, чтобы сформировалась определенная картина экономической действительности – та, которую мы называем классической политической экономией. Именно классики создали тот аппарат экономической науки, который следующим поколениям досталось совершенствовать. И классики же поставили задачи, для которых затем уже можно было искать более точные решения. Именно благодаря достижениям классиков стали возможными последующие достижения экономической мысли. Экономисты XX столетия могут видеть дальше и шире, потому что они прочно стоят на фундаменте классической экономической науки. Об этом никогда не стоит забывать.