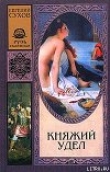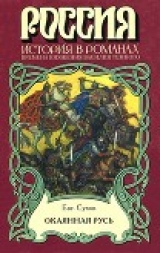
Текст книги "Окаянная Русь"
Автор книги: Евгений Сухов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 29 страниц)
В окнах засветились свечи, от звона колоколов просыпалась челядь.
Постельничим у Шемяки был Иван Ушатый, и князь громко позвал боярина:
– Ивашка!.. Ивашка, пёс ты смердячий! Куда запропастился! Не слышишь, как государь тебя кличет!
В горницу заглянул заспанный боярин. Было видно, что вчерашнее застолье не прошло для Ушатого бесследно: глаз не видать, а лицо – что свёкла печёная.
– Звал, государь? – спросил боярин.
– Иди во двор, узнай, кого хоронят. И чтобы быстро! Вот ещё что... пива принеси, в горле першит.
Ушатый ушёл и вернулся с огромным, в виде утки, ковшом. Борода и усы мокрые, видать, приложился сам, прежде чем государю поднести. Ладно уж, вон как рожу скривило, авось поправится.
Великий князь пил долго, опасаясь пролить на белую сорочку хоть каплю. Кадык его судорожно двигался, когда делал большие глотки. Наконец насытился князь, глянул на Ушатого:
– Что там?
– Да как тебе сказать, государь... Монах-то, что Ваське глаза колол... помер!
– Вот как! – выдохнул Шемяка, холодея.
– В эту же ночь и прибрал его Господь. К заутрене его ждали, как обычно. А его нет, не случалось прежде такого. Игумен, сказывают, послал в келью к Иннокентию, а он за столом сидит, будто Божий образ созерцает. За плечо взяли, а тот на бок и завалился. Вот и бьют колокола по нём. На монастырском кладбище хоронят.
Иван Ушатый видел, как сошёл с великого князя хмель, лицо его сделалось пунцовым. «Неужто гнев Божий? Нет! За меня Бог! За правду Васька пострадал. Всех наказать. Бояр московских, что не пожелают мне клятву на верность дать, живота лишить! Княгиню Софью отослать в Чухлому. Дерзка не в меру. А Ваську с женой в Углич! Пусть в моей отчине у бояр под присмотром будет...»
За великой княгиней Софьей Витовтовной пришли рано утром. Бояре уверенно ступили в терем. Так и вошли все разом на женскую половину. Всем вместе гнев великой княгини выдерживать легче. Крутая Софья в речах.
– За тобой мы пришли, Софья Витовтовна. – Как ни дерзок был боярин Ушатый, но перед княгиней великой и он оробел. – Дмитрий Юрьевич, великий князь московский, в Чухлому в монастырь велел тебя доставить.
Вопреки ожиданию, Софья встретила гостей покорно – бояре не услышали бранных слов.
– Великой княгиней я была, великой княгиней и останусь. И в Чухлому в венце поеду.
Согласилась больно быстро княгиня, очевидно, строптивость для следующего раза приберегла.
– Хорошо, княгиня... великая, – за всех решил Иван Ушатый, – быть по-твоему.
– Сына я своего хочу повидать и государя моего, Василия Васильевича.
Так оно и есть, не покорилась княгиня. Стало ясно Ивану Ушатому, что не пойдёт со двора вдова, если не дать ей повидаться с сыном. Разве что силком повязать да на сани уложить. Но кто же станет воевать с великой княгиней? Кто срам на свою голову захочет принять?
Иван Ушатый согласился ещё раз:
– Будь по-твоему, государыня.
Великую княгиню отвели ко двору Шемяки, где под присмотром стражи томился печальник Василий. Он сидел в самом углу на слежавшейся охапке сена, ярко пылали свечи, но он их не видал. Василий Васильевич был слеп!
Великая княгиня Софья долго не могла в этом старце узнать своего сына. Василий сидел неподвижно, слегка склонив голову, казалось, он внимательно разглядывал носки своих сапог. А когда наконец материнское сердце подсказало ей, что страдалец, безучастно сидевший в углу, не кто иной, как её сын, она закричала в ужасе:
– Что ты с сыном моим сделал?! Будь ты проклят, Дмитрий! Увидит Господь ещё наши страдания! Покарает он тебя!
Василий Васильевич услышал голос матери и посмотрел на неё пустыми глазами.
– Матушка, где же ты? Дай мне дотронуться до одежд твоих. Дай мне силы вынести всё это!
Великая княгиня подошла к сыну, а Василий беспомощно, как это делал в раннем возрасте, сделал шажок, затем другой. Руки выставлены вперёд. Обрубки пальцев коснулись лица матери. На розовых, едва заросших рубцах остался влажный след, и Василий, как мог, утешал мать:
– Ничего, матушка, ничего... Ведь и так живут люди. Грешен я перед народом. Грешен я перед братьями моими, вот Господь и покарал меня. Братьев я не любил, а стало быть, и Бога не любил. За это и наказание получил. Ладно, матушка, не горюй. Схиму приму и до конца дней своих грехи замаливать стану.
Матери показалось: заплачет сейчас сын, и слёзы смоют со щёк запёкшуюся кровь, но глазницы были пусты.
– Потерпи, мой родимый, потерпи! Время пройдёт, легче будет. Оно всё лечит, – утешала великая княгиня. – Был бы жив Витовт, не дал бы внука в обиду. Обернётся твоя боль лихостью против злыдней! Поплачут они ещё кровавыми слезами!
Василий понял, как ему не хватало матушкиного тепла, ласковых её рук и нежного, будто журчанье ручья, голоса. Как давно это было. Деревянная колыбель, зацепленная за ржавый крюк в потолке, взволнованный голос матери, когда он в первый раз в жизни упал, рассёк себе лоб. Кривая белая полоска на его лице напоминала, что и князья сотканы из плоти. Потом шрамов на его лице и теле становилось всё больше: он падал с лошади, сражался на боевых мечах со своими сверстниками, а один раз стрела, пущенная дворовым отроком, порвала кафтан и острым жалом впилась в мякоть. В десять лет Василий сделался великим князем и с этой поры должен был в походах идти впереди своего воинства. Ран с той поры заметно прибавилось. А в память о последнем сражении и своём пленении у Василия остались пальцы-обрубки.
Василий рано стал великим князем. Он не успел наиграться игрушками, которые из пахучей липы резал ему дворовый берендеечник. Малолетний Василий любил возиться с ними подолгу, выставляя их в ряд. Среди них были воеводы и бояре, дворовая дружина и смерды. Стояли среди всех и золотоордынцы – с длинными узкими бородами, восседавшие на деревянных лошадках. Татары неизменно проигрывали в затеваемых Василием сражениях, однако не всегда так было в действительности. Василий благоговел перед игрушками так же трепетно, как его далёкие предки боготворили своих языческих богов, выставляя их на вершины холмов и принося в жертву живую плоть. Видно, эта любовь к резным фигурам не умерла, а передалась ему от его предков, сумевших донести до потомка всю магическую силу деревянных болванчиков. Наверно, эта любовь к резным идолам и заставила взять Василия в Большую Орду любимую резную игрушку: бородатого дружинника с мечом и щитом. Воин нападал, делая шаг вперёд: правая рука с мечом далеко выставлена, левая, в которой был щит, закрывала грудь. Полумаска скрывала лицо: видны только губы и подбородок, а бармица неровно спадала со шлема, прикрывая шею. Берендеечник был искусным мастером; даже складки одежды ратника, казалось, развевались при движении, а металлические пластины позвякивали. Василий просил тогда заступничества у этого дружинника, как когда-то его могучие предки-язычники выпрашивали победы у Перуна. Они ему приносили в жертву живое существо, а Василий обещал, что никогда не расстанется с ним, если великокняжеский престол перейдёт к нему.
Свой талисман Василий потерял перед самым сражением с Улу-Мухаммедом. Вместе с отроками он объездил все поля, обещал парадную кольчугу с позолотой тому, кто сумеет разыскать деревянного воина. Но его так и не сыскали. Со смутным предчувствием беды он выехал навстречу всадникам Улу-Мухаммеда.
Кто знает, быть может, его поражение было расплатой за нерадивое обращение со своим идолом?
И сейчас под тёплыми материнскими руками Василий вспоминал и потерянного болванчика, и позорное пленение казанским царём. Князь зарыдал. Пустые глазницы так и не наполнились слезами, но Василию стало легче.
Он уткнулся лицом в бурнус, и боль со стоном уходила из наболевшей души.
– Да что же мы стоим-то, бояре, – бестолково затоптался у входа Иван Ушатый. – Пусть уж простятся, думаю, Дмитрий Юрьевич против не будет.
И бояре один за другим покинули темницу великого князя.
– Пойдём, мой голубь, пойдём, – шептала Софья Витовтовна. – Пойдём из этой темницы на свет Божий.
Василий Васильевич крепко сжимал матушкину руку. Так он поступал всегда в детстве, когда опасался, что мать уйдёт навсегда, оставив его среди незнакомых людей: бояр и многочисленных мамок. Софья Витовтовна утешала его такими же словами, как и много лет назад:
– Я здесь, Василёк, здесь. Я никуда не ухожу... Осторожней, здесь ступенька, подними ноженьку.
Василий робко шёл вслед за матерью, теперь он не боялся, что разобьёт лоб, как это случалось в далёком детстве, – рядом была хранительница и заступница.
Морозный воздух захватил дыхание, и Василий спрятал лицо в материнские одежды.
– Жжёт, – признался Василий, – жжёт, как огонь!
– Рана твоя слишком свежа, вот оттого и печёт, – отвечала княгиня. – Времечко нужно, чтобы зажило. Ничего, Василёк, потерпи, пройдёт и эта беда.
– А что сейчас, солнышко или звёзды? – спросил великий князь.
– Солнышко, Василёк, солнышко.
Подошёл боярин Ушатый, потоптался неловко и, оборотись к великой княгине, промолвил:
– Софья Витовтовна, княжна великая, кони уже запряжены, тебя дожидаются. До Чухломы путь не близок, продрогнем все. И так я на себя грех взял, позволил тебе с Василием проститься. Прознает об этом Дмитрий Юрьевич, серчать будет.
Как ни крепки объятия матери с сыном, но и их приходится разжимать. Софья Витовтовна пригнула голову Василия и поцеловала прямо в кровоточащую рану.
– Теперь заживёт быстро, – пообещала великая княгиня. – Идти мне надо, Василёк, ничего, скоро встретимся.
Софья Витовтовна подобрала полы шубки, села в сани. Никто не поддержал великую княгиню под руки. Бояре, затаясь, смотрели на ту, которая была раньше великой княгиней.
Василий продолжал стоять, не решаясь сделать и шага. «Как же он дорогу сыщет? – горевала княгиня. – Один он теперь остался». Но кто-то из челяди подошёл к опальному князю и, взяв его под руку, осторожно повёл в горницу. Василий был без шапки, и злой февральский ветер трепал его волосы, лохматил их. Великокняжеские бармы сбились на сторону, кафтан задрался, и бордовые полы со следами крови трепетали на снегу.
– Ну что стоишь?! – яростно прикрикнула на возницу княгиня. – Сказано тебе, пошёл.
Словно разгневался Господь на вражду меж братьев и послал на Московскую землю в эту годину большой мор. А ко всему худому не собрали и урожай, то, что осталось на полях, побил град, больше не сгибались под тяжестью зёрен колосья, и сиротливо покачивались на ветру их сухие стебли.
Уже не хватало гробов, и умерших складывали в скудельницы[45]45
Скудельница – кладбище, общее место погребения, общая могила во время мора, общая могила погибших в каком-либо случае или общая могила вне святой земли.
[Закрыть], хоронили за оградой кладбища в наспех вырытых ямах. Хоронили без обычного отпевания, разве что оставшиеся в живых прочитают над почившими молитву и уходят с миром.
Мор расходился по Северной Руси, огромной костлявой ладонью накрывал города, и если заползал в дом, то не уходил до тех пор, пока не прибирал последнюю душу. Города опустели, сёла вымерли совсем, а дороги наполнились нищими и сиротами.
Поля заросли, не паханные, где и уродился хлеб, то некому было жать его, так и осыпалось перезревшее зерно в землю, чтобы на следующий год пробиться зелёным бесполезным ростком. Если и было кому раздолье, так это залётным стаям, которые чёрными тучами налетали на рожь и, отведав сытного зерна, тяжело поднимались в небо.
В неурожае и болезнях винили злые силы, и не было села, где бы не вспыхнул костёр, на котором не сожгли бы ведьму, нагнавшую на односельчан недород и мор.
Вонючие кострища верстовыми столбами чернели на дорогах. Пройдёт инок, плюнет на кострище и дальше спешит в благодатную обитель. Но было и по-другому: ведьм зарывали живыми вместе с их чадами, и долго тогда стоял стон и шевелилась земля над притоптанной могилой.
И что же за земля такая окаянная: если не братская междоусобица, так мор косит людей!
Прошка Пришелец пробирался в Москву тайком. На дорогах великий князь повелел выставить дозоры и воротить всякого, битого гнойными язвами, в свою волость. Но болезнь уже набрала силу и подступала к стольному граду. Это было видно по крестам на обочинах, кое-где кружило воронье – то незахороненные тела дожидались погребения.
В одном месте Прошка остановился: худой монах стаскивал трупы в яму. Были они уже истлевшие, испускали нестерпимый смрад, но монах, преодолев брезгливость, бережно клал на дно могилы усопших мучеников. Что-то в движениях монаха Прошке Пришельцу показалось знакомым. Он остановился, пытаясь разглядеть его, но монах, видно почувствовав на себе чужой взгляд, ещё глубже натянул клобук на самые глаза.
– Иван?! Князь можайский! – не сразу поверил своим глазам Прохор. – Неужто ты?!
– Ну я, – неохотно отвечал князь. – И что с того? Я тебя ещё у дальнего поворота заприметил, но не прятаться же мне, как злыдню, в глухом лесу. Я делом занят! А вот ты что по дорогам шастаешь?
– Не шастал бы я, если бы не твой брат Дмитрий Шемяка! Чтобы гореть ему в геенне огненной! Василию глаза выколол, а меня в железо заковал. Неужто не ведаешь?
– Ведаю, – отвечал просто князь, бережно укладывая на груди почившего руки. Глаза мертвеца смотрели открыто и безмятежно, и, подумав, Иван достал гривны и заложил ими оба глаза. – Оттого и спрашиваю. Часть бояр Дмитрию Юрьевичу на верность крест целовали, а другая в Твери укрылась. А тебя так он обещал первого живота лишить.
– Долго ему ждать придётся. Убежал я! Стражу подговорил и в Коломну ушёл. А там со многими людьми сошёлся, так мы сёла Шемяки пограбили, а потом в Литву пробрались. Да больно неуютно мне на той земле сделалось. Вера у них другая, иноземцы, одним словом. Ещё мыкался я в дружине князя серпуховского Василия Ярославина, да домой решил вернуться.
– И куда ты сейчас, Прохор Иванович?
– Сначала к князю Ряполовскому пойду. Чады у него Василия Васильевича. А там посмотрим.
– А не боишься, что дозорных кликну? – вдруг спросил Иван Андреевич. – Вон они стоят! Только знак дать, – показал он на отряд всадников, которые неторопливо выезжали из-за леса. – Обрадуется Дмитрий Юрьевич такому подарку.
– Не боюсь, – уверенно отвечал Прохор Иванович, – после того, что вижу, не поверю, будто сможешь ближнего своего предать.
– Не смогу, – печально согласился Иван. И трудно было понять, жалеет ли он об этом или то просто вздох обременённого заботами тела. – Душу я свою спасаю. Ведь ежели бы не моё супостатство, не выкололи бы Василию глаза. Обещал я великому князю, что не тронут его, а Шемяка глаз лишил Василия Васильевича. И с тех самых пор снится мне сон, будто сижу я в гостях у Иуды, а он для меня стол накрыл, вино выставил. Пей, говорит, теперь мы с тобой заодно. Я брата своего духовного предал, а ты брата кровного. Вот этот сон мне всю душу растравил! Иуда мне чашу в руки даёт, я смотрю на него, а выпить духу не хватает. Вот уже ко рту подношу, и сон мой на том кончается, будто сам Христос не позволяет мне совсем пасть. Что ты скажешь на это, Прохор Иванович?
Прохор задумался, видно, сон тоже потряс его. Ведь Василий действительно, подобно Христу, распят своими ближними.
– Что я могу сказать?.. Может, Господь и простит тебе этот грех. Ведь не каждый отважится людей, что гнойной язвой битые, в могилы складывать. Не ровен час, и самому живота можно лишиться.
– То-то око и удивительно, Прохор, – продолжал можайский князь, – вроде бы и не берегу я себя совсем, в самую болесть лезу и павших собираю, все вокруг мрут, а меня не берёт! Будто сам Господь за меня заступается. Я ведь и в доме своём прокажённых держу. У одних всё лицо повыело, с других мясо с лица кусками валится, так я им сам, вот этими руками, язвы промываю. Видишь, цел пока! Всё надеюсь, прощение Иисуса на меня снизойдёт. Ты уже, Прохор Иванович, про то, что меня здесь видел, не говори никому. Прошу тебя очень. Я ведь и одежду монашескую на себя надел, чтобы неузнанным быть, да вот ты меня сразу признал. Обещаешь?
– Хорошо, – буркнул Прохор. – Пусть по-твоему будет.
– В Москву, Прохор, не ходи, узнают тебя. У Дмитрия всюду свои люди. Он через нищих и бродячих монахов всю правду о себе знает. И ещё я хочу тебе сказать, Прохор Иванович, жалеет Дмитрий, что сыновья Васильевы на свободе. Поначалу он хотел дружину на Ряполовских послать, чтобы деток великого князя взять, да раздумал. Народного гнева испугался. Но он, ирод, опять что-нибудь надумает, не успокоится, пока их не добудет. Ты передай Ряполовским, пусть ни на какие уговоры не соглашаются и мальцов Шемяке не отдают.
– Хорошо, передам, – пообещал Прошка Пришелец. – А сам долго здесь ещё будешь?
– Я-то? Долго, брат, долго. Божье дело спешки не выносит. Ступай, я ещё страдальцев лапником укрою, и дай нам Бог не встретиться больше на поле брани супротив один другого!
Прохор махнул на прощание и не спеша пошёл дальше. Ему хотелось обернуться и посмотреть, как княжеские руки кладут на безымянных усопших ветви лапника. Видать, здорово его припекло, если он на такое решился. Не оглядываясь, Прошка пошёл дальше.
Дмитрий Шемяка с ростовским епископом не знался. Быть может, потому, что отец Иона был любимцем князя Василия, и, когда вдруг в его палаты шагнул посыльный московского князя Дмитрия, владыка не сдержал удивления, поморщился:
– Что за нужда такая приспела ко мне угличскому князю?
– Московский князь великий Дмитрий Юрьевич велит тебе, отец Иона, быть у него во дворе, – не хотел замечать посыльный обидных слов «угличский князь». Ему хотелось коснуться лидом ладони епископа, но он не смел этого сделать без разрешения старца.
И когда Иона подставил руку, отрок охотно приник к ней губами.
– Велит, стало быть... – хмыкнул владыка. Отец Иона хотел добавить, что мятежный князь ему не указ, дескать, есть у него господин – Василий Васильевич, да смолчал. – Что хочет великий князь? – нарочно упустил слово «московский» отец Иона.
– О том не ведаю, – развёл руками гонец. – Велел доставить.
Первый раз он видел владыку вблизи и, не стесняясь, во все глаза разглядывал его.
– Хорошо, буду, – согласился вдруг Иона. – А ты ступай на двор пока. Время мне нужно, чтобы облаченье праздничное надеть.
На двор Дмитрия Юрьевича отец Иона вошёл в сопровождении большого числа священников, дьяков, подьячих, что напоминало церковный ход, который величаво тянулся от самых Спасских ворот. Московиты издали заприметили Иону, падали ниц, просили благословения. Давно столицу не радовал своим посещением ростовский владыка. После смерти Фотия митрополичий двор оставался пуст. Ни один из епископов не осмелился сесть на митрополию во время братовой войны. А Москва без присмотра главного владыки казалась сиротой, даже службы в Благовещенском соборе проходили не такими праздничными, как бывало раньше. А тут диво эдакое – сам ростовский владыка Иона пожаловал!
Отец Иона не торопился, шёл размеренным шагом, подставлял руки для целования, благословлял младенцев и, несмотря на небольшой рост, был виден отовсюду.
Благая весть мгновенно разлетелась по Москве, заполнились народом улицы, а тут ещё набат ударил, приветствуя владыку. Ростовский епископ был растроган встречей и, как бы невзначай, прикрыл лицо епитрахилью, смахивая слезу-предательницу. И надо же ведь как бывает – по близким не всплакнёшь, а тут от чествования слёзы сами текут. Видать, нужен всё-таки владыка Москве, народ руками к одеянию тянется, благословения просит. Вроде бы и тесно вокруг, ступить негде, но расступился народ, пропуская вперёд отца Иону на Шемякин двор. Сам московский князь навстречу поспешил – оказал честь епископу. Поклонился Дмитрий до земли и не постеснялся показать собравшимся рыжих своих волос; застыл в поклоне, а следом бояре поскидали с нечёсаных голов шапки. По правую сторону от Шемяки сын его старший, а до толпы доходит сдержанный шёпот князя:
– Ниже голову опусти, дурная башка! Сам Иона в Москву прибыл.
Отрок, напуганный покорностью отца, склонял голову ещё ниже, едва не касаясь волосами пыльной земли.
– В дом тебя прошу, дорогой гость, – заговорил Дмитрий и по праву хозяина отступил в сторону, приглашая владыку на гладко тёсанные ступени Красного крыльца.
Не сразу разговор начал Дмитрий Юрьевич, поначалу велел, чтобы истопили для владыки баньку и чтоб жару поддали крепкого. И когда Иона, распаренный и красный, вошёл в покои великого князя, Дмитрий Юрьевич из собственных рук подал епископу прохладного квасу.
Грозен был великий князь московский Дмитрий. Бывало, заедет в иной монастырь, так игумен от страха и келью не решается покинуть, боится предстать перед Дмитрием, который и на духовный сан не посмотрит, плёткой огреет за непослушание. А не далее как неделю назад на своём дворе приказал выдрать чернеца за дерзость: достаточного смирения у монаха не заметил. Так по Дмитрию получается, что каждый чернец всякой бесстыжей голове кланяться должен. А тут владыку, как девку, обхаживает, даже квасок прохладный из собственных рук подаёт.
Владыка отпил. Квасок удался знатный. Был в меру сладок и на редкость крепок. Монастырское питьё послабее будет. Владыка отпил ещё. Поперхнулся. Передохнул малость, а потом, не отрывая рта от братины, допил всё.
– Ах, хорош! – крякнул Иона и, посмотрев хмельными глазами в плутоватое лицо Шемяки, спросил прямо: – Что хочешь от меня, Дмитрий? Видать, много просить будешь, если народ со всей Москвы да с окрест нагнал, чтобы меня с честью встречали. А потом уважил, на Красное крыльцо встречать вышел, баньку затопил, а теперь вот квас из своих великокняжеских рук подаёшь. Не много ли чести для одного владыки получается?
– Да о чём ты, отец Иона! – отмахнулся Дмитрий. – Тебя на Москве видеть, вот это честь великая!
– Вижу, юлишь ты, князь, словно сват перед сватьей. Говори, зачем звал, иначе обратно в Ростов Великий ворочусь.
– Ох, до чего же ты упрям, отец Иона! Погостил бы у меня. Отдохнул бы ещё, кваску попил. Неужели не по вкусу пришёлся?
– Квасок у тебя удался, князь. Только у меня в епископстве дел хватает. Земли монастырские нужно посмотреть. Наказ на праздник дать, – стал перечислять владыка, – а ещё по дорогам тати стали шалить. В народе поговаривают, что это монахи бродяжьи! И это нужно проверить. Да мало ли ещё чего, князь! Ты своё говори.
Отец Иона сидел напротив Дмитрия. Владыка ещё не отошёл от жару: лицо его оставалось красным, а на лбу крупными каплями выступил пот, нательный крест пристал к груди, и цепь плотной удавкой окутала шею.
– Так и быть, слушай, отец Иона, – хлопнул себя по колену Шемяка. – Хотел бы я, чтобы ты в Муром поехал и взял бы у князей Ряполовских детей Василия. Пожаловать их хочу.
– Пожаловать, стало быть, хочешь?.. – глянул на московского князя епископ. – Только стоит ли тебе верить, князь? Крут ты. Вон давеча рассказывали, что повелел священника с места спихнуть, насилу и выплыл, бедняга! А на дворе своём монахов розгами лупишь. А попов, что рать твою в походе сопровождать не пожелали, велел в темнице держать, пока не опомнятся! Божьего суда, Дмитрий, не боишься!
– Было всё это, – смиренно принял упрёк владыки Дмитрий Юрьевич. – Только ведь в том я уже покаялся. Почему же ты не говоришь ещё того, что пожертвования я на церковь немалые делаю и соборы мурованые на свои деньги ставлю? Я ведь священника поделом наказал, ругался матерно на дворе, хуже пса бродячего. Неужели эту малость мне Бог не простит?
– Сам уж ты больно чист! – возразил владыка ростовский.
– Ясное дело, грешен и поганен я, – охотно соглашался Дмитрий Юрьевич. – Только ведь я князь! С моих уст и бранное слово может невзначай слететь и поганым не покажется. А попу-то святость блюсти пристало! Но не об этом мы говорим, владыка, хочешь, крест поцелую, что детишек Василия не трону?
– Не надо целовать, поеду я к Ряполовским, передам, передам твой наказ, – согласился вдруг отец Иона. – А сейчас пусть квасу мне принесут, больно он у тебя приятен.
– Эй, квасу несите! – распорядился Шемяка. – Владыку сухота одолела. Если уважишь мою просьбу, отец Иона, на дворе московском митрополитом оставлю!
У Дмитрия Юрьевича епископ погостил ещё два дня: пил сладковатый квасок, парился в баньке, служил вечернюю службу в домовой церкви и тешился с великим князем в долгих разговорах, наставляя его на путь истины. Уж больно много нехорошего стали поговаривать о московском князе, а весть, что он выколол глаза брату, удивила даже чернь.
И Василия Васильевича, князя бедового, прозвали в народе Тёмным.
Дмитрий Юрьевич терпеливо выслушивал назидания отца Ионы: обещал в меру пить хмельное вино; девок обязался не портить; слова матерные говорить только по злобе, а не забавы ради; мяса в пост не есть; песен срамных не петь и плясками бесовскими не развлекаться.
Дмитрий Юрьевич смиренно сносил упрёки и терпеливо дожидался отъезда епископа, а когда возок владыки миновал Спасские ворота и пушка на прощание выстрелила, Дмитрий Юрьевич тотчас скинул с себя личину и, крикнув боярина Ушатого, повелел:
– Зови ко мне в горницу скоморохов да девок-шутих! И пусть хари наденут посрамнее, посмеяться хочу! Пусть до утра пляшут и песни поют. Скажи им, что пива будет вдоволь и вина белого! Ой, уморил меня владыка ростовский своими разговорами, надумал чернеца из меня вылепить! Но разве чёрта заставишь ладан вдыхать?
Тяжело расставался с Москвой ростовский владыка Иона. Вроде бы и немного пробыл, а привык. И размахом Москва пошире будет, и соборов понастроено поболее, чем в удельных городах, только там и должен быть митрополичий стол. Дорога развеяла грусть отца Ионы, и он с интересом посматривал по сторонам, узнавая знакомые места. Ещё три десятка лет назад, проезжая этой дорогой, он видел только дремучий лес, который сейчас поредел. В разных местах теперь можно рассмотреть засеянное поле, на котором уже пробивались зелёные ростки яровых. Раньше места эти были дикими, разве что иногда среди деревьев мелькнёт скит пустынника. Сейчас навстречу попадались крестьяне с возами дров, они во все глаза пялились на важного гостя, забывая порой и шапку-то снять.
В одном месте владыка увидел, как водили хоровод девки, песни пели. А рядом парни игры затеяли, видать, удаль молодецкую показывали. И сладко защемило в груди у Ионы – вспомнилась юность. Вот такой же он был бестолковый, когда впервые девку отведал – сграбастал её ручищами, а она, дурёха, глазёнками хлопает, под ласками вздрагивает и только раз из себя и выдавила:
– Не надо...
Да чего уж там! Есть что вспоминать, не всю жизнь кадило в руках держал. И поганым был, и грешил понемногу, только будто всё это в другой жизни происходило. И сам, задрав штаны, через огонь сатаной прыгал.
На пути попалось большое село, дворов эдак четыреста. Издалека виднелась церквушка; наверно, звонарь узнал владыку и ударил запоздало в колокола. Голос у колокола оказался басовитый, разнёсся звон над лесом, будоража Божью тварь.
В селе отец Иона не остановился, даже не вылез из повозки, слишком путь далёк, перекрестил издали толпу крестьян и поехал дальше. А за селом поле – гладенькое, словно ковёр тканый. Из зелени синие глаза васильков выглядывают. И уж совсем диковинное зрелище: на вспаханной полосе, подняв голову кверху, стоял тур. Зверь тревожным взглядом провожал повозку епископа. Тур был крупный, рога огромные, но, видно, и его не миновало зло – на мускулистой шее большой кривой шрам. Махнул бык хвостом и, наклонив тяжёлую голову, повернулся к лесу.
Дорога уводила отца Иону всё дальше и дальше к Мурому.
Князья Ряполовские встретили владыку с почтением: хозяйская дочь вышла с хлебом-солью, а сам Никита Ряполовский на подносе держал чашу с вином.
Отломил ломоть хлеба владыка, посолил его круто да и проглотил, не мешкая. От хмельного зелья тоже решил не отказываться – разговор предстоит долгий, и не следует его начинать с отказов. Запил он солёное сладким и по красному крыльцу поднялся в хоромы князя.
Ростовского владыку уже дожидались – в светлой горнице накрытый стол, на котором пироги да снедь разная. Ишь ты как оно получается, каждый его на свою сторону тянет. Только он всегда сам по себе. На то только и слуга Божий.
Расселись гости. Пили вина и квас, шестой раз сменили блюда, а о делах и слова не сказано. Наконец отодвинулся отец Иона от стола, ослабил пояс, который начинал стеснять распиравшее от обильного угощения брюхо, и заговорил о главном:
– Послан я к тебе, Никитушка, московским князем Дмитрием Юрьевичем... – Заметил отец Иона, как скривилось лицо князя, а лоб прорезала глубокая морщина.
– Слушаю тебя, владыка.
– Просит он дать на его попечение детей Василия Васильевича. Обещал их пожаловать, а великому князю Василию вотчину дать достаточную.
Мясо было постное и солёное, и владыка почувствовал, как горло одолела сухота, он взял со стола кувшин и выпил до капли.
Князь Ряполовский терпеливо дожидался, пока Иона утолял жажду, внимательно наблюдал, как двигается его острый кадык, проталкивая в бездонное брюхо епископа питьё.
– Не могу я так сразу дать ответ, отец Иона. Подумать нам надо, – засомневался князь.
Владыка поднялся из-за стола:
– Слово своё даю, что возьму детей на свою епитрахиль и беречь их стану. Завтра за ответом явлюсь.
– А разве не останешься у меня, владыка? Или обидел чем? В моих хоромах тебе перина постелена.
– Непривычно мне на перинах лежать, – возражал отец Иона. – Неужто запамятовал, что я монах? Келья мне нужна и лавка жёсткая.
Ушёл монах. Ряполовские остались одни, с ними Прошка Пришелец.
– Что делать-то будем? – спросил сразу у всех Никита и, повернувшись к Пришельцу, добавил: – Может, ты скажешь, Прохор Иванович? К Василию Васильевичу ты ближе всех стоял, хоть и не княжий чин имеешь.
– Не верю я Шемяке. Деток Василия Васильевича хочет получить, чтобы потом измываться дальше. На московском столе он укрепиться хочет, а сыновья государя для него только помехой будут.
– Так-то оно так, – несмело согласился Никита, – только ведь он епископа послал. Его слово что-то должно стоить.
– А вы что думаете, братья?
Младшие братья Василий Беда и Глеб Бобёр, такие же скуластые, с косматыми сросшимися бровями, как у самого хозяина дома, передёрнули плечами.
– Оба вы правы: и ждать нельзя, и отдавать надо. Епископ ростовский послан. Если не отдадим отроков, тогда вроде Церкви не доверяем. Выходит, правда где-то посерёдке. А вот где эта серёдка?
– Вот что я думаю, братья, – снова заговорил Никита. – Если мы сейчас епископа не послушаем, будет лишний повод у Шемяки, чтобы гнездо наше разорить. Дружина у нас здесь небольшая, сопротивления серьёзного не дадим. Тогда уже точно деток в полон захватит. Ионе мы скажем, пусть возьмёт в соборной церкви на свою епитрахиль. Если согласен, тогда и отдадим.