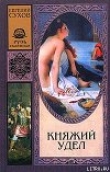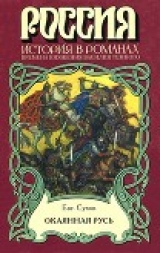
Текст книги "Окаянная Русь"
Автор книги: Евгений Сухов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 29 страниц)
Али поднялся с колен. Видно, утренней молитвы не получится. Всевышний будет рассержен, и после полуденной молитвы придётся замолить этот грех обильным подношением.
– Этот мерзкий раб лжёт, – сказал Али-Галим. – Неужели ты думаешь, что я посмел бы поднять руку на своего великого господина?!
– Выходит, ты готов умереть ради своего повелителя?
– Я?..
– Да, ты, Али. Или ты совсем онемел от счастья? Сделай для меня это. – Улу-Мухаммед протянул Али кинжал. – Ну что же ты? Ты меня разочаровываешь. Может быть, тебе нужна помощь? Ты всегда был хорошим слугой и никогда не огорчал меня. Ладно... теперь мне уже всё равно. Двоим здесь будет тесно. Значит, кто-то из нас должен умереть. Эй, нукер, убей своего господина.
– Я давно это хотел сделать! Я только дожидался удобного случая. Когда я видел его спину, то всякий раз сдерживал себя, чтобы не вонзить нож между его лопатками. Я всегда служил только одному господину, тебе, Улу-Мухаммед.
Начальник стражи подошёл к Али-Галиму и всадил саблю ему в живот. Клинок вошёл так, что он долго не мог вытащить её из чрева своего повелителя, а когда наконец справился, Улу-Мухаммед сказал:
– Отрубить ему голову и выставить на блюде. Пусть каждый сможет увидеть открытые глаза своего бывшего господина.
– Слушаюсь, мой повелитель!
Утром в Иски-Казани узнали, что эмира Али-Галима больше нет. Всадники Улу-Мухаммеда разъезжали по улицам города, и глашатай, следовавший впереди, во всё горло орал:
– Вашего господина Али-Галима больше нет! Отныне у вас только один повелитель, Великий Мухаммед! Али-Галима больше нет!
И в подтверждение его слов на арбе, запряжённой старой лошадью, раскачивалась на блюде из стороны в сторону посиневшая голова бывшего правителя Иски-Казани.
– С сегодняшнего дня все жители Иски-Казани Мухаммеда Великого должны называть ханом! Мурзы и эмиры должны почитать его как своего единственного господина! Муллы с сегодняшнего дня должны упоминать хана в молитвах и воздавать ему должную хвалу. Да продлит Аллах на земле дни нашего господина Мухаммеда Великого! И пусть звезда его, ярчайшая из всех светил, никогда не погаснет на небосводе! Пусть сияние всегда освещает нам путь!
Но разве может удовлетвориться великий правитель небольшим улусом, если привык распоряжаться целым миром? Следующим летом Мухаммед подошёл к Москве. Десять дней стоял под её стенами, напоминая князю о нанесённом оскорблении и о возрастающем могуществе нового государства. А потом, спалив посады, ушёл в нижегородские земли, которые уже успели склонить головы перед могуществом нового хана.
Этим же летом тяжело заболел Дмитрий Красный. Тяжкий недуг надломил, словно тонкую хворостину, его стройное тело и преждевременными морщинами обезобразил красивое лицо. Оглох князь, ссутулился и стал походить на старца. Дмитрий Младший едва поднимался с постели и, опираясь на плечи бояр, выходил на красное крыльцо, а потом возвращался в светлицу. Иногда он что-то шептал, бояре силились разобрать, о чём хочет поведать князь, но до их слуха доходило только неясное бормотание. Наконец постельничий боярин Дементий всплеснул руками:
– Что же это мы, окаянные! Князь-то исповедаться в грехах хочет! – И уже с печалью, перекрестив лоб, добавил: – Видно, смертушку свою чует князь, вот от того и беспокоится. Чистым уйти желает.
Поддерживаемый боярами, князь Дмитрий Красный вступил в домовую церковь. Священник Иосия терпеливо дожидался, пока Дмитрий Красный сделает к нему оставшихся три шага, чтобы втайне поведать о своих грехах. А его долг – отпустить их.
Задержал Дмитрий Красный взгляд на скорбящих лицах святых, поднял руку, чтобы перекрестить грешный лоб, а из ноздрей брызнула кровь.
– Причасти князя! Причасти, святой отец! – напористо шептал постельничий Дементий.
Растерялся отец Иосия, глядя на окровавленное лицо князя.
– Как же я его причащать буду, ежели из него кровь брызжет? Вы уж, бояре, возьмите под руки князя да на паперть выведите! Авось там ему и полегчает.
Князю не полегчало, тело его обмякло, лицо побелело и выглядело безжизненным, и, если бы не свет его ясных глаз, можно было бы подумать, что душа оставила тело. Но Дмитрий жил, и только иногда губы шевелились, и Дементий угадывал:
– Причастия князь просит! Причастия! Боже, ты... что же делать-то? Кровь не унять!
Боярин вынул платок, разодрал его и воткнул в ноздри князю. Кровь унялась.
– Ну а теперь, бояре, в светлицу князя ведите. Отлежится Дмитрий Юрьевич малость, авось и отойдёт болезнь.
Хоть и княжеские покои, а убого в них. Сквозь тёмное окошко еле свет пробивается, постель смята, по углам паутина.
Священник дотемна пробыл в покоях князя в надежде дать причастие, но Дмитрий Красный проспал до вечера. В полночь ему захотелось ушицы. Он привстал со своей постели, опираясь слабеющей рукой об изголовье, и попросил:
– Осетринки бы... да с наваром!
– Будет сейчас, князь! Будет! Эй, девки! – позвал постельничий. – Ушицы князю несите, да поживее!
Князь уху ел не спеша, отпивая с глубокой ложки сытный навар, потом утёр бороду ладонью и пожелал:
– Вина бы чарку!
Подали князю и чарку вина. Выпил Дмитрий Красный до капли и, охмелев, сказал боярам, которые неподвижно застыли у ложа господина:
– Пошли бы вы вон отсюда! Дайте мне покой, уснуть хочу!
В покоях стало пусто – остались князь да постельничий его, Дементий.
– Наказывает меня Господь, – заговорил князь. – Грешен я, Дементий. А Бог-то, он всё видит. И ни в чём спуску не даёт.
– В чём же ты повинен, князь? Более безвинную душу я и не встречал. На бояр своих и то прикрикнуть не можешь. И с братьями своими всегда в ладу был, волю великого князя выполнял исправно и Дмитрию Шемяке не перечил, Васька Косой и тот тебя любил.
– Не о том говоришь, боярин. Девка у меня была... красивая больно, и душа моя к ней прикипела, да так, что жёнку свою забыл. Знаешь ты, детей у меня нет, жена померла в одночасье, и сам я отхожу в одиночестве... Девка эта понесла от меня дитё. Видел я его, на меня похоже. Не мог же я его к себе взять, приказал эту девку со двора гнать, как сучку последнюю. А совсем недавно, когда к Дмитрию Большому ехал, на дороге бабу повстречал среди нищих. Баба та меня за ногу дёргает и кричит: «Не узнаешь меня, княже?! Не узнаешь?!» Рынды её отпихнули, а она всё кричит истошно: «Не узнаешь меня, княже?!» Думаю, видно, совсем баба рассудка лишилась, ведь не признал её поначалу. Знавал-то я её юной, а передо мной жёнка седая! И тут она мне кричит: «Сыночка-то нашего нет уже!.. Помер он!» Прозрел я здесь, признал свою зазнобу. Не сказал ничего, дальше поехал, а только с того дня стала меня хворь точить. Видно, наказал меня Господь... Был бы у меня сын, оставил бы ему удел, а так Галич Васька московский заберёт! Поначалу у отца удел отнял, а теперь вот и ко мне подобрался. Эх, Дементий, отговорился я с тобой, как на исповеди, и полегчало малость. А теперь иди, спать я буду.
Князь уснул скоро, а Дементий долго маялся в углу на жёсткой лавке. Проснулся боярин от крика. Князь задыхался, лицо его сделалось синим, и душа, того и гляди, отлетит от тела.
– Князь! Князь! Да проснись ты! – тряс постельничий за плечо своего господина. – Проснись Христа ради!
Быть может, смерть уже подступила к Дмитрию Красному, заглянула в его лицо, которое от этого покрылось холодной испариной. Князь разлепил веки и узнал боярина.
– Это ты, Дементий?
Лёгкое прикосновение живого человека к умирающему князю, видно, отпугнуло смерть, но она не ушла, а только спряталась у изголовья, чтобы потом наверняка вцепиться костистой рукой в Дмитрия и уже не отпускать его до последнего вдоха.
– Помираю... Зови священника и бояр, последнее слово хочу молвить.
Выскочил боярин из горницы и тут вспомнил, что забыл взять шапку. «Ну и Бог с ней!» – махнул он в сердцах рукой и побежал кликать бояр.
Бояре, увидев князя умирающим, суеверно крестились, жались у порога, а потом, словно боясь потревожить, один за другим расселись по лавкам.
– Отходит князь, отходит, – шептали бояре.
Князь умер так же тихо, как и жил.
Отец Иосия возвёл глаза к небу, перекрестился на сводчатый потолок и, положив ладонь на лицо князя, закрыл ему очи.
– Вот, кажись, и всё... отмаялся князь.
Бояре плакали, не в силах скрыть печаль. Вместе со смертью Дмитрия уходили и прежние вольности. А каково сейчас менять одного господина на другого? Ладно сына бы князь оставил, ему бы послужили. Теперь придёт Василий Васильевич и заберёт Углич, присоединит к своей вотчине. Затрут их московские бояре, затопчут. И судьба каждого из них повернётся неизвестно как, только и останется плечи подставлять под ноги великому московскому князю, когда он надумает выезжать на соколиную охоту.
Более других горевал Дементий. Мёду хмельного он не пил, а лил горькие слёзы у ложа почившего. Бояре в пьяных речах хвалили умершего князя, материли Василия. А затем, обессилевшие, здесь же на широких лавках улеглись спать.
Не ложился спать только Дементий, из своего угла он поглядывал на умершего князя, и, если бы не бледное, застывшее лицо Дмитрия, могло показаться, что он просто прилёг отдохнуть.
Сон скоро стал забирать боярина. Видно, изрядно подустал постельничий – ему вдруг показалось, что рука князя дрогнула, а пальцы сжались в кулак.
– Свят! Свят! Свят! – начал креститься постельничий и глазами, полными ужаса, пялился на Дмитрия Красного.
И тут Дементий увидел, как у князя шевельнулась другая рука, затем он уверенно откинул одеяло в сторону, опёрся ладонью об изголовье и сел.
Дементий, цепенея от ужаса, смотрел и гадал, что это: мёртвый пробудился от храпа бояр или объятия смерти были не так крепки. Вывернулся из них князь да и ожил! А Дмитрий Красный, не размыкая век, пробормотал:
– Пётр же, познав его... яко Господь есть...
Что это, чудесное пробуждение или Господь, восстав против смерти, не согласился принять князя без святого причастия?
Неожиданно Дмитрий сильным голосом затянул псалом, как если бы он сделался простым певчим. Дементий совладал со страхом и подтянул громко, подлаживаясь под пение галицкого князя:
– Миром Господу помолимся. О свышнем мире и о спасении душ наших Господу помолимся.
И когда бояре пробудились от хмельного сна, то увидели, как князь с постельничим слаженно тянули на два голоса. Дмитрий Младший пел самозабвенно, глаза его при этом оставались закрытыми. Постельничий Дементий, взобравшись на лавку с ногами, с высоты «алтаря» пытался вторить князю сочным басом. Бояре не удивились чудесному пробуждению князя, видно решив, что это им всё чудится с похмелья, пошмыгали носами, повертели нечёсаными головами и подтянули поющим.
Никто из них не заметил, как в горницу вошёл священник, который явился для того, чтобы прочитать Псалтырь над почившим князем да проводить его в дальнюю дорогу с миром.
– Уж не бес ли здесь правит? – усомнился священник, глядя на образа, перед которыми горела лампадка. – Свят, свят! – Он начал креститься. – Бояре, опомнитесь!..
Дмитрий Красный открыл глаза, разглядев среди бояр отца Иосия, проговорил:
– Не мог я, святой отец, без причастия уйти. С того света явился, чтобы из твоих рук отпущение грехов получить. А после причастия, как Бог пожелает, заберёт к себе или жить оставит...
– Самое время, князь, причаститься.
– Вот скажи мне, отец Иосия, голос у меня есть али пропал? – усомнился Дмитрий. – Пою, а голоса своего не слышу. Вижу, бояре рты пораскрывали и вроде бы тоже поют, а как ни напрягаюсь, ничего услышать не могу.
– А ты пой, батюшка, душе всё равно очищение.
Не разобрал ничего князь и, оборотясь к постельничему, сказал:
– И ты здесь, Дементий... Жалко мне от вас уходить. Скорбь большая, да Господь призывает. – И князь снова запел.
По Угличу прокатился слух, будто Дмитрий Красный воскрес из мёртвых, и под окнами княжеского дворца собралась толпа зевак и нищих, чтобы поглазеть на чудо. Юродивые вопили, что сие пение чудодейственное: глухие от него начинают слышать, а незрячие видеть, и преображение то действует благотворно на баб пустоутробных. И ко двору князя валом спешили сироты и калеки, которые здесь же, у красного крыльца, подхватывали пение во здравие князя.
Князь Дмитрий Юрьевич Красный умер на заре.
Он просто перестал петь, и бояре, удивлённые его долгим молчанием, неловко переглядывались, а потом Дементий, заглянув в очи князю, понял, что дух его покинул тело.
– Кажись, отошёл, благовернейший... – произнёс, крестясь, отец Иосия.
– Что делать-то теперь будем? – сиротливо озирался Дементий. – Не так давно Юрия Дмитриевича хоронили, а теперь вот... сына его любимого.
– Великому князю весть нужно послать о кончине его двоюродного брата.
– Пошлём, – согласились остальные бояре. – У Дмитрия Красного характер покладистый был. Василий Васильевич на него зла не держит, может, и поскорбит вместе с нами.
– А ещё за Дмитрием Шемякой послать надо. Вот кто от братовой смерти опечалится! Хоть и не ладили порой они между собой, а любил его старший брат.
– Да, всем хорош Дмитрий Красный был. Когда Васька Косой и Дмитрий Шемяка боярина Морозова убили, то Юрий Дмитриевич за это на сыновей осерчал. А Дмитрий Красный отцову сторону принял. На старших сыновей князь опалу наложил, а про Красного сказал, что Божий человек он и зло на него держать грешное дело.
Князя обрядили в белые одежды, вставили в руки погребальную свечу и отнесли в церковь Святого Леонтия, в которой так любил молиться князь при жизни.
На восьмые сутки пришёл Дмитрий Шемяка. Всё такой же, как и прежде, стремительный, дерзкий. Он не взглянул на согнувшихся бояр и, обратясь к отцу Иосии, спросил:
– Где брат лежит? Взглянуть хочу!
Бояре не разгибали спины, зная крутой характер среднего брата Дмитрия Младшего. Лучше голову ниже склонить, чем совсем без неё остаться. Что им, этим мятежным братьям, станется, если они на самого великого князя руку поднимают! Может, и другого опасались увидеть бояре – немой укор.
– В церкви Святого Леонтия он лежит, – отвечал Иосия за всех разом. – Вот уже осьмой день пошёл, а его и тлен не тронул. Как жил святым, так святым и помер. Царствие ему небесное...
– Отведи меня к нему.
– Пойдём, князь.
Дмитрий лежал у алтаря. В изголовье горели свечи, у ног плачущая юродивая.
– Милый мой князь! Дитятко ты моё родимое, как же я без тебя далее буду? Ушёл и со мной не простился.
– Кто такая? – спросил Дмитрий Шемяка. – Почему из храма не выгоните?
– Сидит здесь который день и жалится. Всё миленьким князя величает, а сама по себе пропашка!.. Юродивая. Говорит, что якобы дитё от него понесла. – И уже осторожно: – Чего только не болтают! Хотели мы её гнать, да она такой шум подняла, что мы сдались. – И, оборотясь к юродивой, отец Иосия сказал: – Шла бы ты отседова, пока князь Дмитрий Большой с братцем со своим простится.
Отошла блаженная на шаг, отстранённая рукой Иосия, но уходить совсем не собиралась и ревниво, со стороны, наблюдала за тем, как Шемяка наклонился над братом и целовал его в безмолвные уста. Она смотрела на Дмитрия Красного любовно и ласково и в то же время готова была броситься к нему, чтобы оградить от опасности.
Не долго братец пожил, так и ушёл сразу вслед за отцом. Словно существовала между ними какая-то духовная связь, которая не оборвалась и после смерти Юрия Дмитриевича, вот и утянул батянька в могилу своего любимого сына.
– До Москвы на руках донесём, а там в церкви Архангела Михаила и похороним. При жизни Дмитрий Младшой ближе всех к отцу стоял, пускай же и после смерти они рядом останутся.
На следующий день, под печальный звон колоколов Успенского собора, покойного князя вынесли из церкви и неторопливо понесли на плечах. Далёк путь до Москвы! Впереди процессии спешили гонцы с печальной вестью, и усопший князь, под звон колокола, вступал в деревню, где его на плечи принимали молчаливые мужики, чтобы пронести до следующей церкви, там его бережно поднимут на руки другие, пока почивший князь не прибудет к месту своего последнего упокоения.
Дружно в этот год поднялась трава, едва солнце припекло, а первые ростки мать-и-мачехи уже жёлтыми солнышками лихо взбирались на косогор, ютились в низинах, около дорог и крепостных стен. Только в глубоких оврагах местами оставался слежавшийся снег.
А солнце, словно искупая свою вину за долгое зимнее бездействие, палило сильнее, плавило последний снег. И недели не пройдёт, как неприглядную черноту вытеснят разноцветные медуницы, а потом опушки леса станут белыми от распустившихся ландышей.
Москва жила тихо. Казалось, и раны её понемногу затягивались после междоусобиц братьев, и новгородские мастеровые, приглашённые великим князем, латали разрушенные крепостные стены.
Дел хватало на всех: мастеровые строили через Москву-реку мост. Обветшал он, того и гляди, рухнут вековые сваи в прозрачную гладь и сметут небольшой базарчик, который разместился на его дощатом хребте и где бойко шла торговля. А на прошлой неделе обвалились перила, и в Москву-реку попадала бесшабашная кричащая торговая публика. Насилу всех выловили.
Был Великий пост. Но, несмотря на все напасти, базары в Москве не потеряли своей живости, всюду торговали бараниной, парной говядиной и постной свининой, торговые ряды ломились от квашеной капусты, солёных грибов и всякой всячины.
Брод против обычного казался оживлённым, и на богомолье с посадов в Успенский собор сходился народ, чтобы постоять перед образами на коленях и поставить свечу за упокой или во здравие.
На гонца, который легко скакал по Нижегородской дороге, мало кто обратил внимание. Его конь уверенно топтал головки мать-и-мачехи, и комья земли весело разлетались во все стороны.
– Дорогу! Дорогу! – орал он, когда ему навстречу попадалась небольшая группа нищих с котомками на плечах. – Дорогу гонцу великого князя!
Нищие охотно расступались и, сняв с голов дырявые шапки, смотрели вслед. Не дай Бог, ещё и плетью угостит. Пусть себе скачет.
– Дорогу! – орал гонец, когда конь ступил на мост и, цокая подковами по свежетёсаным доскам, поспешил дальше.
Мастеровые пропускали лихого гонца, а потом, как и прежде, сноровисто работали топорами. Гонец обогнал старух, спешащих на богомолье, обдал грязью нарядную девку, идущую по воду, и выехал к китай-городской стене.
Великого князя гонец заприметил сразу. Василий стрелял из лука в чучело, ряженное в татарский кафтан. Три стрелы торчали из горла, четвёртая, пущенная менее удачно, воткнулась в плечо. Молодой рында стоял подле государя и подавал ему стрелы. Гонец попридержал коня, посмотрел, как великий князь, прищурясь, целится. Пальцы Василия разжались, и стрела, весело запев, воткнулась в глаз «басурману».
– Государь, князь великий! – упал на колени гонец. – С Нижнего Новгорода я, воеводой Оболенским прислан. Сыновья Улу-Мухаммеда в окраину русскую вошли, по всему видать, к самой Москве спешат!
Василий Васильевич посмотрел на чучело. Стрела пробила голову, выдернув с обратной стороны пук соломы. А ведь татарин так стоять не станет. На поле боя кто первый пустит стрелу, тот и прав! Покудова русич один раз стрелу выпускает, татарин уже четвёртую готовит. В чём же хитрость? Быть может, в том, что татарин за дугу тянет, а русич привык тетиву натягивать?
Василий Васильевич не однажды наблюдал, как татары стреляли из лука. Их быстрота и точность всегда поражали его. Одним движением, не выпуская тетивы из пальцев, они доставали из колчана стрелу, прикладывали её к дуге, и мгновенно она уже летела в цель. И русским надо воевать так же, однако традиции на Руси совсем иные. Но не было в стрелах, пущенных татарами, той мощи и силы, которой отличались стрелы русичей, способные пробить даже крепкий панцирь.
Призадумался Василий: опять Улу-Мухаммед.
Василий помнил его огромным, шумным. Хан охотно откликался на шутки своих мурз, и его громкий голос беспрестанно сотрясал своды дворца. И кто мог подумать, что пройдёт совсем немного времени – и его власть в Сарайчике завершится бесславным изгнанием. Но не таков Улу-Мухаммед, чтобы сносить обиды. Он уже оторвал от Орды огромный кусок и стал ханом. На востоке создал государство, которое сейчас угрожало Московии.
Видно, сама судьба сталкивала их, чтобы они посмотрели друг на друга через много лет.
– Что ж... встретим мы хана. Прошка! – позвал великий князь верного слугу. – Распорядись, пусть бояре ко мне явятся!
Прошка за последний год изменился. Не было уже того щуплого отрока, который стремглав бросался выполнять любой наказ московского князя. Теперь он приосанился, плечи налились силой, а лицо заросло рыжеватой бородой. И только в глазах по-прежнему горели весёлые искорки, которые выдавали его разудалый, бесшабашный нрав.
Стремглав разъехались во все стороны гонцы, чтобы отдать распоряжения великого князя. А уже через несколько дней по Тверской, Ярославской, Владимирской дорогам потянулись дружины на подмогу великому князю Василию.
В город Юрьев, на поклон к государю, прискакали нижегородские воеводы Фёдор Долголядов да Юшка Драница.
Фёдор Долголядов вышел вперёд, смахнул рукой прилипшую к одежде грязь и с печалью в голосе сказал:
– Оставили мы Нижний Новгород, государь. Не суди слишком строго. Татар под городом такая тьма собралась, что даже из башни горизонта не видать. Припасы все поели, народ стал от голода пухнуть. Вот мы город запалили и с силой через татар пробивались на твой суд.
– Не в чем вас винить, воеводы. Видно, так то и должно было случиться. Не время больше медлить. Прошка! Скажи воеводам, пусть собираются к Суздалю.
Передовой полк Василий Васильевич остановил на реке Каменке. Зазвучала труба, и тысяцкий, махнув рукой, распорядился:
– Здесь будем татар ждать! Так государь распорядился.
Берег походил на высокую крепостную стену, которая начиналась у самой кромки воды и круто поднималась вверх. Каменистый берег, неудобный. Взять его от воды трудно, разве что обойти тайно. Но дозоры великий князь выставил усиленные, и сотники объезжали войско посмотреть, как несут караул воины.
Василий Васильевич занял сопку, у подножия которой раскинулось поле, – именно отсюда и поджидали воеводы татар. Сверху и атаковать лучше, ежели что, и оборону держать.
Река Каменка прозрачная, казалось, не затронуло её весенним паводком, когда половодье подтачивает крутой берег и несёт размытую глину вниз по течению. Вода в реке чистая, как в стоячем колодце, и, если бы не быстрые водовороты, можно было бы смотреться в неё, как в зеркало. Ничто не тревожило покой реки. Разве что небольшие рыбацкие судёнышки, уверенно скользившие по гладкой поверхности.
Хоть и тихоней выглядела Каменка, а видела она и грозную сечу, когда схлёстывалась татарва с дружиной князя. Мутнели тогда воды от пролитой крови. Река служила последней преградой, отделяющей степь от государства Московского. Именно сюда, по наказу великих князей, съезжались князья удельные, чтобы в единстве противостоять татарской тьме.
В последние годы на востоке незаметно окреп сосед, который тревожил московские заставы своими набегами. Ворвётся тёмным смерчем на окраины, обожжёт стрелами Русскую землю, словно огненными молниями, заберёт в полон людей и так же стремительно уходит за Волгу. И эту назойливость восточного соседа Василий Васильевич ощущал в последнее время особенно сильно. С жалобами подъезжали воеводы: «Посады палят, батюшка... Девок уводят... Крепости жгут». Наверно, наступил тот самый час, когда стоило собраться с силами и проучить воинственного соседа. Думал Василий Васильевич и о другом, что наказывает его Бог за кичливость: посмел отказать в приёме Улу-Мухаммеду. Не было бы тогда разорённых окраин, пленённых хлебопашцев, держал бы бывшего хана у своих ног, как пса верного.
Раскололась Золотая Орда на уделы и уже никогда не соберётся в одно целое, как не склеить черепки разбитого горшка. Каждый из чингисидов видит себя наследником великого Батыя, и невдомёк им, что выглядят они трухлявыми грибами на стволе срубленного дерева. Незаметно для отпрысков чингисидов на Средней Волге родилось сильное государство, имя которому Казанское ханство!
Из Казани Улу-Мухаммед отправил к своему «крестнику» гонцов с наказом: пусть платит Василий дань хану, как это было заведено и прежде. Улу-Мухаммед бесстыдно напоминал о том, как великие московские князья со времён Чингисхана ходили на поклон в Золотую Орду выпрашивать ярлык на великое княжение. Напоминал, из чьих рук Василий Васильевич получил московский стол. «И дети твои к моим пойдут, – писал казанский хан, – и внуки твои от моих внуков великое княжение получать станут!»
Василий Васильевич сошёл с коня и глянул вниз, где, шурша галькой, Каменка несла свои воды. Из-под ног великого князя сорвался ком земли и с сильным плеском ушёл под воду. Жеребец испуганно повёл ушами, долго прислушивался к тишине, затем вновь склонился к сочной траве. Разговор с ордынцами – это переход по шаткому мостику, неверно истолкованное слово – и рухнешь вниз в мутную пучину. Вот поэтому больше приходится кланяться, чем говорить. Поначалу подарки, а потом уже только дело. Если бы эта речушка и это поле стали местом, где пришёл бы конец татарскому игу! Ведь были на Руси Александр Невский и Дмитрий Донской, так почему бы не быть Василию Каменскому? Только для твоих ли плеч эта ноша? Если бы братья заодно были, тогда и скинули бы с себя ордынский хомут, а так каждый из них великокняжескую шапку силится примерить. Только шапка-то на одну голову сшита!
Василий Васильевич решил выступать после полудня, когда со своими дружинами подойдут двоюродные братья Михаил и Иван Андреевичи. У самой Нерли к воинству князя Василия Васильевича должен пристать ещё один брат – Василий Ярославович.
Как ни близок Василий с братьями, но только один стол на Руси может быть первым – московский. Невольно, а порой и намеренно Василий Васильевич показывал, что именно он является хозяином земли Русской. И от этого неосторожного напоминания хмурился Василий Ярославович, становился неразговорчивым Михаил Андреевич, и только младший брат Иван оставался беспечно весёлым. Понимал Василий Васильевич грусть удельных князей – каждый за свою вотчину ратует и видит себя не младшим братом, а равным! Не время сейчас делить единое, и канула в небытие пора, когда Русь состояла из множества княжеств, где всякий князь на своём дворе голова. Русь, поделённая на многие лоскуты, должна превратиться в твёрдую державу. Да такую, чтобы меч басурманов обломился об неё, а стрелы отскакивали!
Нет уже соперничества между Москвой и Тверью, остался на Руси только один главный город – Москва!
В нём один князь может быть хозяином. Хмурятся двоюродные братья, но почитают московского князя за старшего. Не было случая, чтобы отказали они Василию в помощи. Только Шемяка всегда держится особняком, не забыл, бес, что отец и брат сидели на московском великом столе. Вот и сейчас, когда ордынцы сожгли Нижний Новгород и тучей налетели на Русь, ждал он от Шемяки помощи, посылая к нему одного гонца за другим. Молчал Шемяка. Василий Васильевич догадывался, что втайне Дмитрий Юрьевич желает его поражения, вот тогда и взберётся на московский стол! А не далее как вчера донесли великому князю, что Дмитрий Шемяка связывался с ханом Сарайчика, обещал ему большие дары, если поможет согнать с престола Василия Васильевича. Рассердился тогда великий московский князь, но гнева своего не показал. Издавна повелось на Руси, что только великие московские князья могут сноситься с Ордой – им ответ за Русь держать, им и ясак со своих земель собирать. Ещё Дмитрий Юрьевич отговаривал служивых татар вступаться за Василия, верные люди сказывают, что из казны углицкой за измену обещал платить золотом.
Скоро от мурзы пришло хитрое письмо, дескать, подойдёт он со своими всадниками, но только через десять дней. Хитрый татарин ссылался на то, что обижают его сородичи и хочет он навести порядок в своём улусе. Василий хмыкнул, услышав эту новость от гонца: только будет ли он необходим через десять дней, если Улу-Мухаммед на вторые сутки к Москве пожалует?
Более всего тяготила Василия Васильевича измена Дмитрия Шемяки. Это был вызов старшему брату, на который нужно ответить. А значит, вновь война и, как прежде, разделится Русь надвое, где невозможно выявить правого и виноватого. Москва стольным городом не будет, если удельные князья задираться начнут! Хоть Дмитрий Шемяка и брат, однако вреднее любого татарина. Ордынец на великокняжеский стол не позарится, от него золотом откупиться можно, а Дмитрию Юрьевичу непременно Москву подавай!
В тревожном ожидании прошёл и следующий день. Великий князь собрал дружину, вышел в поле, а потом вернулся в стан. Воинство его, как и прежде, было послушным – побряцали оружием, поупражнялись в метании копий и стали готовиться к вечерней молитве. Для многих этот вечер, возможно, станет последним.
– Пусть этой ночью дружинники веселятся, – распорядился великий князь. – Пусть пьют и едят столько, сколько вместят их утробы.
Воеводы объявили волю великого князя. Отроки одобрительно загудели, предвкушая обильное возлияние.
– Сотникам и десятникам следить за порядком, – предупреждали воеводы, – Кто меч на товарища поднимет, тот будет лишён живота сам!
Об этой традиции – сытно кормить и поить своих воинов перед боем – знали все. Немного перед смертью надо: поесть вдоволь, попить послаще. Бабу бы вот ещё обнять... Да где тут, все попрятались!
– Сколько я с Василием Васильевичем хожу, так он ни разу хмельного зелья для своей дружины не пожалел, – говорил лохматый десятник, опрокидывая содержимое огромного ковша к себе в нутро. – А за такого и умереть не жалко, – добавлял он охмелевшим голосом. – Как выйдем поутру, так и схлестнёмся с татарами!
Великий князь московский не пожалел угощения для всех, не осталась без хмельного и посошная рать. Многие упились и завалились спать здесь же, у костров, и, когда ужин был в самом разгаре, кто-то в центре стана, близ княжеского шатра, затянул голосистую песню. Отрок пел про молодого удальца и девицу-красу да про отчима-лиходея, что посмел взглянуть на молодую невестушку и отобрать её по праву старшего. И каждому, кто слышал слова этой песни, на миг взгрустнулось. В молодом голосе чувствовалась тоска, да такая, что многим подумалось, уж не у него ли отчим отбил жену. Вместе со всеми заслушался и князь: отдёрнул полог шатра, да так и стоял, дивясь голосу, а потом, когда певец умолк, Василий Васильевич поманил к себе Прошку и спросил: