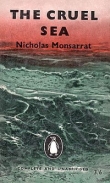Текст книги "Наш старый добрый двор"
Автор книги: Евгений Астахов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 18 страниц)
– Ну ладно, – сказал Колтун, увязывая торбу. – Не хошь, как хошь.
– Брезгует.
– Недолго ему брезговать осталось. Поглядывай за ним, Богомол… Но, пошла! Но-о!..
За поворотом лесной дороги показалось большое село. Дома тремя улицами спускались к подернутой туманом низине. В зарослях ивняка пряталась невидимая с дороги речка.
– Ну вот и Ржавка, приехали с божьей помощью. Дальше тебя, товарищ герой, на машине повезут; только вот сдадим господину Кёлеру, а они уж распорядятся как надо…
Он не успел договорить – из придорожных кустов вышли несколько человек с немецкими автоматами наизготовку.
– Господи! – выдохнул Богомол. – Откуда ж они здесь, в самой Ржавке?!
Присев, он метнулся за телегу, нырнул в заросли орешника, подступавшие к самой дороге. В пропитанном влагой воздухе глухо прозвучала короткая автоматная очередь. Богомол ткнулся головой в переплетение ветвей и замер. Заброшенный за плечи карабин сполз ему на затылок.
– Не стреляйте, браточки! – завопил Колтун. – Мы ж вас ищем который день! Ховаем от немца раненого летчика, героя, вот его документы туточки!
Он лихорадочно шарил за пазухой, искал завернутые в тряпицу газету, летную книжку и комсомольский билет младшего лейтенанта Александра Пинчука.
* * *
«Особо секретно
Начальнику зондеркоманды 6а
штурмбаннфюреру Г. Зингеру.
Довожу до Вашего сведения, что крупный отряд партизан, численностью до пятисот человек, неожиданно атаковал 9-й охранный батальон СС, базировавшийся в с. Ржавка. В результате упорного боя батальон понес значительные потери и отступил в беспорядке. Командир батальона, гауптштурмфюрер СС О. Кёлер убит…»
О других убитых эсэсовцах в рапорте не сообщалось, поэтому никто и никогда не узнал, где и как был убит Тарас Горобец, он же Карадашев, он же Кривой.
Новое название старого озера
Повестки из райвоенкомата пришли всем одновременно: Минасу, Иве и Ромке.
– Ну что ж… – сказал Ивин отец. – Пришел твой черед выполнить долг перед Родиной. Мне вот не удалось, а ты…
– Как же не удалось?! – возмутился Ива. – Да ты на заводе день и ночь!..
– То гражданский долг, Ива. А бывают такие моменты в жизни человека, в жизни его Отечества, когда мужчина должен, обязан взять в руки оружие, понимаешь, именно оружие! Не логарифмическую линейку, не ручку с пером, не карандаш, а ружье. Ружье!..
Он не сказал: «винтовку» или «автомат», сказал – «ружье». И, вслушиваясь в это совсем невоенное слово, Ива подумал, что не смог бы представить своего отца в погонах, в каске, с автоматом поперек груди. Все это никак не вязалось с его подчеркнуто штатским обликом, с его мешковатым пиджаком и близорукими глазами. А вот «ружье» – другое дело, это слово почему-то воспринималось, оно как-то «шло» отцу.
– Видишь ли, – продолжал тот. – Так уж получилось, что в нашей семье ни одного солдата. Ни мне, ни моему брату Петру не привелось попасть на фронт. Да, мы с ним «заводские люди». Кто спорит, это очень нужно, то, что мы делаем. Без крепкого тыла невозможны успехи на фронте, но… Когда кончится война и вернутся домой ее герои, мы в глубине души будем завидовать им, их солдатской славе. Да, да, Ива, обязательно будем, что поделать, – он развел руками, улыбнулся. – Буду завидовать тебе, вот увидишь. Еще бы! Ты ведь представишь нашу семью в действующей армии!.. Я, наверное, очень торжественно выражаюсь?
– Нет, папа…
– Твой дед, Ива, сражался под командованием генерала Брусилова. Был участником знаменитого прорыва Австро-венгерского фронта. Брусилов Алексей Алексеевич лично вручил ему тогда Георгиевский крест. О твоем деде вообще рассказывали как о человеке удивительной храбрости.
– Ты говоришь все это так, будто сомневаешься во мне.
– Нет, нет! Что ты, Ива! Напротив… Просто в такой ситуации я не мог не вспомнить о твоем деде… Он погиб зимой шестнадцатого года. Мне было тогда одиннадцать лет. А Петр еще и в гимназию не ходил…
Родители Минаса тоже вспоминали. Только совсем о другом – перебирали в памяти всех своих клиентов, прикидывали, кто из них смог бы помочь в получении отсрочки от призыва. Хотя бы на год.
– Если вы это сделаете, – кричал на родителей Минас (впервые в жизни он кричал на папу с мамой), – то я уеду в другой город и там сдам документы в военкомат!
– Что ты говоришь, мальчик?! – Родители Минасика метались, охваченные паникой. – Ты не понял нас, все совершенно законно! Ведь ты такой болезненный, у тебя хроническая ангина. И потом ты единственный сын, это тоже обязаны учитывать.
– А разве Алик не был единственным?! Или тот же Ива? Или Ромка?
– У Ромы есть все же сестра… – Они пытались возражать, уговаривать, приводили десятки доводов, в отчаянии призывали на помощь всю родню, но чем дальше, тем больше убеждались: усилия их, видимо, бесполезны, придется смириться с мыслью, что Минасик, такой неприспособленный и слабый здоровьем, пойдет служить в армию и еще, не дай бог, угодит на фронт.
– А может быть, – начинали сдаваться они, – ты подашь заявление в школу военных фельдшеров? Туда, где учится Рэма? Ведь ты студент мединститута, о тебе так хорошо отзывается профессор Ростомбеков.
– Куда мне идти, решит военкомат. Я хочу как все…
– Да, да, – печально кивали головами родители. – Мы понимаем тебя, Минасик…
Что же касается Ромки, то у него, как всегда, все обошлось благополучно.
– Аоэ! В армию иду! – громогласно сообщил он, получив повестку. – Сразу в повара запишусь. Вокруг меня все как вокруг елки ходить будут, потому что повар в армии главный человек!.. Только жалко, что волосы заставят постричь под машинку. Очень некрасиво это!..
* * *
Трудно сказать, кому первому пришла в голову идея сходить на озеро. На то самое безымянное озеро, в котором когда-то были пойманы малоазиатские тритоны и на берегу которого Ромка сварил великолепный суп из захваченных с собой припасов.
Ромка утверждал, что идея принадлежит ему, кто, как не он, уважает хорошую компанию? Кто, как не он, сумеет сделать такую закуску, чтоб на всю жизнь запомнилась?
С ним не спорили. И впрямь: кто, как не Ромка?..
– Пойдем вчетвером, – сказал он. – Тогда мы тоже вчетвером ходили.
– А кто же четвертый? – поинтересовался Ива.
– Джулька пойдет. Говорит – хочу пойти. Ничего, пускай.
– Давайте и Рэму пригласим, – неуверенно предложил Минас. – Возможно, ей дадут увольнительную.
– Ва! Молодец, барашка! Неужели до сих пор за ней бегаешь? Не надоело, да? – Ромку просто поразило такое постоянство Минаса.
– Слушай, – покраснел тот, – твое дело закуска? Вот давай и пиши, что надо купить…
Идти решили в ближайшее воскресенье, не откладывая. Кто его знает, через неделю всем уже может потребоваться увольнительная. Кстати, Рэме увольнительную дали, что несколько испортило настроение Джульке. Но вида она не показала.
День выдался совсем весенний. Крутой склон горы, нежно-зеленый от пробившейся травки, уходил вверх, обрываясь острым, источенным ветрами гребнем.
– Хорошая погода, – заметил Ромка. – Такая же была, когда мы с Каноныкиным к Персидской крепости ходили. С Вальтером, ну.
– Нашел кого вспомнить!..
Все замолчали, шли, глядя под ноги. На Подгорной не любили вспоминать эту давнишнюю историю. Веяло от нее чем-то неуловимо-тревожным, словно не была она списана в безвозвратное прошлое, не поставлена последняя точка в ней, и каким-то непонятным образом эта история еще может вернуться во двор с тремя старыми акациями. Разумом каждый понимал – не может. И все-таки не любили вспоминать, и все!
Ну а Ромка, тот обязательно вылезет с чем-то непрошеным. Иди теперь думай о том, о чем вовек бы не вспоминать…
Ива лишь однажды за все это время завел разговор об Ордынском – не удержался, напомнил о нем профессору, когда тот в очередной раз попросил помочь отобрать книги для институтской библиотеки.
– Вы много лет знали Ордынского и неужели никогда?..
– Увы! Никогда ничего такого мне и в голову прийти не могло. – У профессора был смущенный вид, и Ива пожалел, что задал ему такой бестактный вопрос. – Я понимаю… сие есть потеря бдительности. Да, да, да! Не возражайте!.. Нет, право, знать человека со студенческих лет и одновременно до такой степени не знать его! На это только я способен… Сейчас, постфактум, когда поздно кулаками размахивать, ибо прекрасно обошлись и без меня, я, анализируя наши долгие беседы с этим субъектом, некоторые поступки его и инвективы[36]36
Резкое суждение, резкий выпад (латин.).
[Закрыть], прихожу к выводу, что кто-то другой на моем месте мог бы прийти к определенным настораживающим умозаключениям, мог давно задуматься над несколько странными позициями господина Ордынского, над его, так сказать, модусом вивенди. Да вот, знаете ли, не тем голова была занята. Что, естественно, не может являться оправдывающим мотивом… – Профессор задумчиво смотрел мимо Ивы в темные стекла окна. На улице ветер раскачивал фонарь под жестяным колпаком. Сразу после отмены светомаскировки эти фонари казались Иве ослепительно яркими. – Да, вы подумайте, какой грязный шлейф тянулся за этим человеком много лет подряд! Совестно за него. Интеллигент, хороший врач… Впрочем, медицина всегда была скорее увлечением Ордынского, чем профессией… Помню, до революции в собственной клинике он бедных больных оперировал бесплатно. Даже дал об этом объявление в городской газете. Это тоже, конечно, для создания соответствующего реноме… Не пойму, как сочеталось в нем гуманнейшее призвание врача с истинной его сутью? Пожалуй, вплотную он стал заниматься медициной с четырнадцатого года, когда отбыл на румынский фронт полковым врачом. А вновь мы увиделись лишь в начале двадцать первого. Я был в ту пору прикомандирован к одиннадцатой армии[37]37
Части 11-й армии в 1921 году изгнали из Грузии меньшевистское правительство.
[Закрыть]… Вы не представляете себе, как давно и как недавно все это было!..
Профессор рассказывал долго, он увлекся и совсем забыл про книги; их так и не удалось в тот вечер до конца разобрать.
– Я знал от Ордынского, что Цицианов уезжал за рубеж из Батума буквально накануне прихода туда красных частей; видимо, все еще на что-то надеялся… А вот о Гигуше Ордынский не упоминал. Может быть, Гигуша уже погиб к тому времени?.. – Профессор задумался. Ива сидел на стремянке, смотрел на него и молчал – боялся помешать неосторожным словом…
В ту далекую февральскую ночь двадцать первого года в забитом чемоданами номере портовой гостиницы «Армения» светлейший князь Цицианов горячо, со слезой в голосе убеждал сына:
«Ты должен уехать со мной! Ради чего ты останешься на этой разоренной и несчастной земле? Даже материнской могилы не найти теперь на ней. Уедем! Революция, она как река, прорвавшая весной все плотины. Но разумные люди обязательно восстановят их, и постепенно река войдет в свои привычные берега. И тогда мы вернемся. Я ведь никогда не был сторонником монархии, ты знаешь это…»
Так говорил князь Цицианов. Растерянный, испуганный, поникший.
«Я не переживу трагическую смерть Кетеван! – твердил он сыну. – А если и ты еще оставишь меня, Гигуша…»
Тот не смог тогда оставить отца. Он оставил его потом, став старше и поняв все. Или почти все, потому что не знал о записке, переданной отцом в самый последний момент Ордынскому.
Короткая записка в несколько строк:
«Милая Кетеван! Я сражен горем. Погиб наш Гигуша. Расстрелян за связь с этими мерзавцами большевиками. Крепись. Прощай. Уезжаю, чтобы продолжить борьбу с убийцами нашего единственного сына».
Об этой записке не знал и профессор. Никто не знал о ней, кроме Цицианова, его жены и доктора Ордынского…
Ива не раз вспоминал эти рассказы профессора о прошлом, таком удивительном и не совсем понятном ему. И впрямь, как трудно все представить: молодого, даже безбородого еще, профессора в роли репетитора сына Цициановой. И совсем молодую Кетеван Николаевну. И Ордынского, ненавистного ему Ордынского, который умел так ловко и так жестоко обманывать поверивших в него людей. Многих. Вот и его, Иву, тоже…
«Все, что было, хорошее или плохое, все навсегда остается с нами, – думал Ива, поднимаясь по тропе вслед за беспечно шагающим Ромкой. – Ничего невозможно ни забыть, ни просто зачеркнуть, словно его и не существовало никогда. И время тут ни при чем. Вон профессор – то, что было двадцать пять, даже тридцать лет назад, вспоминает, будто вчерашнее событие, и сам поражается этому. Что же удивительного, если Ромка вдруг вспомнил о Вальтере, разве забудешь о таком?..»
Их маленький караван растянулся по тропе. Сзади всех шел Минас, опять был слишком тепло одет.
– Слушай! – кричал ему Ромка. – Мы так до вечера не дойдем, а я уже кушать хочу! Вай, какой сегодня шашлык будет, очень интересный шашлык! – И Ромка поцеловал сложенные щепоткой пальцы.
Его новый наставник, шеф-повар из хинкальной, узнав, что племяннику Вардо пришла повестка из райвоенкомата и, значит, наступила пора расставаться с учеником и помощником, очень огорчился.
– Э-э! – говорил он сокрушенно. – Если б не война, тебя бы не взяли. Я сам бы пошел к начальникам, договорился бы, ну! Почему пошел бы? Ты мне нравишься, потому. Хотя лентяй и слишком длинный язык имеешь. Но наше дело тебе по душе, сынок. Это замечательно, когда человек свое дело под сердцем держит! Другим людям от такого человека большая польза может выйти. Хотел хорошо научить тебя, а ты уже уходишь. Проклятая война! Быстрей возвращайся, ну. Ждать буду!..
Узнав о прощальном походе на озеро, шеф-повар окончательно растрогался и от щедрот своих выделил на всю компанию несколько килограммов бараньих ребрышек.
– Добрый он, видно, человек, – сказала Рэма.
– Если б добрый был, заднюю часть дал бы, а не ребра.
– Нахал ты, Ромка, однако…
Рэма строгала кизиловые прутья для шампуров, Джулька, расстелив на траве старую скатерку, раскладывала припасы, красный от натуги Минас раздувал угли. Ромка командовал всеми. И только один Ива ничего не делал. Он просто бродил по берегу озера, всматриваясь в зеленоватую воду. Ему так хотелось, чтобы в ее не успевшей еще согреться глубине мелькнул бы, словно радужная тень детства, малоазиатский тритон, мольге витата…
Бараньи ребрышки, оплывая жиром, поджаривались над прогоревшим костром. Ромка крутил потемневшие от дыма кизиловые шампуры и ловко сбивал огненные языки, стоило им только заплясать над голубовато-багряной россыпью углей.
Он не преувеличивал, шашлык и впрямь получился на славу. Если и могло с ним что-то сравниться по вкусу, то разве только суп, состряпанный тем же Ромкой на этом же самом месте четыре года назад.
– Давайте, – сказал Минас, – помянем Алика. – Он налил вино в стопки, молча раздал их. – Я не знаю, что в этих случаях говорится…
– Не знаешь, не берись! – перебил его Ромка и встал. – Этим маленьким бокалом, – начал он…
– Садись! – Джулька сердито посмотрела на брата. – Тоже тамада нашелся! Ничего не надо говорить, и так понятно.
Все обмакнули в стопки кусочки хлеба, положили их на краешек скатерки; осторожно, чтоб не расплескать вино, прикоснулись друг к другу пальцами.
– Вечная память!..
– Бедный Алик!..
– Бедный дядя Павел!..
У Минаса чуть-чуть покраснели глаза, а Ромка не удержался и добавил к сказанному:
– Смерть немецким оккупантам!..
В лощину зябкой волной сбежал ветер, как бы напоминая, что весна еще не наступила, что просто выдался погожий денек, а завтра может сорваться с цепи холодный дождь с мокрым снегом вперемешку и надо, не надеясь на обманчивое тепло, быть готовым к последним ударам зимы. Где-то еще не растаял снег, поэтому рано ждать тех, кому суждено будет вернуться…
– Можно, я буду ждать тебя? – тихо спросила Иву Джулька.
– Конечно! – ответил он и почувствовал, как загорелись у него уши, точно их кто-то натер шерстяными варежками.
– И письма буду писать, хорошо?
– Да. Мне будет… очень приятно получать их от тебя. – Ива совершенно не знал, что следовало говорить в подобных случаях.
Но Джульке было достаточно и того, что он уже сказал…
– Как называется это озеро? – поинтересовалась Рэма.
– Несторина лужа, – тут же отозвался Ромка.
– Ничего подобного! – Минас решил вступиться за озеро. – Сорочье. Или вообще Безымянное.
– Раз Безымянное, то давайте дадим ему свое собственное название, – предложила Рэма.
– Какое?
– Ну хотя бы… озеро Доброй Надежды.
– Хорошее название, – похвалил Минас. Но так как он во всем любил полную ясность, то решил все же уточнить: – Надежды на что?
– На то, что у нас с вами все обойдется счастливо. И мы снова когда-нибудь придем сюда, к этому месту, где горит сейчас наш костер. Придем живые и невредимые…
На обратном пути они остановились у каменной чаши родника, чтобы сфотографироваться на память. Пока Минас устанавливал треногу и отлаживал автоспуск, Ромка забрался на край чаши и, умостившись там, свесил вниз длинные ноги.
– Аоэ! – закричал он. – Давай быстрей, а то камень мокрый!
Джулька встала рядом с Ивой, взяла его за руку, и он вновь почувствовал, как начинают гореть уши, хотя к ним никто и не прикасался шерстяными варежками.
Иве очень хотелось посмотреть на Джульку, но он почему-то не решался сделать это.
Если у Минаса получится фотография, Ива обязательно возьмет ее с собой в армию.
«Кто из них твоя девушка?» – спросят Иву однополчане. И он покажет на Джульку.
Можно, конечно, показать на Рэму, та тоже стоит рядом; правда, не держит его за руку. Можно, но он покажет на Джульку.
«Вот эта, – скажет Ива. – Ее зовут Джулия. Она ждет меня и каждую неделю пишет мне письма…»
О чем думала в эти минуты Джулька, сказать трудно. Она просто стояла, сжав Ивину ладонь своими тонкими теплыми пальцами, и закатное солнце зажгло в ее глазах маленькие прозрачные огоньки…
– Улыбайтесь! – крикнул Минас.
– Сколько можно улыбаться? – огрызнулся Ромка. – Давай быстрее, ну! Мокро сидеть!
– Сейчас, сейчас… – Минас взвел автоспуск, подбежал, занял свое место. Сухо щелкнул затвор ФЭДа.
– Готово!..
– Вот мы и остались навсегда вместе, – сказала Рэма. – Пройдет сто лет, а мы все равно будем вместе.
– Только пожелтеем немножко, – Ромка спрыгнул на землю, потер ладонями намокшие сзади штаны. Потом напился из жестяного ковшика – раз около родника были, значит, надо воды попить, – и сказал Минасу строго: – Смотри, чтобы карточки хорошо вышли!..
Они пошли дальше. Южный склон горы был уже совсем зеленый. Небольшая отара паслась возле тропы; отощавшие за зиму овцы жадно щипали молодую траву. Женщина в черном платке стояла у края отары и, опираясь на пастуший посох, смотрела из-под руки на идущих по тропе незнакомцев.
– А помните, тогда старик был, – сказал Минас. – К роднику с хорошей водой нас проводил.
– После того как я из-за тебя воды с лягушками напился! – проворчал Ромка. – Умер тот старик, наверное, а сыновья на фронте, вот она и пасет…
Уже у самого города Рэма вдруг остановилась и, тряхнув коротко остриженными волосами, воскликнула:
– Да, я же вам забыла сообщить самую главную новость!
Все повернулись к ней. Как-то странно прозвучала эта фраза. Похоже было, что не забывала она ничего, а просто не решалась или не хотела рассказать.
– Что же за новость такая?
– Послезавтра… послезавтра приезжает Вадим.
– Какой Вадим? – не поняла Джулька.
– Тот самый, которого вы непочтительно прозвали Кубиком.
Это было до того неожиданно, что Минас даже присел на корточки, словно его ноги не держали.
– Ва! – Ромка так и остался стоять с раскрытым ртом.
«Как она назвала его – Вадим, – подумал Ива. – И смотри – покраснела при этом… Выходит, Ромка не врал тогда про них. А что? Кубик же совсем молодой еще…»
– Откуда ты знаешь, что он приедет?
– Телеграмму из Москвы прислал. Ему дали отпуск. У него будет здесь целых пять дней!
– А потом что, назад вернется?
Ива понимал всю нелепость своего вопроса, но надо же было хоть что-то сказать. Ничего другого в голову не пришло, вот он и брякнул первые подвернувшиеся слова.
Однако Рэма восприняла этот вопрос вполне серьезно.
– Конечно, назад в свой полк, – ответила она. – И знаете… мы уедем вместе, уже решено.
– Так ведь ты…
– Последние экзамены за спиной, ребята! На днях будет приказ о присвоении нам воинских званий. Я теперь младший лейтенант медицинской службы. Можете поздравить меня!
Визит в Кенигсберг
Кенигсберг произвел на Вальтера странное впечатление. Он просто не узнал город, в котором прожил в общей сложности более пятнадцати лет. То был совсем другой город, непохожий, замерший в напряженном ожидании неизбежной опасности. И с какой-то покорностью обреченного готовящийся к встрече с ней.
Сырая ночь висела над спящим Кенигсбергом, густо обволакивая его пустынные улицы, старые, сложенные из кирпича дома. Со стороны Балтики дул ровный холодный ветер, усиливающий ощущение одиночества и обреченности.
Город спал беспокойно. Казалось, что он тяжело ворочается во сне, стонет, как страдающий удушьем человек, и снятся ему тревожные длинные сны, тусклые и бесконечные…
Вальтер недолюбливал Кенигсберг. К нему трудно было привыкнуть после беспечного южного города, в котором он родился и провел детство.
Но тогда, в двадцатом году, отец выбрал именно Кенигсберг и не хотел слышать ни о чем другом.
– Мы, Крюгеры, – говорил он торжественным тоном, – уроженцы Восточной Пруссии, колыбели германского могущества. Все великое в истории фатерлянда связано с Пруссией и только с ней! Как же я могу забыть о моих доблестных предках? И разве виновен был мой дед, Франц Мария Крюгер, в том, что злая судьба заставила его покинуть родную землю и поселиться в России? Нет, нет и еще раз нет!.. И вот мы возвращаемся к корням своим, и, видит бог, то самый счастливый миг в моей жизни!..
Вальтер слушал высокопарные отцовские речи и никак не мог понять, что задумал его родитель. Дело, конечно, не в корнях и прочей ерунде. Что-то другое тянет папашу Крюгера именно в Восточную Пруссию.
Как выяснилось позже, бывший кишинево-одесский галантерейщик не ошибся в своих расчетах. Именно здесь, в Пруссии, начнет оживать оправившаяся от потрясений последних лет немецкая военщина. Какая широкая клиентура для коммерсанта, умеющего учитывать вкус и запросы своих покупателей!
Карл Крюгер начал скромно, с небольшого магазинчика в Понарте – южном предместье Кенигсберга. На большее зашитых в жилет империалов не хватило.
Он строил свою торговлю таким образом, чтобы основные покупатели всегда могли б найти в его магазине все нужное им: от бритвенных лезвий до подусников, от целлулоидных холостяцких воротничков до сигар. А следовательно, им нечего идти в другой магазин, если в этом есть все и к тому же недорого. А при желании можно и в кредит.
На первых порах Крюгер-старший старался не жадничать. В конце концов, твердая сложившаяся клиентура – это те же деньги.
Дела пошли неплохо. Через несколько лет он расширил магазин, потом открыл еще один, ближе к центру города.
А там наступили события тридцать третьего года. Папаша Крюгер принял их восторженно. Он носил теперь только коричневые галстуки, читал «Дас Шварцекор» и «Дер Штюрмер»[38]38
Эсэсовские газеты.
[Закрыть] и старательно слушал по радио все, о чем говорил господин Фриче[39]39
Правительственный комментатор имперского радио.
[Закрыть].
Основные его конкуренты жили теперь в гетто, а вскоре и вовсе сгинули; Крюгер неплохо нажился на их беде. «Каждому свое, – любил повторять он. – Каждому свое…»
Он был непременным участником всех факельных шествий, всегда старался попасть в первые шеренги и громче других выводить столь прекрасно звучащие слова «Хорста Весселя»[40]40
Популярный немецкий марш времен войны.
[Закрыть]:
Мы идем, отбивая шаг!
Пыль Европы у нас под ногами…
Ах, как нравилась ему эта песня! Как воодушевляла она, ну просто до слез!
Идут истинные немцы!
Идут истинные немцы!..
Идет он, Карл Эрих Крюгер, истинный немец, уважаемый коммерсант, патриот, галантерейщик, победивший своих незадачливых конкурентов.
Все радовало папашу Крюгера. Даже сын, такой непочтительный и своевольный Вилли, оказался сыном, которым можно гордиться. Правда, он не захотел быть галантерейщиком, стал военным. И не просто военным. Его служба окутана тайной, о ней говорили шепотом, и это льстило самолюбию Карла Крюгера.
– Мы коренные уроженцы Пруссии, – без конца напоминал он всем. – Наши предки были солдатами еще в те времена, когда тевтонцы ходили походом против литовских племен, и после победы над ними заложили наш славный, добрый Кенигсберг…
* * *
Вальтер прилетел в Кенигсберг в полночь. На затемненном аэродроме его ждала машина.
Погода портилась. Туман сковал аэродром. Такой вялый и бессильный на вид, он клочьями висел на крыльях самолетов, точно удерживал их, не пускал в затянутое тучами, тусклое балтийское небо.
– Едем в гостиницу? – спросил Вальтер у встречавшего его офицера.
– Нет, – коротко ответил тот.
Машина мчалась по пустынным, затемненным улицам Кенигсберга. Патрули на перекрестках, приглушенный синий свет фонарей, город как затаившаяся во тьме крепость, обложенная со всех сторон противником.
«Что за дурацкое состояние? – раздраженно подумал Вальтер; он никак не мог избавиться от ощущения: город в осаде. – Какая, к дьяволу, осада! До этого не дойдет…»
Он вспомнил города и фольварки, через которые проезжал неделю назад. Сплошная, прекрасно продуманная система обороны, каждый дом, каждый амбар, любая хозяйственная постройка могут в считанные минуты превратиться в доты, казематы, склады боеприпасов. Много лет подряд в приграничных районах все строилось с обязательным расчетом на использование построенного в военных целях. Как это оказалось предусмотрительно, ведь никто и думать не мог, что русские когда-нибудь подойдут к границе Восточной Пруссии и будут угрожать ее городам.
Эйдткунен, Тильзит, Юрбург, Гумбинен…
Три с половиной года назад по их улицам шли войска, направляясь на Восток, в Россию. День и ночь эшелоны, вереницы танков, нескончаемый людской поток.
Четыре недели, и русские будут разбиты, развеяны в прах, стерты с лица земли. Бог твой, такая сила! Вполне можно управиться и за три недели…
По узким улицам Кенигсберга ветер несет редкие снежинки. Город погружен во мрак. Тихо в Кенигсберге. Люди заперлись в домах, опустили плотные шторы на окнах, отгородились ими от тревожной, пугающей тишины.
Вальтер давно не видел этот город. Откровенно говоря, не очень-то и стремился увидеть.
И эта их встреча была незапланированной. Просто во время работы по созданию агентурной сети на оставляемой немецкими войсками территории Вальтер неожиданно был вызван в Берлин, а оттуда направлен для получения особых инструкций в Кенигсберг.
Он знал, что его считают опытным специалистом по русским делам. Эта репутация укрепилась за ним давно, еще после той памятной истории на Кавказе. Так блистательно все было задумано! И так гладко шло поначалу…
Тогда, за перевалом, только после окрика часового он понял, что выбрался. Несмотря ни на что, сумел все-таки уйти! И сил-то у него оставалось только до машины добраться.
Нога раздулась, будто ее накачали насосом. Он провалялся в госпитале полтора месяца, врачи боялись, что начнется гангрена.
Но счастливая звезда Вильгельма Крюгера, Вальтера, как он и сам привык называть себя, не подвела и на сей раз. Все обошлось, и ни при чем здесь врачи – звезда, одна она хранит, бережет, спасает…
Все и дальше продолжало складываться как нельзя лучше, если не считать самого хода войны.
В последние месяцы Вальтер вынужден был заняться работой по созданию агентурной сети на оставляемой немцами территории. Он понимал: подобные дела нельзя делать наспех. Но германская армия все быстрее и быстрее откатывалась на запад, поэтому о тщательности проводимой операции не приходилось и думать.
Да и агентов ему присылали никуда не годных. Большей частью то были навербованные в лагерях военнопленные, кое-как обученные своему будущему ремеслу. Под видом бежавших из плена они должны были проникать в партизанские отряды или прятаться у местных жителей во время облав, инсценированных полевой жандармерией.
Но после прихода советских частей большинство из них являлись в комендатуры с повинной. Другие, нарушив все инструкции, исчезали из районов, где им было предписано находиться до получения новых указаний. Третьих быстро разоблачала контрразведка. Это обстоятельство настораживало Вальтера больше всего – видимо, происходит утечка информации и где-то рядом с ним работает советский разведчик. В суматохе непрекращающегося отступления, в обстановке взаимного недоверия, раздраженности и страха пытаться обнаружить его – занятие безнадежное.
И потом Вальтеру было непонятно, для кого же он создает агентурную сеть? Война с Россией проиграна, это ясно всем. Выходит, в запас? Хозяин, конечно, найдется, за хозяином дело никогда не станет. Но кто будет им?..
Вызов в Берлин, а затем направление в Кенигсберг для выполнения специального задания особой важности положили конец всем этим тягостным раздумьям. Вальтеру надоело возиться с запуганными, бестолковыми агентами, заниматься делом, в успех которого он не верил.
Разговор в Кенигсберге был предельно конкретным: Вальтеру поручали одну из групп по вывозу в специально подготовленные тайники ценностей и архивов «третьего рейха». Круг лиц, посвященных в подробности этой сверхсекретной операции, был очень узок. Собственно говоря, и Вальтер почти ничего не знал о ней. Лишь самое необходимое для выполнения лично ему порученного задания: список группы, место расположения тайника, схема минирования, характер груза, количество мест и сроки выполнения с точностью до часа.
– Вы понимаете, Крюгер, – сказали ему в конце беседы, – переход из разведки под наше начало – это знак особого доверия к вам и к вашим способностям. В подобных операциях мы опираемся на самых надежных и проверенных людей. Среди них названы и вы, Крюгер. Это обязывает. Удачи вам!
– Хайль Гитлер!..
Он ехал по улицам Кенигсберга, всматриваясь в изменившееся лицо города. На одном из домов задержал взгляд, невольно усмехнулся. «Институт по изучению России», альма-матер Вильгельма Крюгера. Нет, он не возьмет под козырек, проезжая мимо этого насупленного здания, он не обязан ему своими успехами. В этих стенах можно было готовить кого угодно, только не тех, кому предназначалась его работа.
И если он преуспел в ней, пусть даже и внешне, то это скорее благодаря урокам бесшабашного портового города, в котором довелось провести детство. И еще, пожалуй, гимназии, где он проучился с грехом пополам до шестого класса.
Ну а что касается кенигсбергского «института», то обучение в нем не дало и десятой доли того материала, без которого не сыграть бы Вальтеру роли Ивана Каноныкина.
На фоне серого предрассветного неба смутно проступали контуры королевского замка и приземистые, словно грузно присевшие на корточки, форты внешнего оборонительного обвода.
И опять Вальтер почувствовал эту странную атмосферу осажденного города, атмосферу мрачного, безнадежного ожидания…