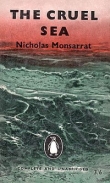Текст книги "Наш старый добрый двор"
Автор книги: Евгений Астахов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)
Цицианова обвела взглядом комнату, в которой бывала не раз, но как-то не обращала внимания на ее скромное убранство. Две узкие и, видимо, жесткие кровати, по-военному тщательно заправленные, письменный стол у окна, два шкафа с книгами, ковер на полу и во всю стену географическая карта, усеянная маленькими флажками на булавках. Их частая цепь вплотную приблизилась к границе и в нескольких местах, точно прорвав ее, клиньями уходила к Норвегии, в Румынию, в Болгарию.
В комнате царил идеальный порядок. На круглом обеденном столе в вазочке, сделанной из гильзы от авиационной пушки, лиловым светом горела гроздь цветущей глицинии. И точно такая же веточка возле фотографии молодой белозубой женщины. Цициановой казалось, что женщина смотрит на нее и как бы спрашивает, улыбаясь:
– Вы помните меня, тетя Кето?..
«Помню, девочка, помню… Ты была красивая и добрая. И кто знает, может быть, к лучшему, что не дожила до дня, когда принесли сюда казенный конверт с сообщением о том, что твой сын пропал без вести. Как и мой когда-то… Кто знает?..»
Фотография женщины и веточки глицинии были единственным, что нарушало строгое, почти аскетическое убранство комнаты.
Перехватив взгляд Цициановой, летчик сказал:
– Это меня Ива с Ромкой глицинией балуют. Наловчились ее рвать под самой крышей. Впервые Ива вместе с Шурцом за ней лазил. Эх и досталось им тогда от меня!.. А вы знаете, Кетеван Николаевна, встречу с другом моим старым я так нетерпеливо жду по двум причинам. Одно дело – не виделись столько лет, это само собой. Но еще и другое: он ведь в той же дивизии воевал, что и Шурец мой, в разных полках, правда, да ведь авиационная дивизия не чета стрелковой, народу в ней немного, все на виду. А Шурца он, ясное дело, как мог опекал… Вот жду, что расскажет, только в то и поверю…
Друг летчика был высок ростом и худ. Тяжело опираясь на палку, он поднялся по лестнице и, выйдя на террасу, остановился. Долго и молча смотрел на сидящего в кресле капитана Пинчука.
– Ну, здравствуй, Гриша, – сказал тот. – Чего молчишь-то?
Отбросив палку, гость широко шагнул, обнял летчика за плечи, прижался щекой к его щеке.
Никого из соседей на террасе не было. Все понимали, что не надо в такой момент мешать людям, смущать их своим присутствием; можно посидеть несколько минут в своих комнатах, ничего не случится. И только Никс, приподняв оконную занавеску, смотрел, как замерли, обнявшись, два совсем еще не старых, но уже седых человека.
Стол Цицианова накрыла сама еще до прихода гостя. Крахмальная скатерть с вензелем, с такими же вензелями тарелки и тяжелые серебряные вилки. Два бокала из настоящей баккара и отливающий голубизной хрустальный графин.
– Все на две персоны, – сказала она. – Я берегу это. Как бы туго ни пришлось мне, а это останется. И знаете почему?.. Когда вернется мой сын, а он обязательно вернется, я должна буду вот так же накрыть стол. На две персоны, понимаете?..
Летчик смотрел на нее. Она стояла прямая и торжественная. И слова ее звучали так, будто она не просто говорила, а повторяла молитву.
– Спасибо вам, Кетеван Николаевна…
Итак, стол был накрыт на две персоны. Сказочно красивый стол! Посредине стояла вазочка, сработанная из медной артиллерийской гильзы. Ее не смущало соседство изящного баккара и фамильного серебра князей Цициановых. Гильза тоже знала себе дену. Ведь она была последней овеществленной памятью о самолете капитана Пинчука, рухнувшем когда-то на заснеженные финские сосны.
И Кетеван Цицианова, без расспросов поняв это, поставила гильзу на середину стола…
– Ты как никто другой поймешь меня, Паша, – с горечью говорил летчику гость. – Нелегко слышать такие слова: отлетался, все, спасибо за службу!.. Сколько я этих комиссий прошел, и все без толку. Чуть было совсем не списали в запас. Говорю им: да я еще летать могу не хуже, чем демон крылатый, вы что, братцы?! Без ног люди летают! Воропаев есть такой, Миша, он еще в сорок втором здесь вот, на Кавказе, глаз потерял, и ничего, дает фрицам прикурить. А мне в ответ майор один с гадюками на погонах: сейчас, мол, не сорок второй год, летного состава у нас достаточно. Понял, а?.. Я ему говорю: «Летчик летчику рознь! Да я с Халхин-Гола воюю без передыха, у меня семь орденов на груди, восемнадцать «мессеров» лично в землю воткнул! Таких летчиков никогда в достатке быть не может, понятно тебе, майор?!» Нескромно, да? А что поделать? Так хоть в училище направили, теорию пока буду преподавать, ну а что дальше, поглядим еще. Я своего не долетал…
Гость говорил о себе, вспоминал товарищей, рассказывал о боях, и по всему было видно, что никак не решится он начать о главном, о младшем лейтенанте Пинчуке, пропавшем без вести три месяца назад.
– Ну слушай, и вино тут у вас: по ногам бьет, а голова как стеклышко! Знатно все, – он обвел руками стол. – Знатно! Не припомню, когда в последний раз так едал. Разве что в Москве, помнишь, Паша, когда после Халхин-Гола обмывали мы первую свою боевую награду? Вот эту… – Он тронул пальцем орден Красной Звезды. На одном из лучиков откололась чешуйка эмали, проглядывал потускневший от времени металл.
Летчик кивнул:
– Помню, Гриша, а как же?..
– Что это я все о себе да про себя? – И гость, делая вид, что досадует на несообразительность свою и даже забывчивость, всплеснул руками, принялся торопливо расстегивать планшет. – О главном-то я и позабыл, ну дела! Все вино твое виновато! – Он достал сложенную вчетверо фронтовую газету. – Вот гляди, что про сына твоего написано! Он же герой у тебя! Точно! Гляди, гляди: «За исключительное мужество представлен к званию Героя Советского Союза». Понял, а? Исключительное мужество!
Строчки прыгали перед глазами летчика, он ничего не мог прочесть. Видел только фотографию. Шурец в его черной кожаной куртке, без шлема, с непокрытой головой, стоит у самолета, положив руку на плоскость. И улыбается. Точно хочет сказать: все в полном порядке, я жив и здоров, ты же видишь, отец, вот он я!..
– Понимаешь, – говорил тем временем гость, – Шурка же твой товарища подбитого из-под носа у немца взял! Тут все написано, ты читай, читай! – Он ткнул пальцем в газетные строчки, но потом, видно поняв состояние друга, прикрыл их ладонью. – Да я тебе так расскажу… Понимаешь, там у новичка одного, Сидоренко его фамилия, вынужденная получилась. Не дотянул до передовой километра три всего, сел у немца на выгон какой-то. В общем, парню хана выходила, куда там денешься, днем тем более. Шурка твой видел это дело, ну и решил выручать, все правильно. Дал своему ведомому команду прикрыть его на всякий случай сверху, а сам разворот – и нырк вниз. Понял, а?
– Что ж он не написал мне об этом?
– Так здесь ведь такое дело, к Золотой Звезде представили, хотел Указа дождаться, потом уж и писать, все правильно. Ты слушай, как он взял того Сидоренко! Выгон-то весь с кузькину плешь был да еще по краю его высоковольтная линия шла. Для взлета надо было бы развернуть машину, но фрицы-то уже вот они, бегут, галдят. Получается – не успеть. И Шурка решил взлетать напрямик. Под линией, чертяка такой, прошел, понимаешь! Да еще по немцам из пулемета врезал… Все правильно, по закону все – Герой, за спасение товарища с территории, занятой противником, и проявленные при этом боевое мастерство и исключительное мужество. Так и написано, – и он снова ткнул пальцем в газетную страницу. – Вот привез тебе специально два экземпляра, храни.
– А что было потом, Гриша? Мне важнее, что было потом.
– Потом… Потом, понимаешь, его комэска сбили. Погода гнилая стояла, на плоскостях и на винту сплошной гололед, а тут слева вдруг солнце проклюнулось, и зашел из-под него «мессер», втихаря вывалился… Какой мужик тот комэск был! Тронов его фамилия, да… Ну Шурка твой погнался за тем «мессером». Немец в облака нырнул, уйти хотел. Шурка на крутом вираже вошел вслед за ним в облако и…
– И что? – спросил летчик. – Ты же видел!
– Ну видел, Паша… Ушла машина в облако, и все. Понял, да? Не вернулся он назад, точно канул в то облако. Пропал без вести, в общем…
Они долго молчали. Летчик пил вино. Наливал и пил, не чувствуя ни вкуса его, ни крепости.
– Хорошее вино, – сказал гость. – Редкое, видать…
Он смотрел на свой бокал, на его тонкие стенки. Густое вино оставило на них рубиновые разводы. Палец медленно скользил по краю бокала круг за кругом. И хрусталь начинал петь высоким грустным голосом.
– Ты понимаешь, – сказал гость после долгой паузы. – Указа-то не было пока. Представление к награде задержано, потому что пропал без вести. Неизвестность, в общем. Положение есть такое… Сам командир дивизии обращался к начальству. И все равно без толку.
– Где это было? – спросил летчик.
Он тронул руками колеса своего кресла, подкатил его к стене, на которой висела карта, выжидающе посмотрел на друга.
– Хотя бы примерно можешь показать где?
– Да не примерно, а вот здесь точно. Николаевские хутора, аэродром был в пяти километрах к северу. Немца за это время выбили, территория освобождена, так что опрос местного населения верст на пятьдесят в округе делали, партизан спрашивали, видел ли кто сбитые машины, может, летчиков хоронил. Было, конечно, много таких случаев, да только данные не сходились, получалось, что не Шурка это, другой кто-то…
– Кто-то другой… У летчиков редко бывают могилы, Гриша. Одни уходят в облако, другие – в морскую глубину, третьи сгорают, не долетев до земли… Выпьем за моего Шурца, Гриша. – Он отломил кусочек хлеба, обмакнул его в вино, положил на край тарелки.
– Ты чего это? – не понял гость.
– Так делают здесь, когда хотят помянуть навсегда ушедшего человека.
– Ты что?! Да ты как?! Ты брось это! Никто еще толком не знает! А ты…
– А я знаю, Гриша. Давай за сына моего, Героя Советского Союза. Ты стоя выпей за него…
После отъезда гостя летчик несколько дней почти не показывался на террасе. Не ждал, как обычно, почтальона с газетами, не переставлял на своей карте флажки. Точно потерял ко всему интерес. И глаза у него стали какие-то необычные, смотрели на собеседника и не видели его. Совсем другим стал летчик.
– Я зе говорил: все эти инвалиды, они цокнутые, – комментировал события Никс. – И этот тозе не исклюцение.
С Никсом никто не соглашался, даже мадам Флигель помалкивала. Никса ругали, называли плохим соседом, но он стоял на своем:
– А я говорю – цокнутый! Увидите, моя будет правда…
Иногда летчик, позвав Ромку, давал ему денег и просил:
– Смотайся за вином, будь другом.
– Ва! – удивлялся Ромка. – Вы никогда не пили вина. Какого взять?
– Все равно…
Ромка приносил вина; летчик, кивком показывая ему на стул, говорил:
– Садись…
Они сидели вдвоем, чаще молча, и тогда Ромка томился. Но иной раз летчик принимался говорить, и, хотя говорил о чем-то непонятном Ромке, тот слушал с интересом и даже поддакивал.
– Герой имеет право быть убитым, Рома. А вот безвестно пропавшим?.. Оказывается, нет, такого права ему не дано. Странно ведь, а?
– Да, очень…
– А между тем все верно. Видишь ли, о Герое люди хотят знать все, таково уж это звание. Не должно оставаться ни доли сомнения у людей, вот в чем дело-то. Ни самой, даже малой, доли сомнения… Но это может быть только в двух случаях: если человек живет и действует как Герой на глазах у всех или если он пал смертью героя тоже на глазах у всех. Третьего не дано, не так ли?
– Да… А кто Герой? Тот, кто приезжал к вам в гости, да?..
Дело в том, что летчик никому не показал фронтовую газету, привезенную другом. Запер оба экземпляра в книжный шкаф и ключ положил в карман гимнастерки. Никто в доме на Подгорной не знал, как спас в бою товарища тот самый Алик, что бегал тут вот, во дворе, под акациями, и было это не так уж и давно.
Оставшись один, летчик вынимал из ящика стола перетянутую резинкой пачку писем. Писали старые товарищи, боевые летчики. Он перебирал письма, вчитывался в бледнеющие строчки, повторял про себя имена ребят, и это была словно безмолвная перекличка.
– Костя-большой… Погиб в Керчи…
– Анисим… Сбит над «Голубой линией»…
– Осман… Сгорел в бою на Курской дуге…
– Костя-маленький… Сбит над Днепром…
– Валька Громов… Этот еще в Севастополе. Тоже без вести…
Память… Она может быть шрамом, может быть болью от осколка, не вынутого хирургом, она может быть песней, которую пели когда-то, очень давно. А может быть листком старой фронтовой газеты. С выцветшими фотографиями и еще наивными стихами будущего маститого поэта.
И среди статей вдруг мелькнет несколько строк о том, как четверо наших «ястребков» вели бой с восемнадцатью «мессершмиттами». И, сбив двух «мессеров», вернулись на свой аэродром. Все четверо.
Десять скупых газетных строчек. Всего по одной строке на каждую минуту боя. А в каждой минуте – шестьдесят смертей. Секунда – и там, где только что был самолет, уже расплывается черное облако дыма и бесформенные обломки, кувыркаясь, летят к далекой, изрытой боем земле…
Неладное творилось с летчиком, соседи видели это, а спросить стеснялись. Такой уж человек летчик, не любит, если жалеют его.
– Надо спросить, все равно надо! У человека горе, сын пропал без вести.
– Так ведь не убит! – говорила Мак-Валуа. – У меня племянники пропали без вести еще в сорок первом, оба, вы помните, как я тогда горевала по ним.
А в сорок третьем нашлись. Оказывается, в партизанах были, все израненные, бедняжки, но ведь живые!
– Тц-тц-тц… Проклятая война, когда ей конец придет?
– Теперь уже скоро, сосед.
– Дай бог, дай бог…
И вот однажды что-то случилось в доме на Подгорной. Что именно, никто толком не знал. Кроме Цициановой. Но она о подробностях не говорила, а раз не говорила сама, то и спрашивать ее было бесполезно, это все прекрасно знали.
Просто ночью соседей разбудил непонятный шум на террасе, и когда они выбежали наружу, то увидели летчика в его кресле-каталке, а рядом Цицианову, взволнованную чем-то, возмущенную, гневную.
– Вы должны дать мне слово офицера! – повторяла она. – Слышите, Павел Александрович, я требую: слово гвардейского офицера!..
– Хорошо, – сказал наконец летчик. Он поднял голову, посмотрел Цициановой в глаза. – Я даю вам слово. Пусть будет по-вашему… Попробую… – И, толкнув колесами дверь своей комнаты, скрылся в ней.
– Что случилось? – спрашивали соседи. – Какой-то шум, какой-то крик. Что было, Кетеван Николаевна?
– Ничего интересного во всяком случае, – резко ответила Цицианова. – Спокойной ночи!..
– Цортова старуха, – не преминул заметить Никс, когда Цицианова ушла. – Цево ей надо от целовека? Какой он ей офицер, когда он давно инвалид? Цево надо, сто случилось?..
В общем-то ничего не случилось. Но могло случиться, если б не Цицианова.
Дело в том, что в последнюю зиму под тяжестью мокрого снега рухнула винтовая лестница, соединявшая все четыре этажа дома.
Произошло это ранним утром, никто из жильцов не пострадал, но разговоров вокруг случившегося было много. Больше всех, конечно, распространялся старик Туманов.
– Когда я был хозяином дома, я ее красил каждый год. И в разный цвет, заметьте! Это была картинка, а не лестница. На вербное воскресенье ее всю украшали зеленью, а она стояла будто невеста.
– Почему тогда твой Никсик на ней не женился? – кричал ему сверху Ромка. – Она ждала, ждала его и упала.
– Сволось! – отвечал ему Никс. – Соб тебя в армию поскорее забрали и процехвостили бы там как следует, оболдуса такого!..
Лестница рухнула, и образовавшуюся в стене дыру наскоро заделали досками; управдом пообещал прислать каменщиков, да тут же забыл о своем обещании.
И вот через несколько дней после отъезда гостя летчик поздно ночью выехал на террасу и, разогнав свою коляску, ударил ею с размаха по дощатой ограде, закрывавшей дыру в развороченной стене. Там, за ней, была десятиметровая пропасть, усеянная ломаным кирпичом и неубранными остатками винтовой лестницы. Там была верная смерть. Несколько секунд падения, последнего полета, летчик не боялся его, потом удар, как когда-то, давно, в черном финском лесу. И все кончится. И хорошо, что кончится…
Дощатая ограда устояла. Лишь отлетели прочь две доски. Еще один удар, и она поддастся; летчик откатил коляску подальше и тут увидел Цицианову.
Она не могла объяснить себе, почему ей не спалось в эту ночь. Может быть, собиравшаяся гроза давила на сердце, а может, просто необъяснимая тревога. С ней это случалось порой, и тогда она набрасывала шаль, выходила на террасу и долго стояла, прислонясь виском к теплому резному столбу. Слушала, как шумят листвой старые акации.
Так же случилось и в ту ночь. Цицианова вышла, гонимая беспричинной тревогой, и вдруг увидела летчика. И все поняла.
– Как вы смеете?! – крикнула она ему. – Как это подло с вашей стороны! Вы же предаете сына!
– Мой сын погиб, – ответил летчик. – Все остальное бессмысленно. Бессмысленно обременять собой людей.
– Вы что, видели могилу своего сына?
– У летчиков редко бывают могилы, Кетеван Николаевна. Порой они просто уходят в облака.
– Мне шестьдесят лет. Из них двадцать три года я жду своего сына, охраняя его этим от всех бед и напастей. Я старая женщина, а вы…
– Я все равно сделаю это, Кетеван Николаевна, – летчик сказал тихо, словно не ей, а самому себе.
– Нет, не сделаете! Я не разрешаю вам, слышите?
Я каждую ночь буду стоять здесь, сторожа ваше малодушие, пока вы не дадите мне слово русского офицера…
Звякнула цепочка, открылась одна дверь, затем вторая, третья. На террасе появлялись заспанные люди. Ничего не понимая, они спрашивали друг друга:
– Что случилось?..
– Что за грохот был?..
– Говорят, к кому-то с нижнего двора воры лезли, но княгиня наша успела вызвать милицию.
– А где же тогда милиция?
– Аба, откуда я знаю? Я спал…
Попытки узнать о подробностях у Цициановой, как уже известно, успехом не увенчались. Возможно, она о чем-то рассказала профессору. Возможно. Тот позвонил куда-то, и на следующий день в сопровождении пожилого сержанта пришло трое военнопленных немцев.
– Где тут стенка обвалилась? – спросил сержант. И когда ему показали, небрежно махнул рукой. – Тю! Да это им всего на пару часов работы. А ежели кто закурить угостит, так и за час управятся…
– Яволь! – согласно закивали головами военнопленные и принялись таскать кирпичи.
Матч двух поколений
Когда видишь человека ежедневно, то трудно уловить происходящие в нем изменения. И впрямь, ну что могло особенно измениться, скажем, в мадам Флигель? Те же очки и те же вставные зубы, которые прищелкивают и грозят покинуть ее, когда она кричит, перевесившись через перила своего заставленного цветочными горшками балкона. А что может измениться в Никсе Туманове или даже в Ромке, хотя тот и вымахал в этакого верзилу и отпустил усы? Да ничего!..
Потому и не замечали соседи, как постарел и согнулся профессор. По-прежнему каждое утро он делал зарядку, старательно растягивая эспандер. Но, видно, время и глубоко спрятанное горе были сильнее любых гимнастических упражнений.
И вот в одно из воскресений произошло событие, внешне вроде бы и непримечательное, и тем не менее оно что-то переменило в жизни людей из дома на Подгорной.
Обычно работавший без выходных Ивин отец вернулся с завода к полудню, что само по себе было необычным. И не просто вернулся, а привез с собой большие ведерные кастрюли. Шесть новеньких кастрюль.
– Откуда это?! – удивилась Ивина мать.
– Как откуда? С завода, разумеется! Сегодня мой цех выпустил первую мирную продукцию – открылся участок ширпотреба. Вот – кастрюли!
– Зачем же нам столько кастрюль?
– Почему нам! Это всем! Дирекцией принято решение всю пробную партию распределить между работниками цеха. Вышло по шесть кастрюль.
Какие это были отличные кастрюли! Просто незаменимые в хозяйстве. В них можно сварить хаши[28]28
Чесночная похлебка из требухи.
[Закрыть] на самую большую семью. Можно кипятить белье. Или засолить на зиму баклажаны. В конце концов, можно поочередно сделать и то, и другое, и третье. В общем, цены не было таким кастрюлям, тем более что за три с лишним года войны кухонная посуда у всех пообветшала; ее паяли, клепали, заново лудили, а о новой лишь мечтали, где ее было взять, новую-то?
Слесарь-лекальщик дядя Коля тоже принес шесть кастрюль. Вся дюжина стояла на террасе, и надо было придумать, как разделить это нежданное богатство между всеми, не обидев никого из соседей.
– Надо их разыграть, – предложила Рэма. – Сколько квартир в доме, столько и фантиков; перемешаем их и вынем двенадцать – по числу кастрюль. Очень интересно будет, по справедливости…
И Рэма рассказала о том, как давно, до войны еще, когда она жила в Одессе, папа Гриша возил ее в Аркадию и там была лотерея, и, купив пять билетов по рублю, они выиграли живого петуха. Он целых два года потом жил на балконе, не кукарекал, но стучал по утрам клювом в стекло, будил всех. В эвакуацию петух не поехал, так и остался в оккупированной Одессе, и дальнейшая судьба его неизвестна.
– Узнаю твою мамочку, – ворчливо заметила мадам Флигель. – Не догадаться сварить его на дорогу!
– Да как же можно было есть этого петуха, бабушка?!
– Не знаю, не знаю, – упорствовала та. – А разве разумнее оставлять его фашистским захватчикам, а самим потом голодовать столько дней?..
Рэмина идея устроить лотерею была одобрена всеми. Одну из кастрюль поставили посредине двора на табурет, бросили в нее фантики с номерами квартир. Маленькая девочка, принаряженная ради такого случая, вытащила одну за одной двенадцать бумажек.
Объявить фамилии выигравших поручили Ромке как самому горластому не только в доме, но и на всей Подгорной улице.
– Квартира двадцать восемь! – выкрикивал он. – Геворкян!.. Молодец, тетя Ануш, не ожидал!..
– Квартира четыре! Сулеймановы!.. Вай, как везет людям!..
– Квартира тридцать два!.. Аоэ! Минасик выиграл! Манную кашу в ней варить будет, целое ведро!..
Следующая кастрюля досталась профессору. Тот долго крутил ее в руках и озабоченно хмыкал.
Потом Ромка выкрикнул фамилии остальных восьми счастливцев, среди которых оказались отец и сын Тумановы. Надо сказать, что судьба далеко не всегда бывает справедливой, и поэтому ни Ивиной маме, ни дяди Колиной жене выигрыши не выпали. Правда, профессор уговорил их взять его кастрюлю, будет хотя бы одна на двух хозяек.
– Берите, берите! – убеждал он. – Мне просто ни к чему такая громадная посудина. Ну что с ней прикажете делать? Тем более я столуюсь не дома, а в институте.
Ну а что касается старика Туманова, то он в ближайший базарный день отнес свою кастрюлю на барахолку и, говорят, очень выгодно продал ее там. Ромка уверял всех, что видел, как бывший домовладелец ходил по рядам, надев кастрюлю на голову, – демонстрировал таким образом редкий товар, и что, дескать, ему, Ромке, даже удалось постучать по донышку кастрюли и задать предприимчивому коммерсанту традиционный для барахолки вопрос:
– Сколько просишь, за сколько отдашь?..
Но дело, конечно, не в этом. При чем тут барахолка? Если на то пошло, ее породила война, барахолка была одной из многочисленных тягот военной поры. И намного пережить войну ей не удалось. Кто станет втридорога покупать кастрюлю у старика Туманова, даже если тот и носит ее на голове, когда в ближайшем магазине такие же кастрюли будут стоять на полках белыми шеренгами, бери – не хочу!
Да дело не в барахолке, а в том, что Ивин отец, и дядя Коля, и сотни других заводчан уже к полудню воскресенья были дома. И в цехе, кроме броневых щитов, начали выпускать обычные кастрюли.
Велико ли дело – простая кастрюля? Но все почувствовали: близится конец войны! Наступит скоро на всей земле мирная жизнь, и почтальон, принося письма, снова будет шутить, балагурить, тешить сердца людей добрыми вестями. И люди, приглашая его к столу, наливая ему вина, скажут однажды:
– Ты совсем как Ардальон. Был до войны такой почтарь в нашем районе. У него потом оба сына погибли…
– Вы знаете, – говорил профессор, – война, она не только разъединяет и ожесточает людей, что ужасно, она и объединяет их, сплачивает, закаляет духовно. Перед лицом великой социальной опасности совсем еще молодые, не искушенные жизнью люди совершают удивительные подвиги во имя таких высоких человеческих идеалов, как любовь к родной земле, к ее свободе и независимости… Пока шла сегодня наша импровизированная лотерея, я смотрел во двор и видел его таким, каким он был во времена волейбольных баталий. Нет, право: все четыре террасы полны зрителей!.. – Профессор почему-то не упомянул о флигеле, хотя на его балконе, пока разыгрывались кастрюли, были и мать и дочь. Кастрюли, да еще даром, это вам не прыгающие у сетки пожилые несолидные мужчины. – И вот я подумал, дорогие мои соседи: а ведь сегодня воскресенье, и мы все дома, и чудесная погода к тому же. Давайте сюда сетку, черт возьми! – крикнул он высоким голосом. – Предлагаю матч двух поколений! Николай Андреевич, вы назначаетесь капитаном команды ветеранов, согласны?
– А что? – встрепенулся дядя Коля. – Да запросто обыграем молодежь! Где это у меня мяч-то лежит? Счас мы его подкачаем…
И матч состоялся. Судил его летчик. Он сидел, как и в прежние времена, на террасе, зажав в зубах пластмассовый спортивный свисток.
– Сэтбол! Мяч на игру!..
Ветераны проиграли с разгромным счетом.
– Давайте усилим вашу команду, – миролюбиво предложил Минас. – Я могу перейти к вам и вот… Джуля тоже.
– Что такое?! – вздернул бородку профессор. – Никаких переходов! Мы просто еще не разыгрались, не вошли, так сказать, в спортивный раж. Нет, Николай Андреевич, вы поглядите-ка на этих самонадеянных молодых людей!
– Счас мы им, профессор, насыпем, – заверил дядя Коля. – Счас насыпем!..
Большая половина зрителей «болела» за ветеранов. Даже обычно невозмутимая Цицианова и та спросила летчика с тревогой в голосе:
– Как вы думаете, им удастся это?
– Что именно? – не понял ее летчик.
– Ну это… «насыпать», в общем…
Насыпать не насыпать, но следующая игра была за ветеранами – в самый последний момент им удалось выиграть решающий мяч.
– Это случайно! – орал Ромка. – Играем контровую! Мяч слабой команде!..
Но и в «контровой» повезло ветеранам, и снова исход игры решило всего одно очко.
– Не считается – мы поддавались! – надрывался Ромка. – Из уважения, ну! Играем еще три раза! Окончательно!..
Это было чудесное воскресенье. И даже Жора-моряк, прикативший на своей тележке по сугубо деловым вопросам, не посчитал возможным отрывать Джульку от такой игры. Он терпеливо дождался конца, причем «болел» в отличие от большинства за команду молодых, а когда мяч улетал в нижний двор, то кричал вместе со всеми:
– Аба! Автора-а!..
* * *
В «загородном универмаге», как величали барахолку, Джулька купила себе сногсшибательное платье.
– Ва! Такие деньги отдала! – сетовал по этому поводу Ромка. – А мне на кино жалеет, говорит: школу окончил – иди работай, нечего у меня клянчить. Еще сестра называется!
– Слушай, а ведь Джулия права, – возразил ему Жора-моряк. – Она же всю вашу семью тянет и учится еще. Почему бы тебе не помочь ей? Ты же на двух ногах. И руки тоже имеются.
– Руки! – возмутился Ромка. – Ноги!.. При чем руки-ноги? Я не могу эти «Темпы» набивать! Засыпаю сразу, ну.
– Тогда подыщи себе что-нибудь другое, где не заснешь! – Жора-моряк начинал сердиться.
– Ищу! Что, не ищу, думаешь?.. Только в райвоенкомате говорят: к новому году готовьте кружку-ложку, призывать будем…
Если Джулька не любила, когда ей делали замечания, то Ромка не любил этого вдвойне. Однако слова Жоры-моряка задели его куда сильнее, чем бесчисленное количество таких же точно слов, сказанных другими, начиная от матери и Джульки и кончая мадам Флигель.
– Ноги-руки! – ворчал он. – Ва, что за люди, что за люди!.. Думаешь, я не знаю, зачем ты себе платья-туфли и кофточки-мофточки покупаешь?
– Знаешь, ну и что? – невозмутимо отвечала Джулька.
– Все равно он на тебя не смотрит. В волейбол играли, все время Рэме мяч подавал, а на тебя кричал, и все.
Джулька щурила свои прозрачные светлые глаза, точно всматривалась во что-то. Возможно, представляла заново, как, спохватившись – кончается увольнительная! – Рэма заспешила с волейбольной площадки домой, и через несколько минут вниз по лестнице флигеля сбежала уже не девушка в сатиновых шароварах и майке, а маленький солдатик с узкими крылышками погон.
«Нет, – подумала Джулька. – На нее он тоже не смотрит. Там смотреть не на что…»
А Ромке сказала:
– Не в свое дело не суйся.
– Интересно! – Ромка даже руками всплеснул. – Я твой брат! Пока отец на фронте, я за тобой смотреть обязан, поняла? Отец вернется, спросит, я ему что должен сказать? Вай, папа-джан, твоя дочь за нашим соседом бегает, за Ивкой Русановым, ну! А за ней, папа-джан, Жора-моряк на своей тележке с подшипниками.
Если бы не Ромкина реакция, отточенная долгим опытом, коробка от папиросных гильз угодила бы ему прямо в нос. Но Ромка вовремя увернулся.
– Где ваша совесть?! – крикнула из кухни мать. – Перед квартирантами стыдно! Ты зачем ее заводишь? Клянусь, все отцу в госпиталь напишу, все!..
Ромкин отец был ранен. В первом же бою, который приняла его рота. Ночной бой за маленькую полусожженную деревушку. Она стояла на голом бугре, изрытом траншеями, и никому не была бы нужна, когда б не этот бугор, единственный на всю округу. Жители давно покинули свои дома, ушли куда глаза глядят, и теперь деревушка, обнесенная рядами проволочных заграждений, прикрытая дзотами и минными полями, мрачно темнела на бугре, безмолвная и неприступная.
– Приказано нам взять ее, – сказал комроты просто, как будто разговор шел о самом обыденном деле. – Командная высота, с нее здесь все просматривается. Поэтому приказано взять и закрепиться до подхода батальона. Ясно?..
«Ва, как мы ее возьмем? – с тревогой подумал Ромкин отец. – Пока добежим, всех убьют. Где здесь спрячешься, ровное место кругом…»
В полночь стылый мрак, висящий над траншеей, красной стрелой прожгла ракета.
– Пошли, ребята! – сказал комроты по-прежнему просто, словно приглашал на прогулку. – И чтоб все, как один, ясно? Нам ее с ходу взять надо, иначе ни хрена не получится…
«В меня три пули попало, – писал домой Ромкин отец, – но я до утра не ушел из окопа, пока нам замену не прислали. Мой командир роты приказ давал: «Уходи, Чхиквишвили, ты свое дело хорошо делал!» Но я не пошел, сказал: «Только вместе со всеми, это мое твердое слово!» Замечательный, между прочим, человек оказался комроты. Мы с ним рядом в атаку бежали как два родных брата.
Теперь я в госпитале. Ничего, врач все пули вытащил, говорит: долго лечить будем. Может, даже отпуск мне устроит, потому что очень меня уважает…»
Все обстояло, конечно, далеко не так, как описывал Арчил Чхиквишвили. В первом варианте письма пуль было шесть, целая автоматная очередь. Потом он передумал, написал: три. Ну а если по правде, то хватило ему и одной. Она ужалила в плечо, прожгла насквозь. От боли и страха перехватило дыхание, хотел крикнуть: «Помогите! Умираю!..» – да не смог, упал головой вперед, в холодную жидкую грязь. Хорошо, комроты рядом оказался.