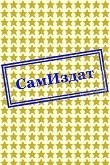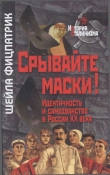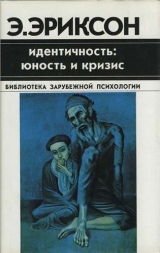
Текст книги "Идентичность: юность и кризис"
Автор книги: Эрик Эриксон
Жанр:
Психология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 23 страниц)
Если мы продолжим игру в "я есть…" за идентичностью, то должны будем сменить тему. Потому что теперь приращение идентичности основывается на формуле "Мы есть то, что мы любим".
Эволюция сделала человека как обучающим, так и обучающимся существом, поскольку зависимость и зрелость реципрокны: зрелому человеку необходимо, чтобы в нем нуждались, и зрелость ведома природой того, о чем следует заботиться. Тогда генеративность – это прежде всего забота о становлении следующего поколения. Существуют, конечно, люди, которые, по несчастью ли или потому, что врожденно наделены талантами в других областях, не обращают эту потребность на своих собственных отпрысков, а реализуют ее в иных формах альтруистической заботы и творчества, которые могут вобрать в себя их тип родительской потребности. И безусловно, концепция генеративности подразумевает включение продуктивной и творческой деятельности, ни одна из которых, однако, не может заменить ее в качестве обозначения кризиса в развитии. Потому что способность потерять себя во встрече тел и сознаний ведет к последовательной экспансии "эго-интересов" и к либидному вкладу в то, что нарождается. Там, где такого обогащения не происходит, его место занимает регресс к навязчивой потребности в
149
псевдоинтимности, часто пропитанной чувством стагнации, скукой и оскудением межличностных контактов. Индивиды тогда начинают потворствовать самим себе, как если бы они были своими собственными или друг друга единственными чадами; и там, где условия этому способствуют, носителем заботы о самом себе становится ранняя инвалидность, физическая или психологическая. С другой стороны, сам по себе факт, что у человека есть дети или что он хочет, чтобы они были, еще не ведет к «достижению» генеративности. Кажется, что некоторые молодые родители страдают от того, что развитие их способности к истинной заботе запаздывает. Причины следует искать в их ранних детских впечатлениях; в неправильных идентификациях с родителями; в чрезмерной любви к себе, основанной на слишком странном выстраивании собственной личности, и в отсутствии некоторой веры, «веры в человеческий род», которая позволила бы с полным доверием, радостно встретить приходящего в мир ребенка. Сама природа генеративности, однако, предполагает, что ее наиболее явную патологию следует искать в следующем поколении, то есть в форме тех неизбежных отчуждений, которые мы перечислили как характерные для детства и юности и которые могут проявиться в отягощенной форме вследствие нарушения генеративности у родителей.
Что касается социальных институтов, поддерживающих и охраняющих генеративность, мы можем сказать только, что все они по самой своей природе систематизируют этику генеративной преемственности. Генеративность сама является движущей силой человеческой организации. И стадии детства и взрослости представляют собой систему генерации и регенерации, на которую работают такие институты, как теплая, заботливая семья и совместно разделенный труд. Таким образом, перечисленные здесь основные силы и существо организованных человеческих общностей совместно создали систему зарекомендовавших себя методов воспитания и фонд традиционных способов подкрепления, которые дают возможность одному поколению встречать нужды следующего поколения относительно независимо от индивидуальных различий и меняющихся условий.
Лишь обретя жизненный опыт, обогащенный заботой об окружающих людях, и в первую очередь о детях, твор-
150
ческими взлетами и падениями, человек обретает интег-ративность – завоевание всех семи предшествующих стадий развития.
Говоря об этом зрелом периоде человеческого развития, отмечу несколько его особенностей. Это растущая эмоциональная интеграция как склонность "эго" к порядку и значимости, полная доверия к образам -носителям прошлого и готовая взять на себя лидерство в настоящем (а при отдельных обстоятельствах и отречься от него). Это принятие одного-единственного жизненного цикла с определенным кругом лиц, входящих в него. Все это подразумевает новую и совершенно иную любовь к своим родителям, принятие их такими, какие они есть, и восприятие жизни в целом как личной ответственности. Это чувство дружеской связи с мужчинами и женщинами разных времен и разных профессий, которые создавали окружающий их мир. Обладатель интегративности готов защищать свой собственный жизненный стиль перед лицом любых физических и экономических угроз, при этом не порицая стиль жизни других людей. Он уверен, что индивидуальная жизнь есть случайное совпадение единственного жизненного цикла с единственным сегментом истории и что вся человеческая интегра-тивность существует и исчезает вместе с тем уникальным стилем интегративности, к которому он причастен.
Клинические и антропологические данные позволяют предположить, что отсутствие или утеря такой нарастающей "эго-интеграции" приводит к расстройству нервной системы или полной безысходности: судьба не принимается как обрамление жизни, а смерть – как ее последняя граница. Отчаяние вызывается прежде всего временной ограниченностью дееспособности периода жизни человека, ь течение которого он не имеет возможности испытать иные пути, ведущие к интеграции. Такое отчаяние часто прячется за демонстрацией отвращения, за мизантропией или хроническим презрительным недовольством определенными социальными институтами и отдельными людьми – отвращением и недовольством, которые там, где они не связаны с видением высшей жизни, свидетельствуют только о презрении индивида к самому себе.
Здесь витальность приобретает форму такого независимого и в то же время активного взаимоотношения человека с его ограниченной смертью жизнью, которое мы называем мудростью, со многими оттенками значения – от зрелости
151
«ума» до сосредоточения знаний, – тщательно обдуманными суждениями и глубоким всеобъемлющим пониманием. Не каждый человек создает собственную мудрость. Для большинства суть ее составляет традиция. Окончание жизненного цикла порождает также «последние вопросы» о шансах человека трансцендировать за пределы своей идентичности и своего часто трагического или даже горько трагикомического участия в собственном неповторимом жизненном цикле в исторической цепи следующих друг за другом поколений. Все великие философские и религиозные системы, имевшие дело с крайней индивидуализацией, ответственно оставались верными современным им традициям, культурам и цивилизациям. Ища трансценденцию в самоотречении, они оставались все же этически озабоченными «сохранением миропорядка». Любая цивилизация мо-жет быть оценена по тому, какое значение она придает полноценному жизненному циклу индивида, так как такое значение (или его отсутствие) не может не затронуть начал жизненного цикла следующего поколения и, таким образом, шансов других людей на то, чтобы встретиться с этими конечными вопросами с некоторой ясностью и силой. /
К какой бездне ни приводили бы отдельных людей "последние вопросы", человек как творение психосоциальное к концу своей жизни неизбежно оказывается перед лицом новой редакции кризиса идентичности, которую мы можем зафиксировать в словах "Я есть то, что меня переживет". Тогда все критерии витальной индивидуальной силы – вера, сила воли, целеустремленность, компетентность, верность, любовь, забота, мудрость – из стадий жизни переходят в жизнь социальных институтов. Без них эти институты угасают; но и без духа этих институтов, пропитывающего паттерны заботы и любви, инструктирования и тренировки, никакая сила не может появиться просто из последовательности поколений.
Итак, мы приходим к заключению, что психологическая сила зависит от тотального процесса, который одновременно регулирует индивидуальные жизненные циклы, последовательность поколений и структуру общества.
Глава IV
Спутанность идентичности в истории жизни и истории случая
I. Биографический очерк: созидательная спутанность
1. Семидесятилетний Дж. Б. Шоу о Шоу двадцатилетнем
Семидесятилетнего Дж.Б. Шоу попросили просмотреть его ранние работы, не имевшие когда-то успеха, и дать к ним предисловие для издания. Речь шла о двух прежде не публиковавшихся сборниках беллетристики1. Можно было ожидать, что Шоу даст пояснения к своим юношеским произведениям, но не предоставит читателю детальный анализ "молодого Шоу". Если бы он не был столь остроумен, говоря о своей молодости, его высказывания можно было бы рассматривать как аналитический шедевр, едва ли нуждающийся в дополнительной интерпретации. К тому же это его собственные заметки по поводу идентичности, посредством которых он успокаивает и поддразнивает читателя то очевидной поверхностностью, то неожиданной глубиной суждений. Я осмеливаюсь воспользоваться выдержкой из этого сборника в своих целях с одной лишь надеждой на то, что мне удастся заинтересовать читателя разбором каждого шага его анализа.
Умудренный жизненным опытом Шоу описывает молодого Шоу как "крайне несговорчивого и неприятного молодого человека", "склонного к дьявольским мыслям" и в то же время "страдающего от обыкновенной трусости и ужасно стыдящегося ее". "Истина состоит в том, – заключает он, – что все мужчины занимают в обществе ложное положение до тех пор, пока они не осознают свои возможности и не примерят их на своих соседей. Они измучены бесчисленными собственными недостатками; к тому же своим беспредельным высокомерием они раздражают окружающих. Это противоречие может быть разрешено путем признания успеха или неудач: каждый из нас г немного страдает, пока не найдет свое естественное место,
153
выше или ниже того уровня, который он занимал от рождения". Но Шоу всегда стремится освободиться от универсального закона, который он, сам того не желая, провозглашает, поэтому он добавляет: «Этот поиск своего места может иногда очень осложняться тем, что в обычном обществе нет места экстраординарным индивидам».
Шоу переходит к описанию собственного кризиса двадцати лет. Этот кризис был вызван не просто неудачей или же отсутствием определенной роли, а, напротив, избытком успеха и определенности: "Я добился успеха вопреки самому себе и с ужасом обнаружил, что Дело вцепилось в меня и не имеет намерения отпустить, вместо того чтобы изгнать меня как ничего не стоящего обманщика, каковым я на самом деле являлся. Поэтому я вижу себя двадцатилетним, обладающим деловой хваткой, занимающим должность, которую я ненавидел всем сердцем, как только может позволить себе нормальный человек ненавидеть что-то, от чего он не может избавиться. В марте 1876 г. я вырвался на свободу". Вырваться на свободу означало для него покинуть семью и друзей, дело и Ирландию и избежать таким образом опасности успеха, несоразмерного "чудовищности моих подсознательных амбиций". Он позволил себе удлинить интервал между юностью и взрослостью, который мы будем называть "психосоциальным мораторием". Он пишет: "Когда я покинул мой родной город, я оставил этот этап жизни позади и больше не ассоциировал себя с мужчинами моего возраста до тех пор, пока, после почти восьмилетнего одиночества, я не был вовлечен в социалистическое движение начала 80-х гг., весьма распространенное среди англичан, жгуче негодующих по поводу очень реального и очень основательного зла, поразившего весь мир". Между тем казалось, что он избегает удобных возможностей, понимая, что "за убеждением, что они могут не привести к тому, чего мне бы хотелось, лежит невысказанный страх, что они могут привести к тому, чего бы мне не хотелось". Эта профессиональная часть моратория подкреплена интеллектуальной: "Я ничего не могу знать о том, что не интересует меня. Моя память избирательна; она отвергает и выбирает; и ее выбор не является академическим… Я поздравляю себя с этим; я твердо убежден, что любая неестественная деятельность мозга также злонамеренна, как и любая неестественная деятельность тела… Цивилизация всегда разру-
154
шается, давая правящим классам так называемое среднее образование…"
Шоу учился и писал так, как он хотел, и именно это позволило появиться на свет экстраординарным произведениям экстраординарного человека. Он сумел отказаться от той работы, которую должен был бы выполнять, не бросая любимого дела: "Моя конторская выучка оставила во мне привычку регулярно что-нибудь делать как обязательное условие трудолюбия, противостоящего праздности. Я знаю, что не добился бы успеха, если бы не делал этого, и никаким другим путем я никогда не написал бы книги. Я покупал много белой бумаги среднего размера по 6 пенсов, складывал ее вчетверо и приговаривал себя заполнять по пять таких страниц в день, дождливый или солнечный, скучный или вдохновенный. Во мне было так много от школьника и клерка, что, если мои пять страниц кончались на середине предложения, я не заканчивал его до следующего дня. С другой стороны, если я пропускал день, назавтра я отрабатывал его вдвойне. В соответствии с этим планом я написал за пять лет пять романов. Это было моим профессиональным ученичеством".
Можно добавить, что эти пять романов не публиковались более пятидесяти лет, но Шоу научился писать так же, как работал, и ждать так же, как писал. Насколько важна была такая первоначальная ритуализация работы для внутренней стойкости молодого человека, можно понять из тех случайных замечаний, которые этот большой остряк почти застенчиво называет психологическими озарениями: "Мой взлет усилен приобретенной привычкой прекращать работу (я работал так же, как мой отец пил)". Таким образом, он указывает на это сочетание склонности и принуждения, которое лежит в основе многих видов патологии старшего подросткового возраста и некоторых достижений юности.
Шоу в деталях описал "алкогольный невроз" своего отца, находя в нем один из источников своего едкого юмора: "Это должно было стать либо семейной трагедией, либо семейной шуткой". Тем более, что его отец не был "ни веселым, ни сварливым, ни хвастливым, но был несчастным, измученным стыдом и угрызениями совести человеком". Между тем отец обладал "парадоксальным чувством юмора, которое я от него унаследовал и с максимальной эффективностью использовал, начав писать ко-
155
медии. Его парадоксы для полноты эффекта требовали от нас некоторой святости… Кажется предопределенным, что я пришел к пониманию сути религии в результате редукции всех ее искусственных или фиктивных элементов до максимально непочтительной абсурдности".
Самый бессознательный уровень Эдиповой трагедии представлен Шоу в некоем подобии сновидения, символизм которого напоминает "экранную память", когда одна сжатая сцена следует за другой, ей подобной:
"Мальчик, увидевший хозяина с небрежно завернутым гусем под мышкой и окороком в таком же виде в другой руке (оба куплены для Бог знает какого смешения праздников), колотящего по ограде, пытаясь найти калитку, и превращающего по ходу дела свой цилиндр в гармошку, вместо того чтобы сгорать от стыда и волнения за этот спектакль, настолько лишился от смеха (шумно разделяемого дядей по материнской линии) способности что-либо делать, что едва нашел в себе силы кинуться спасать шляпу хозяина и привести его в пристойный вид. Это был совсем не тот мальчик, который станет устраивать трагедию из пустяков, вместо того чтобы превратить ее в пустяк. Если вы не можете избавиться от семейного скелета, заставьте его хотя бы плясать".
Очевидно, что анализ психосексуального аспекта личности Шоу уходит корнями в символизм отцовской слабости.
Шоу объясняет падение своего отца посредством блестящего анализа социоэкономических условий его жизни. Отец был "вторым кузеном баронета, а моя мать – дочерью сельского джентльмена, в правилах которого было закладывать что-нибудь, попадая в трудную ситуацию. Это моя разновидность нищеты". Далее он заключает: "Сказать моему отцу, что он не может дать мне университетского образования, – это все равно что сказать, будто у него нет денег на выпивку или что я не смогу стать писателем. Оба утверждения справедливы; но он пил, а я стал писателем".
Свою мать он вспоминает в связи с "одним или двумя редкими и восхитительными случаями, когда она делала (для него) бутерброд с маслом. Она намазала масло толстым слоем, вместо того чтобы просто вытереть нож о хлеб". Большую часть времени, подчеркивает Шоу, она просто "принимала меня как естественное и привычное яв-
156
ление и считала само собой разумеющимся, что и в дальнейшем ничего не изменится". Должно было быть что-то, подкрепляющее этот вид обезличивания, так как, «точнее говоря, я должен сказать, что она была худшей матерью из всех мыслимых, но между тем никогда не способной на зло по отношению к любому ребенку, животному или растению или даже по отношению к любому человеку или чему-то подобному…». Это, по-видимому, нельзя считать ни избирательной привязанностью, ни следствием обучения: «Меня плохо воспитывали именно потому, что моя мать была слишком хорошо воспитана… В своем справедливом протесте против… принуждения и тирании, брани, запугиваний и наказаний, от которых она страдала в детстве… она достигла такого негативизма, что, за неимением заменяющей их идеи, провозглашала домашнюю анархию настолько, насколько это было возможно». В общем и целом мать Шоу была «абсолютно лишенной иллюзий женщиной… страдающей от бесконечно огорчающего ее мужа и трех неинтересных детей, слишком больших для того, чтобы можно было ласкать их как животных, что она очень любила, а также испытывающей постоянное чувство унижения из-за малости отцовского заработка».
На самом деле можно сказать, что Шоу имел трех родителей. Третьим был человек по имени Ли, который давал матери Шоу уроки пения и имел влияние как на весь уклад жизни семьи, так и на идеалы Бернарда. "Хотя он лишил моего отца главенствующего положения в доме, направлял активность и интересы моей матери, он был настолько погружен в свои музыкальные занятия, что между двумя мужчинами не было не только никаких разногласий, но даже и близких личных контактов; и, конечно же, не было неприязни. Поначалу его идеи поразили меня. Он сказал, что люди должны спать с открытым окном. Это нашло во мне отклик, и с тех пор я так и делаю. Он ел черный хлеб вместо белого: потрясающая эксцентричность".
Из многих элементов идентичности, вытекающих из столь запутанной картины, позвольте мне отобрать, сконцентрировать и назвать три.
Сноб
"По сравнению с другими английскими семьями, похожими на нас, мы обладали такой силой иронической Драматизации, которая заставляла греметь кости наших
157
семейных скелетов". По мнению Шоу, именно так «семейный снобизм сглаживается семейным чувством юмора». С другой стороны, «хотя моя мать и не была сознательным снобом, некоторая божественность, окружавшая ирландскую леди того времени, была неприемлема для ее английских провинциальных родителей, живших неподалеку от нее». Шоу «испытывал чрезвычайное презрение к фамильному снобизму» до тех пор, пока не обнаружил, что один из его предков был королем флейты: «Это так же хорошо, как происходить от Шекспира, в которого я с колыбели бессознательно пытался перевоплотиться».
Производитель шума
На протяжении всего детства Шоу одолевали грандиозные атаки музыкальных увлечений: в семье играли на тромбоне, виолончели, арфе и тамбурине и – самое ужасное – практически все пели. Наконец он и сам научился играть на фортепьяно, и делал это невероятно шумно. "Когда я вспоминаю грохот, свист, рев и рычание, извлекаемые мною из инструмента в процессе обучения и действовавшие на нервы соседям, меня начинают мучать совершенно бесполезные угрызения совести… Я почти свел с ума мою мать своими любимыми извлечениями из Вагнера, которые больше были похожи на речитатив и потому ужасно фальшивыми по звучанию. Тогда она не жаловалась, но спустя годы она призналась, что иногда ей хотелось плакать, слушая меня. Если бы я совершил убийство, я не думаю, что это слишком мучило бы мою совесть; но об этих словах матери я не мог спокойно вспомнить".
Таким образом, Шоу мог бы добиться успеха и на музыкальном поприще, в чем не желает признаваться. Вместо этого он становится музыкальным критиком, то есть одним из тех, кто пишет о шуме, производимом другими. В качестве критика он выбрал своим псевдонимом Бассетто – так называется инструмент, который едва ли кто-нибудь знал и который имеет настолько мягкое звучание, что "даже дьявол не смог бы заставить его греметь". Бассетто стал блестящим критиком, и более того: "Я не могу отрицать, что временами Бассетто бывал вульгарным; но это не имеет значения, если он заставляет вас смеяться. Вульгарность – существенная часть авторского
158
арсенала; ведь и клоун порой бывает лучшей частицей цирка".
Некто злой
В детстве будущий писатель испытывал сильное одиночество. Поэтому он выдумал себе друга для бесед. "В детстве я упражнял свой литературный дар, сочиняя собственные молитвы… Эти произведения нужны были для развлечения и умиротворения Всевышнего". В соответствии с семейной непочтительностью к религии набожность Шоу была весьма невысокой и очень рано превратилась в смесь "интеллектуальной честности и низкой морали". В то же время создается впечатление, что Шоу был (в несколько необычной форме) маленьким бесенком в образе ребенка. Во всяком случае, он не чувствовал идентичности с собой хорошим: "Даже когда я был хорошим мальчиком, это было только наигрышем, потому что, как говорят актеры, я видел себя в роли". "Когда природа завершила мое внешнее оформление в 1880 г. или около этого (до двадцати четырех лет у меня на лице был лишь нежный пушок), я обзавелся усами, бровями и саркастическими ноздрями опереточного дьявола, чьи песни я распевал в детстве и чьим идеям я поддавался в отрочестве. Позже, когда мимо меня прошли поколения, я начал понимать, % что выдумки воображения относятся к жизни так же, как скетч относится к картине или образ к статуе".
Так Дж.Б. Шоу более или менее определенно отслеживает свои творческие корни. Но это почти не имеет значения, так как то, кем он в конце концов стал, кажется ему столь же предопределенным от природы, как и стремление перевоплотиться в Шекспира, о котором говорилось выше. "Моя учительница, – писал он, – озадачивала меня своими попытками научить меня читать, ибо я не могу припомнить того времени, когда страница печатного текста была мне непонятна, и могу только предположить, что я родился грамотным". Между тем он задумывался о профессиональном выборе: "В качестве альтернативы стать Микеланджело я мечтал стать Бодлером (замечу, между прочим, что о литературе я вообще не думал, во всяком случае не больше, чем утка думает о плавании)".
Он также называет себя "прирожденным коммунистом" ("что, – спешит добавить он, – означает фабианский социалист") и пытается объяснить мир, который придет
159
с принятием того, что, как ему кажется, должно быть сделано; «прирожденный коммунист знает, где он находится и где находится то общество, которое так пугает его. Он лечится от своей болезненной робости…». Так «законченный аутсайдер» постепенно становится своеобразным «законченным инсайдом». «Я был, – говорил он, – вне общества, вне политики, вне спорта, вне церкви», но это все «в рамках британского варварства… Как только заходила речь о музыке, живописи, литературе или науке, моя позиция изменялась: я становился инсайдом».
Поскольку истоки этих черт своего характера Шоу относит к детству, он приходит к убеждению, что только изобретательность может собрать их воедино:
"Если я хочу полнее пояснить это, я должен добавить, что простая неопытность, которая так быстро проходит, была дополнена более глубокой странностью, которая в течение всей моей жизни делала меня скорее гостем на этой земле, чем ее жителем. Или же случилось так, что я родился сумасшедшим или слабоумным, и этот мир не был моим королевством: я был дома только в плане моего воображения и, для моего успокоения, слегка мертвым. Следовательно, я должен был стать актером и создать для себя фантастическую личность, способную иметь дело с людьми и приспосабливающуюся к различным ролям, которые я должен был играть как актер, – журналиста, оратора, политика, члена различных комитетов, человека мира и т.д.". "В этом, – подчеркивает Шоу, – я слишком хорошо преуспел в дальнейшем". Это утверждение является своеобразной иллюстрацией того смутного отвращения, с которым старики порой воспринимают ту безжалостную идентичность, которая приходит в юности, – отвращение, которое может вызвать смертельное отчаяние и необъяснимые психосоматические изменения.
Окончание своего юношеского кризиса Шоу резюмирует следующими словами: "У меня была интеллектуальная привычка, и мое природное сочетание критических способностей с литературными задатками требовало только четкого понимания жизни в свете ясной теории, а точнее, религии, чтобы включить ее в триумфальное действие". Здесь старый циник в одном предложении обрисовал, к чему должна стремиться идентичность любого человека. Переведем это в понятия, более удобные для нашего обсуждения и более сложные: для того чтобы занять место
160
в обществе, человек должен признать «свободу выбора», привычку использовать доминирующие способности, иметь некоторый опыт в данной области, неограниченность ресурсов, наличие обратной связи от этих занятий, от общения, которое они предоставляют, и от их традиций и, наконец, ясную теорию жизни, которую старый атеист, стремящийся шокировать до конца, называет религией, фабианский социализм, к которому он в действительности повернул, – это скорее идеология, общий термин, которого мы будем придерживаться по причинам, которые станут понятными в конце этой главы.
2. Уильям Джемс, свой собственный психиатр
На протяжении всей жизни У. Джемса весьма занимало то, что впоследствии было названо "патопсихологией". В юношеском и более зрелом возрасте он очень страдал от острого эмоционального напряжения, тщетно пытаясь избавиться от него при помощи различных лекарств. Его письма свидетельствуют о том, что его также интересовали кризисы, переживаемые его друзьями. Советы, которые он давал им, со всей очевидностью обнаруживали остроту его борьбы за собственное здоровье. Более того, он принимал участие в споре о возможности исцеления религией. И наконец, он очень много сделал для появления различных направлений в психиатрии, среди которых было и фрейдистское, автор его приезжал в США в 1907 г. Хотя сам Фрейд произвел на него впечатление человека, одержимого идеей-фикс (Джемс говорил впоследствии, что ему не удалось помочь себе, пользуясь теорией сновидений Фрейда, как и многим более или менее интеллектуальным людям до и после него), он тем не менее выражал надежду на то, что Фрейд и его ученики будут продолжать свои исследования.
В дальнейшем я процитирую несколько наиболее значимых высказываний Джемса, взятых не из его теоретических трактатов, а из его личных признаний, в которых он дает жизненную характеристику затянувшегося "кризиса идентичности".
Уильям Джемс, как отмечает Мзттиссен, "крайне медленно приближался к зрелости"2. В возрасте двадцати шести лет он писал Вэндел Холмс: "Я много бы отдал за любое творческое увлечение". Сегодня мы вновь и вновь
161
11-798
обнаруживаем подобную жалобу со стороны студентов колледжа; однако в истории жизни Джемса сомнения и задержка были обусловлены, по мнению Мэттиссен, фанатичной требовательностью его отца к бытию, что весьма осложнило его детям поиски своего места в жизни (хотя по крайней мере двое из них, несомненно, достигли высокого мастерства в своем деле). Я подчеркиваю это потому, что сегодня все чаще молодые люди не находят себя, выбирая какое-либо дело только ради карьеры. Чувство бытия при этом еще не является достаточным для того, чтобы придать голым амбициям вид индивидуальности или следствия общинного духа.
Мы не будем здесь останавливаться на личности или родительских установках отца Уильяма Джемса, сэра Генри Джемса, который вследствие дряхлости и болезней все дни проводил дома, отравляя жизнь близких тиранией либерализма и считая школу утопией. Ни один вопрос не решался без ведома отца. Я также не могу проследить здесь тот процесс, в результате которого поздняя философия Джемса стала одновременно продолжением и разрушением отцовского вероучения.
В наибольшей степени наше внимание привлекает затянувшийся "кризис идентичности", который привел Уильяма из мира искусства в мир науки и медицины и из Кембриджа (Массачусетс) на Амазонку и в Европу, а затем опять в Кембридж. Почти до тридцати лет Джемс прожил в доме своего отца, испытывая острый дискомфорт от европейской жизни, а затем принял предложение президента Элиота, который и раньше отмечал его способности, преподавать анатомию в Гарварде. Между тем болезнь Джемса можно было сравнить с болезнью Дарвина – в плане ограничения активности и ассоциаций, – оставляющей лишь узкую дорожку интересу и активности. И даже через такую узкую "щель" эти люди с уверенностью лунатиков находят свою конечную интеллектуальную и социальную цель. В случае Джемса дорога вела от художественного наблюдения через натуралистическое понимание и постижение физиологом функционирования организма к многосторонней восприимчивости изгнанника и, наконец, через самопознание и эмпатию к психологии и философии. Джемс отмечает: "Сначала я изучал медицину, чтобы стать физиологом, но судьба привела меня к психологии и философии. У меня не было никакого фи-
162
лософского образования, а первой услышанной мною лекцией по психологии была первая прочитанная мною лекция".
В своей работе "Многообразие религиозного опыта" Джемс дал, несомненно, автобиографическое описание состояния, которое он назвал "худшим видом меланхолии", о котором ему как будто бы сообщил "молодой француз":
"Пребывая в состоянии философского пессимизма и общей депрессии относительно моих изысканий, однажды вечером в сумерках я отправился в прихожую, чтобы взять одну статью, находившуюся там; неожиданно, без всякого предупреждения, как если бы он вышел из темноты, на меня накинулся ужасный страх моего собственного существования… Это было подобно открытию; и хотя внезапное чувство прошло, с тех пор я стал весьма чутким к болезненным чувствам других… Я боялся оставаться один. Мне кажется удивительным, как другие люди могут жить, как жил я сам, не сознавая этой ямы незащищенности под поверхностью жизни. Например, моя мать, очень веселый человек, казалась мне загадкой из-за ее нечувствительности к опасности, которую, можете мне поверить, я старался не тревожить своими открытиями. Мне всегда казалось, что моя меланхолия имела религиозные корни… Я имею в виду следующее: страх был настолько захватывающим и сильным, что, если бы я не цеплялся за тексты Священного писания типа: "Вечный Бог – мое пристанище", я думаю, я вырос бы по-настоящему безумным"3.