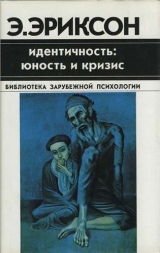
Текст книги "Идентичность: юность и кризис"
Автор книги: Эрик Эриксон
Жанр:
Психология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 23 страниц)
234
вить и сохранить через объединенную организацию максимум свободной от конфликтов энергии во взаимно поддерживающем социальном равновесии. Только такая организация является подходящей, чтобы дать устойчивую последовательную поддержку развитию многих «эго» растущих и выросших людей на каждой возрастной стадии.
Потому что, как было показано в гл. III, старшее поколение столь же нуждается в младшем, сколь младшее зависит от старшего, благодаря силе "эго" каждого поколения. Очевидно, что в сфере этой взаимности побуждений и интересов "эго", на всем протяжении развития старшего, так же как и младшего поколений, именно такие несомненные базисные и универсальные ценности, во всей их компенсирующей энергии и защитной силе, становятся важными объединяющими достижениями развития индивидуального "эго" и "группового эго" – и таковыми остаются. Фактически (именно это начинает обнаруживаться в наших клинических историях) указанные ценности обеспечивают необходимую поддержку для развития "эго" подрастающих поколений тем, что они придают некоторое специфическое надындивидуальное постоянство родительскому поведению, хотя различные виды постоянства – включая постоянное непостоянство – меняются в зависимости от систем ценностей и типов личности.
Только общественные процессы, репрезентирующие множественную взаимную зависимость, будут воспроизводить "среднеожидаемые" окружения или через ритуальное переосвящение, или через систематическое переформулирование. В обоих случаях избранные или выделившиеся самостоятельно лидеры и элиты считают необходимым всегда вновь демонстрировать убедительную, "харизматическую" генерализованную генеративность, то есть надличностные интересы в сохранении и восстановлении социальных институтов. В истории некоторые такие лидеры отмечены как "великие"; они, по-видимому, способны из глубочайших личностных конфликтов извлекать энергию, которая удовлетворяет особую потребность их времени в новом синтезе превалирующего образа мира. Во всяком случае, только через постоянное переосвящение социальные институты получат активные и вдохновенные вклады новой энергии от молодых членов общества. Научно это можно
235
сформулировать так: только посредством сохранения полного соответствия между ценностями общества и основными кризисами развития «эго» можно выяснить, справится ли общество с тем, чтобы иметь в распоряжении своей особой групповой идентичности максимум свободной от конфликта энергии, накапливаемой из кризисов детства своих молодых членов. Остается лишь заключить, что функционирующее «эго», хотя и охраняет индивидуальность, вовсе не изолировано, поскольку определенная общинность соединяет множество «эго» в их взаимной активации. В таком случае ясно, что нечто в процессах «эго» и нечто в социальных процессах вполне идентично11.
5. Теория и идеология
В изучении отношения "эго" к изменяющейся исторической реальности психоанализ подходит к новой армии бессознательных сопротивлений. В природе психоаналитического исследования имплицитно заложено, чтобы такие сопротивления локализовались и оценивались наблюдателями, в привычных для них представлениях, до того, как их наличие у наблюдаемого могло быть понято и подвергнуто лечению. Тогда изучающий инстинктивность человека психоаналитик может понять, что и его стремление изучать также отчасти инстинктивно по своей природе. Он знает, что он реагирует частичным контрперенесением на перенесение пациента, то есть что из-за особых причин, коренящихся в нем самом, он может потакать неясному желанию пациента удовлетворить инфантильные побуждения в той самой терапевтической ситуации, которая должна была бы излечить его от них. Аналитик признает все это и все же методически работает с тем, чтобы достичь той границы свободы, где ясное видение неизбежного делает сопротивления излишними и высвобождает энергию для творческой работы.
Общим местом является, далее, и то, что психоаналитик должен сознавать исторические детерминанты, сделавшие его тем, что он есть, прежде чем он может надеяться совершенствовать человеческий дар понимания того, кто отличается от него самого.
Новый здравый смысл, освещающий новую тенденцию самоанализа психоаналитика, был знаком прогресса всю-
236
ду, где эта новая понятийная тенденция становилась частью психоаналитической практики. Если я серьезно полагаю, что психосоциальная точка зрения может стать частью психоаналитических интересов, я должен также рассмотреть возможность того, что специфические сопротивления могли быть ранее уже включены в способ такого инсайта и только природа инсайта сопротивляющегося человека может указать на природу сопротивления. Тогда это выражало бы отношение профессиональной идентичности поколения наблюдателей к идеологическим тенденциям их времени.
Вопрос "допустимости" социального рассмотрения имел бурную историю в "официальном" психоанализе со времени публикации работы Альфреда Адлера, и нельзя было избавиться от ощущения, что этот вопрос был и остается столь же идеологическим, сколь и методологическим. По-видимому, на карту было поставлено, с одной стороны, хранимое как сокровище допущение Фрейда, что психоанализ мог бы быть наукой, подобно любой другой, и не иметь иного взгляда на мир (a "Weltanschauung"), чем тот, который есть в естественных науках, и, с другой стороны, устойчивое убеждение многих наиболее одаренных психоаналитиков младшего поколения, что психоанализ как критика общества должен соединять революционную ориентацию, которая в Европе сплотила многие наиболее оригинальные умы. За этим стоит скорее полярное противопоставление Маркса и Фрейда, возникшее в результате внутреннего антагонизма между их взглядами, как если бы они реально были представителями тех двух взаимно исключающих идеологий, которыми, до последней запятой, они действительно вначале являлись, доказательством чего служит то, что каждый из них полностью исключает другого до такой степени, что догматически игнорируются довольно очевидные общие интересы и представления.
Кажется, что, в конце концов, некоторые из наиболее жгучих и неподатливых ответов на вопросы, что есть или чего нет в природе психоанализа, порождают другой совершенно неотложный вопрос, а именно: чем психоанализ должен быть, или оставаться, или стать для отдельного исследователя, так как особый образ мира необходим для
237
его идентичности как человека, профессионала и гражданина?
Итак, психоанализ предоставил богатые возможности для целого ряда профессиональных идентичностей. Он дал новые функции и сферу деятельности таким различным устремлениям, как натуральная философия и талмудическая аргументация, медицинские традиции и миссионерское обучение, литературная иллюстрация и построение теории, социальная реформа и зарабатывание денег. Психоанализ как движение дал убежище целому ряду образов мира и утопий, истоки которых обнаруживаются на разных стадиях его истории в различных странах. Это, я думаю, необходимое требование для человека, который, чтобы быть способным эффективно взаимодействовать с другими людьми, и особенно если он хочет лечить и учить, должен время от времени создавать целостную ориентацию из определенной стадии частичного знания. Некоторые ученики Фрейда, таким образом, обнаруживали, что их идентичность лучше всего подтверждается в отдельных его тезисах, которые обещали особую психоаналитическую идеологию и вместе с этим устойчивую профессиональную ориентацию. Подобным же образом преувеличенные антитезисы к некоторым пробным и преходящим тезисам Фрейда служили догматическими основами для профессиональной и научной ориентации других исследователей, работающих в этой сфере. Так новые "школы" приводят к необратимым системати-зациям, которые ставят себя вне аргументации или самоанализа.
Когда я оглядываюсь назад, на свои первые шаги в качестве психоаналитика иммигрантов в этой стране, я начинаю запоздало осознавать еще один идеологический фактор в истории диаспоры психоанализа. Мне был дарован моими пациентами род моратория, в течение которого я мог замазывать мое полное невежество в английском языке (не говоря уже о всех тех разговорных нюансах, которые только и выражают окружение пациента) и мог упорно цепляться за представление, что то, о чем говорили книги, подходило для любого человека, где бы он ни находился, и что, чем больше бессознательного, тем лучше.
Теперь я понимаю, что в этом пациенты (и кандидаты в пациенты) вступали в сговор со мной, поскольку я пред-
238
ставлял интегрированную систему убеждений, которая обещала заменить хрупкие остатки ортодоксальных воззрений их отцов и дедов (все равно – религиозных или политических). Если я сумел присоединиться к некоторым из моих американских друзей в их убедительном культурном релятивизме и мог научиться видеть культурные различия, это, несомненно, было обусловлено специальной мотивацией, коренящейся "в моей собственной истории жизни, которая сделала меня маргинальным относительно семьи, нации, религии и профессии и подготовила меня к чувству дома в иммигрантской идеологии.
Это, по– видимому, довольно личностный способ завершения некоторых теоретических замечаний. Однако я стараюсь не делать эти вопросы "относительными", но скорее внести в них необходимую социальную и историческую относительность. Меньше всего я хочу пренебречь подлинной идеологической силой и источником вдохновения, которые исходят из теоретических и технических догматов психо-анализа Фрейда. Как раз потому, что некоторые из психоаналитических "ревизионистов", по-моему мнению, воспользовались ненужными шансами (нудно обсуждая как научные те различия, которые были идеологическими), я не был способен много думать над вопросом о том, насколько мои методологические и терминологические предложения могут или не могут соответствовать их предложениям. Для меня наиболее важным было продвигать мое учение в психоаналитические институты маленькими шагами, не отказываясь от наших уникальных идеологических основ. Часто самое лучшее место для работы -уединенные места – "катакомбы", и многие из нас испытывают ностальгию по дням, когда мы сидели и учились в социальной и академической изоляции. Такая изоляция была некогда почти духовным условием для истинно творческой идеи, психотерапевтической идеи, которая приглашала пациента вступить в чрезвычайно требовательный психотерапевтический процесс, посредством которого и он, и психоаналитик наблюдали бы феномены и законы интернализованного мира, укрепляя одновременно таким образом и внутреннюю свободу, и внешний реализм. Мне нравится думать, что мы еще делаем для этого все, что в наших силах. А в наших силах следующее: когда пациент оказывается именно та-
239
кого типа, то есть способным в результате объединить в себе внутреннюю свободу и внешний реализм, мы, психотерапевты, получаем удовлетворение от осознания возможностей нашего метода. Говоря о человеке такого типа, я на самом деле имею в виду человека, обладающего идентичностью, так как психоанализ заранее предполагает не только общность наблюдения у психотерапевта и пациента, но также силу и руководство психотерапевтической идеологии, которая делает такую общность плодотворной для обоих. Это порождало в поколениях исследователей невообразимую интеллектуальную энергию, но это также предполагает, что процесс поддерживается и что аналитик и пациент (а также обучающийся анализу и тот, кто хотел бы обучаться) не становятся зависимыми от общего догматического заговора, рассматривающего только ту реальность, которая оказывается соответствующей прошлому идеологическому состоянию теории и особой локальной или региональной тенденции в политической организации самого психоанализа.
Существует еще одна работа, производимая в сфере, которая может дальше развиваться только посредством становления сознания своей собственной истории. Каждый психологический термин, касающийся центральной человеческой проблемы, первоначально усвоен с идеологическими коннотациями, которые простираются от того, что Фрейд назвал "возрастными идеологиями "супер-эго" до влияния современных идеологий. И то и другое, конечно, быстро вытеснялось в тех случаях, когда термин становился привычным и ритуализированным, особенно в различных языках. Возьмем само по себе "супер-эго": немецкое "Ueber" может иметь значение ("Ueber alien Wipflen…"), совершенно отличное от английского "Super" ("Superjet" – сверхзвуковой реактивный самолет). Относительно небольшая группа исследователей может, конечно, договориться о том, что означает термин, особенно когда описывает его, противопоставляя другим предметам, таким, как "ид" и "эго". Но когда область расширяется, отдельные исследователи и группы исследователей приписывают новые значения каждому термину в соответствии со своим собственным прошлым и настоящим. Как я неоднократно показывал, наиболее фундаментальное из наших терминов, "Trieb", и его прилага-
240
тельное «Triebhaft» имели в своем первоначальном употреблении натурфилософское качество облагораживания, а также естественную силу («die suessen Triebe» – «сладкие побуждения»), по словам немецкого поэта, а по мнению стойких физиологов – «силу достоинства»; по этой причине, в добавление к причинам экономии, Фрейд был вынужден чрезвычайно сдерживаться, чтобы не приписывать новые «базисные» элементы к Олимпу Triebe. Другие (американские) психологи могли представлять себе длинные списки побуждений с маленькой буквы "d", цель которых состояла в подтверждении, а не в мифологическом убеждении.
Аналогично "die Realitaet", посредством того факта, что оно могло быть использовано с артиклем, было почти персонализированной силой, сравнимой с Ananke, или Роком, и предусматривало намного больше, чем разумное приспособление к фактически существующей реальности. "Реальность" сама по себе – один из терминов, искажающихся при использовании, так как он может означать образ мира, обоснованный как реальный всеми, кто, сообща и жертвуя своими интересами, пользуется разумом, чтобы установить то, с чем можно единодушно согласиться, и жить в соответствии с этим. Тогда как во многом реальность означает сумму всего, что можно сделать безнаказанно, без ощущения крайней греховности или вступления в конфликт (которого можно избежать) с правилами и инструкциями, поскольку они пишутся для того, чтобы проводиться в жизнь. Вероятно, наиболее уязвимыми к изменению смыслов является термин, производный от "эго"; для некоторых это полностью не утративший одиозности "эготизм", для других – "эгоцентричность" (в то время как для многих он остается качеством закрытой системы в процессе внутренней трансформации). Наконец, это термин "механизм".
Когда Анна Фрейд говорит: "На протяжении всего детства действует процесс созревания, который в обслуживании возрастающего знания и адаптации к реальности стремится к совершенствованию ("эго") функций, к превращению их во все более и более объективные и независимые от эмоций, до тех пор пока они не станут такими же точными и надежными, как механические аппараты"12 – она описывает тенденцию, которая более чем в
241
16-798
одном смысле у «эго» является общей с нервной системой и мозгом (поэтому человек может создавать машины), но она, конечно, не имеет в виду защиту механической адаптации как цель человеческой жизни. Фактически ее «механизмы защиты», хотя и являются весьма необходимой частью психической жизни, заставляют личность находиться под влиянием их бедности и стереотипности. И все же там, где человек чрезмерно идентифицируется со своими механизмами, он может захотеть стать (и заставить стать других) более управляемым посредством нахождения однородных методов механического приспособления. Резюмируя, я не отрицаю, что можно согласиться с тем, что термин означает логически. Не надо спрашивать, не защищаю ли я (Боже избави!) такое положение, при котором социальные науки должны избегать наводящих на богатые размышления терминов. Но я указываю, что сознательное изменение смыслов большинства важнейших терминов – одно из требований «самоаналитической» психосоциальной ориентации.
Затем, говоря о научном доказательстве и научном прогрессе в области, которая непосредственно имеет дело с ближайшими потребностями людей, необходимо учитывать не только методологические, практические и этические факторы, но также необходимость профессиональной идеологии. По этой причине психоаналитическое обучение будет вынуждено касаться ряда образований профессиональной идентичности, тогда как теоретическое обучение должно освещать также идеологическую основу главных различий в том, что переживается как наиболее практическое, наиболее истинное и наиболее верное на различных стадиях развивающейся области. Если бы здесь, кажется, потребовалось другое универсальное сопротивление, а именно сопротивление идентичности, по аналогии с сопротивлениями "ид" и "супер-эго", я повторил бы в заключение, что все, относящееся к идентичности, более близко к историческому времени, чем другие соперники "эго". Этому типу сопротивления, затем, может противодействовать не только дополнительное напряжение при психоанализе индивида, но, сверх всего, объединенное усилие заново применить прикладной психоанализ к самому психоанализу.
242
Я могу добавить, что полностью сознаю факт, что при следовании в новом направлении обнаруживается тенденция держаться одностороннего курса, временно игнорирующего исхоженные и альтернативные направления, предлагаемые в других первопроходческих работах. Но встает важнейший теоретический вопрос: приведет ли новое направление к новым наблюдениям?
Глава VI
К современным проблемам: юность
Общественные и человеческие пороки обычно изображались и в учебниках, и в беллетристике в жанре социальной критики, часто питающей самое себя. Когда молодежь видит, как ее, так сказать, "прославляют" в mass media, ее чувству идентичности остается ценить лишь ту энергию, которой она обладает по крайней мере как признаком жизни. Но я считаю необходимым – по причинам отнюдь не пропагандистским – спросить себя, что должно быть брошено на чашу весов, для того чтобы расценить какой-либо феномен либо как психопатологию (которую мы научились распознавать), либо как позитивную цель, встроенную в каждую стадию развития. "Позитивное" во многих сферах часто предполагает иллюзорный уход от отвратительной реальности; но разве это не часть любой клинической установки – требование изучить "натуру", которую, с нашей терапевтической помощью, следует сделать "курабель-ной"? Я уже указывал в гл. III, что намерен определить для каждой стадии ее собственную витальную силу, а для всех стадий – эпигенетическую систему таких сил, которые создают человеческую (а здесь это означает родовую) витальность. Если я решительно назвал эти силы базисными добродетелями, то сделал так для того, чтобы показать, что без них всем другим ценностям и добродетелям недостает витальности. Моим оправданием в применении именно этого слова было то, что значение его некогда имело дополнительный оттенок прирожденной силы и активного качества: например, когда лекарство или питье выдыхались, говорили, что они остались "без добродетели". В этом смысле, я думаю, можно употреблять также термин "витальные достоинства", чтобы вызвать смысловые ассоциации с определенными качествами, которые, распространяясь, начинают воодушевлять человека на протяжении сле-
244
дующих одна за другой стадий его жизни. Самая первая и наиболее базисная – надежда.
Однако применение такого термина для осмысления качества, возникающего из взаимодействия индивидуального развития и социальной структуры, воскрешает в сознании многих читателей "натуралистическое заблуждение" – наивную попытку приписать эволюции интенцию развития у человека определенных типов украшающих добродетелей. Все же такие новые концепции, как Uniwelt этологов, подразумевают оптимальное отношение врожденных потенций к структуре окружения. И даже если человек – создание, которое приспосабливается к разнообразию окружающих условий или, скорее, склонно изменять себя и эти условия согласно своим собственным измышлениям, он тем не менее остается созданием, развивающимся по определенным жизненным циклам, которые задают тип модифицируемого окружения, а это в свою очередь задает потенциал постоянно обновляемой витальной адаптации. Если эта витальная адаптация является частью такого развивающегося приспособления, то человек может заболеть и выздороветь таким способом, который никто не мог бы назвать естественным^ он способен также к диагностике и лечению, критике и изменению. Последние в свою очередь опираются на ревита-лизацию силы, возрождение ценностей, восстановление продуктивной мощи. Я считаю ревитализацию силы родовым принципом цикла жизни, увековечивающим ряд витальных добродетелей – от надежды в младенчестве до мудрости в старости. Относительно юности и вопроса о том, что находится в центре ее наиболее страстных и беспорядочных стремлений, я сделал вывод, что верность – это та витальная сила, в которой нуждается юность, чтобы стремиться к чему-то, бороться за что-то и за что-то умереть. Сделав такое "базисное" утверждение, я могу только повторить некоторые из представленных ранее вариаций на темы юности, для того чтобы понять, действительно ли верность обнаруживается во всех проявлениях юности.
Я не буду здесь рассматривать другие стадии жизни и специфические силы и слабости, вкладываемые каждой в ненадежную адаптацию человека, но хочу еще раз бросить беглый взгляд на стадию жизни, которая непосредственно предшествует юности, – школьный возраст, – а затем вернуться к юности самой по себе.
245
Школьный возраст, который вторгается между детством и юностью, застает ребенка, до того всецело поглощенного игрой, готовым, желающим и способным обучаться элементарным умениям, необходимым для подготовки к овладению инструментами и орудиями, символами и понятиями его культуры. К тому же этот возраст застает его страстно стремящимся к тому, чтобы реализовать подлинные роли (предварительно проигранные), которые обещали ему возможное признание в рамках специализаций и технологий его культуры. Я хотел бы сказать далее, что умелость – особая сила, возникающая у человека в школьном возрасте. Однако все, что человек приобретает – стадия за стадией – в течение детства, оставляет метку инфантильного опыта на самых горделивых его достижениях. Так же как возраст игры завещает всем жизненным целям и стремлениям человека качество грандиозной иллюзии, так и школьный возраст оставляет в человеке любовь ко всему, «что работает».
Когда школьник присваивает способы, он также позволяет способам присвоить себя. Рассматривать как хорошее только то, что работает, чувствовать себя признанным, только если вещи работают, управлять и быть управляемым может стать доминирующим наслаждением и ценностью. И с тех пор как технологическая специализация является подлинной частью человеческой орды, или рода, или системы и образа мира культуры, гордость человека за орудия, которые работают с материалами и животными, распространяется на оружие, которое работает против других людей, так же как и против других видов. Что это может пробуждать холодное коварство, так же как и неизмеримую жестокость, редкую в мире животных, обусловлено, конечно, комбинацией событий развития. Среди них нас больше всего будет интересовать (поскольку она выходит вперед в течение юности) потребность человека соединять технологическую гордость с чувством идентичности: начиная с инфантильного опыта, усиленный технологической гордостью смысл личной тождественности медленно нарастал, и эта тождественность испытывалась в столкновениях с постоянно расширяющейся общностью.
У людей есть еще одна потребность, не присущая больше ни одному природному виду и не существующая у человечества в целом, – это потребность чувствовать, что
246
они представляют некоторый особый род (клан или нацию, класс или касту, семью, профессию или тип), чьи знаки отличия они будут носить с тщеславием и убежденностью и защищать (наряду с экономическими требованиями и т.п.) от других, иностранных, враждебных и уже поэтому как бы не вполне человеческих родов. Таким образом, получается, что молодые люди могут применить все свои умения, которыми они гордятся, в борьбе с другими людьми, и даже те, кому не откажешь в разумности и цивилизованности, убеждены, что с моральной точки зрения они не могли бы поступить иначе.
Наша цель, однако, не рассуждать о легкости искажения и продажности морали человека, но определить, что представляют собой те сущностные добродетели, которые – на этой стадии психосоциальной эволюции – требуют нашего пристального внимания и этической поддержки: антиморалистам, как и моралистам, легко проглядеть наличие в природе человека основания для нравственной силы. Как мы указывали, верность есть та добродетель и качество силы подросткового "эго", которая принадлежит к эволюционному наследию человека, но которая – подобно всем базисным добродетелям – может возникать только во взаимодействии стадии жизни с индивидами и социальными силами истинной общности.
Основания верности молодые люди ищут в чем-то или в ком-то, что является безусловно истинным, – это можно видеть в различных стремлениях, как санкционируемых, так и не санкционируемых обществом. Этот поиск истинного часто прячут за приводящим в недоумение сочетанием меняющейся преданности и внезапной порочности, временами более преданно порочной, временами более порочно преданной. И все же при всей видимой неустойчивости юности молодежь постоянна в этом поиске истины всюду и во всем: в точности научного и технического метода и в искренности повиновения; в достоверности исторических и беллетристических описаний и в честности игры; в подлинности художественного произведения, высокой точности репродукции и в истинности убеждений, надежности обязательств. Эти поиски легко понять неправильно, и часто они только смутно ощущаются самим индивидом, так как юность, всегда готовая постичь как разнообразие в принципе, так и принцип в разнообразии, должна часто испыты-
247
вать крайности, прежде чем принять взвешенное решение. Эти крайности, особенно во время идеологической сумятицы и широко распространенной маргинальности идентичности, могут включать в себя не только мятежные, но также девиантные, делинквентные и саморазрушительные тенденции. Однако все это может быть в природе моратория периода замедления, суть которого – подвергнуть испытанию нижний предел некоторой правды, перед тем как вверить силы тела и души части существующего (или грядущего) порядка, подчиниться существующим в обществе законам. Лояльность, законопослушность – опасное бремя, если только оно не взваливается на плечи с чувством независимого самостоятельного выбора и не переживается как верность. Развивать это чувство – совместная задача последовательности истории жизни индивида и этического потенциала исторического процесса.
Обратимся к одной из трагических пьес Шекспира. Может быть, она поможет нам понять стихийную природу кризисных отношений человека. Говоря о кризисе Гамлета, давайте не забудем, что "ведущие семейства" небес и истории некогда персонифицировали гордость человека и трагическую невозможность. Принцу Гамлету больше двадцати; некоторые скажут – немного больше, другие – намного больше. Мы скажем, что он в середине своего третьего десятилетия, когда молодость уже не юность, и он готов лишиться своего моратория. Мы застаем его в трагическом конфликте – невозможности следовать единственному принципу, диктуемому одновременно его возрастом и его полом, его позицией и его исторической ответственностью: королевскому отмщению.
Попытка прояснить способность Шекспира проникнуть в сущность одного из "возрастов человека" покажется предосудительной знатокам драматического искусства, особенно если она предпринята профессиональным психологом. Все остальные интерпретируют Шекспира в свете преобладающей в обычных условиях наивной психологии (как мог он поступить иначе?). Я не буду пытаться, однако, решить загадку непостижимой натуры Гамлета хотя бы потому, что верю, что его непостижимость является его натурой. Я достаточно предупрежден самим Шекспи-
248
ром, который позволяет Полонию говорить, подобно карикатуре на психиатра:
И вот мне кажется – иль это мозг мой Утратил свой когда-то верный нюх В делах правленья, – будто я нашел Источник умоисступленья принца*.
Решение Гамлета играть душевнобольного – секрет, который публика делит с ним с самого начала, но не освобождается от чувства, что он находится на грани соскальзывания в состояние, которое симулирует. "Его сумасшествие, – говорит Т.С. Элиот, – меньше, чем сумасшествие, и больше, чем притворство".
Если сумасшествие Гамлета – больше, чем притворство, оно отягчено по крайней мере пятикратной привычной меланхолией, интровертированностью личности, тем, что он датчанин с острым ощущением скорби и любви. Все это делает вполне правдоподобной регрессию к Эдипову комплексу, которая постулируется Эрнстом Джонсом в качестве основной темы "Гамлета", так же как и многих других великих трагедий1. Другими словами, Гамлет не может простить недавнюю незаконную измену матери, потому что он не был способен как ребенок простить ее за то, что она вполне законно изменила ему с отцом, но в то же самое время он не способен отмстить за недавнее убийство отца, потому что как ребенок он сам предавал его в фантазиях и желал, чтобы тот ушел с пути.
Поэтому он беспрестанно откладывает – до тех пор, пока не уничтожает виноватого вместе с невинным, – смертную казнь своего дяди, которая одна освободила бы призрак его любимого отца от рока существования:
На некий срок скитаться осужденный^ Ночной порой, а днем гореть в огне**.
Никакая публика, однако, не могла избежать чувства, что Гамлет – человек исключительный и что он действительно опережает правовые понятия своего времени, которые разрешали ему отмстить без колебаний.
*Ш е к с п и р В. Гамлет. Акт II. Сцена 2. Пер. М. Лозинского/ /Ш е к с п и р В. Собр. соч.: В 8-ми тт. Т. б. М., I960. С. 47. **Ш е к с п и р В. Гамлет. Акт I. Сцена 4. Пер. Б.Л. Пастернака. М., 1953. С. 247.
249.
Неизбежно еще одно предположение, а именно то, что в личности Гамлета проявляется нечто от драматурга и актера, поскольку там, где другие ведут за собой людей и изменяют курс истории, он, размышляя, передвигает характеры на подмостках (пьеса внутри пьесы); короче, там, где другие действуют, он «ломает комедию». И действительно, Гамлет, говоря исторически, мог бы символизировать преждевременного лидера, мертворожденного мятежника. Вместо этого он – болезненный молодой интеллектуал своего времени, ибо разве не он недавно вернулся домой, отучившись в Виттенберге, рассаднике гуманистической порчи, который являлся для его времени аналогом Афин, когда там расцветал софизм, и современных центров учения, наводненных экзистенциализмом, психоанализом или чем-нибудь еще похуже?






