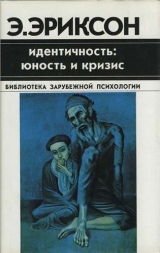
Текст книги "Идентичность: юность и кризис"
Автор книги: Эрик Эриксон
Жанр:
Психология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 23 страниц)
Тому, что я некогда назвал "эго-идентичностью", следовало бы быть даже еще ближе к меняющейся социальной реальности, поскольку оно должно было испытывать, отбирать и интегрировать в свете идеологической атмосферы
220
юности те образы "я", которые проистекали из психосоциальных кризисов детства. Можно сказать, что, в то время как представления «эго-идеала» репрезентируют установку стремиться-к-никогда-не-достижимым-полностыо идеальным целям для "я", «эго-идентичность» характеризуется по действительно достигаемому, но всегда-пересматриваемому чувству реальности "я" в социальной реальности.
Однако при применении слова "я" в смысле саморепрезентации Хартмана открываются возможности для радикального обсуждения этой терминологии. "Эго", если его понимать как центральный и частично бессознательный организующий фактор, должно на любой данной стадии жизни иметь дело с меняющимся "я", требующим синтеза с теми "я", которые остаются в прошлом, и теми, которые предвосхищаются в будущем. Это предположение, видимо, применимо к телесному "эго", про которое можно сказать, что оно является частью "я", обеспечиваемой опытом тела, и поэтому более точно могло быть названо "телесное "я". Предположение может быть отнесено и к "эго-идеалу" как представителю идей, образов и форм, которые обслуживают постоянное сравнение с "идеальным "я". Это предположение, наконец, следовало бы применить и к части того, что я назвал "эго-идентичностью", а именно той, которая состоит из ролевых образов. То, что могло быть в результате названо "я-идентично-стью", возникает из жизненного опыта, в процессе которого временно спутанные "я" успешно реинтегрируются в ансамбль ролей, также гарантирующих социальное признание. Таким образом, можно сказать, что структура идентичности имеет "я-аспект" и "эго-аспект".
"Эго– идентичность", далее, -это результат синтезирующей функции на одной из границ "эго", а именно границе с "окружением", каким является социальная реальность, как она передается ребенку в течение следующих один за другим кризисов детства. В этой связи идентичность следует признать наиболее важным достижением подросткового "эго", поскольку оно помогает одновременно и в сохранении постпубертатного "ид" и в приведении в равновесие по-новому призываемое в это время "супер-эго", а также в умиротворении часто довольно возвышенного "эго-идеала" – все в свете возможности предвидеть будущее, структурированное по идеологическому образу
221
мира. Можно в таком случае говорить об «эго-идентично-сти», когда обсуждается синтезирующая функция «эго» и «я-идентичности», когда обсуждаются образы "я" и ролевые образы индивида.
Возможно, именно здесь уместно кратко обсудить, почему я отказался от ранее использовавшегося мной термина "диффузия идентичности", заменив его термином "спутанность идентичности". На неправильный смысл первого мне неоднократно указывали, и особенно коллеги-антропологи. У них наиболее общее значение термина "диффузия" – строго пространственное, подразумевающее центробежное распределение элементов. При диффузии культуры, например, технологический объект, художественная форма или лингвистическая единица могут перемещаться посредством миграции или как бы пошаговой передачи от одной культуры к другой, более отдаленной. При таком применении термина не подразумевается ничего беспорядочного или спутанного. Диффузия идентичности, напротив, предполагает расщепление образов "я", потерю центра и рассеивание. Возможно, было бы лучше остановиться на последнем слове, хотя рассеивание опять предполагало бы, что идентичность может быть передана от одного ко многим, а не распадаться внутри самой себя, тогда как "спутанность", возможно, слишком радикальное слово; юный человек может быть в состоянии мягкой диффузии идентичности, совершенно не чувствуя спутанности.
Но так как "спутанность" – слово, которое явно больше подходит как для субъективных, так и для объективных аспектов описываемого состояния, наилучшим будет представить состояние спутанности в виде континуума, на одном конце которого будет "мягкая" спутанность, а на другом – "отягченная" и "пагубная".
2. Спутанность, перенесение и сопротивление
Мне кажется, именно теперь стоит обратиться к предмету в целом, исходя из традиционного фокуса клинического наблюдения.
Во время психотерапии некоторые пациенты переживают фазу особой злобности. Хотя глубина регрессии и опасность, проистекающая из нее, должны, конечно, руководить нашими диагностическими решениями, важно с
222
самого начала распознать механизм, присутствующий в таких поворотах к худшему: я должен назвать его «твердым основанием аттитюда». Он состоит из квазипреднамеренного отказа пациента от растягивания регрессии, радикальных поисков «твердого основания», то есть как конечной границы регрессии, так и наиболее подходящего крепкого основания для обновленного продвижения. Допущение таких преднамеренных поисков «основной линии», по-видимому, подводит "регрессию на службе «эго» Эрнста Криса к опасной крайности. Но тот факт, что выздоровление наших пациентов иногда совпадает с обнаружением ранее скрытых художественных дарований, предполагает дальнейшее изучение именно этой критической точки.
Элемент преднамеренности, добавленный здесь к "истинной" регрессии, часто выражается в распространяющейся на все вокруг насмешке, характеризующей первоначальные терапевтические контакты с этими пациентами, и в той странной атмосфере садомазохистского удовлетворения, из-за которой часто трудно понять и еще труднее поверить, что их самообесценивание и готовность "пусть "эго" умрет" таят в себе опустошающую искренность. Как сказал один пациент: "То, что люди не знают, как преуспеть, – это довольно плохо. Но хуже всего, что они не знают, как потерпеть неудачу. Я решил по-настоящему потерпеть неудачу". Эту почти "смертоносную" искренность надо уметь увидеть в твердой решимости пациента ничему не доверять, но, не доверяя, все же из темного уголка сознания (действительно, часто уголком глаза) наблюдать за новым простым и откровенным жизненным опытом, чего бывает достаточно для возобновления экспериментирования во взаимной доверчивости. Психотерапевт, сталкиваясь с откровенно насмехающимся и дерзким молодым человеком, должен взять на себя обязанность (но не принять "позу") матери, открывающей ребенку, что жизнь заслуживает доверия. В центре лечения – потребность пациента очертить себя заново и таким образом перестроить основание своей идентичности. Вначале эти очертания сдвигаются резко: сильные сдвиги от границ "эго" в опыте пациента происходят буквально на наших глазах. Его подвижность может вдруг смениться "катато-ническим" торможением; внимательность – превратиться
223
в непреодолимую сонливость, вазомоторная система – дать сверхсильную реакцию, вплоть до ощущения потери сознания; чувство реальности – уступить место деперсонализации или остатки самонадеянности – исчезнуть в миазмах потери чувства физического существования. Осторожное, но твердое расследование раскроет возможность того, что «атаке» предшествовал ряд противоположно направленных импульсов. Первый и внезапно возникающий интенсивный импульс – это желание полностью уничтожить психотерапевта, сопровождающийся, по-видимому, лежащим в основе «каннибалистическим» желанием поглотить его сущность и его идентичность. Одновременно, или чередуясь, могут существовать и страх, и желание быть поглощенным и, следовательно, достичь идентичности, будучи абсорбированным в сущности психотерапевта. Обе тенденции, конечно, часто бывают скрыты или обнаруживаются в соматических симптомах на протяжении длительных периодов времени, в течение которых они проявляются в завуалированной форме только после терапевтического сеанса. Такими проявлениями могут быть импульсивное возбуждение при промискуитете без сексуального удовлетворения или какого-либо чувства участия; полностью поглощающие ритуалы мастурбации или приема пищи; чрезмерное питье или безудержное вождение автомобиля или такие саморазрушающие действия, когда человек беспрерывно читает, слушает музыку, забыв про еду и сон.
В этом видны наиболее крайние формы того, что может быть названо "сопротивляемостью идентичности", которая, далеко не исчерпываясь представленными здесь случаями, является универсальной формой сопротивления, регулярно переживаемой, но часто нераспознаваемой в некоторых курсах психоанализа. В обычной, более мягкой форме сопротивляемость идентичности проявляется в страхе пациента, что аналитик, обладающий особой личностью, квалификацией или философией, может случайно или преднамеренно разрушить слабое ядро идентичности пациента и навязать тому свое собственное. Я должен без колебаний сказать, что некоторые из широко обсуждаемых неразрешаемых неврозов перенесения у пациентов, так же как и у тех, кто только готовится стать психоаналитиками, – прямой результат того, что сопротивляемость иден-
224
I
тичности если и подвергается анализу, то лишь несистематическому. В таких случаях пациент может на протяжении всего курса психоанализа сопротивляться возможному вторжению в его идентичность ценностей психоаналитика, хотя сдается во всем остальном; или впитать из идентичности психоаналитика больше, чем он может переработать; или он может прекратить посещать сеансы психоанализа и на всю жизнь остаться с чувством, что он не обрел чего-то существенного – того, что обязан был дать ему психоаналитик.
В случаях острой спутанности подобная сопротивляемость идентичности становится основной проблемой психотерапевтической дуэли. Это общая проблема всех разновидностей психоаналитической техники: доминирующее сопротивление должно быть признано в качестве главного ориентира техники, а интерпретацию следует приспособить к способности пациента использовать ее. В этих случаях пациент саботирует коммуникацию до тех пор, пока не примет решения о некоторых основных (пусть противоречивых) результатах. Пациент настаивает на том, чтобы психотерапевт принял его негативную идентичность как реальную и необходимую (такую, какова она есть или скорее какой была), не считая, что такая негативная идентичность – "это все, что в пациенте есть". Терапевт, способный выполнить оба эти требования, должен терпеливо, переживая множество суровых кризисов, доказывать, что он может понимать пациента, сохранять привязанность к нему, не поглощая его и не предлагая себя в качестве жертвенной пищи. Только после этого (хотя и с трудом) могут возникать более известные формы перенесения.
Я лишь намекнул на феноменологию спутанности идентичности, как она отражена в наиболее заметных и непосредственных перенесениях и сопротивлениях. Индивидуальное лечение, однако, только одна грань психотерапии в обсуждаемых случаях. Перенесения этих пациентов остаются диффузными, а их поступки – неизменно опасными. Поэтому некоторые из них должны находиться в стационаре, где можно заметить и ограничить их выход за пределы психотерапевтических взаимоотношений и где первые шаги, выходящие за пределы заново завоеванного биполярного отношения к психотерапевту, встречают немедленную поддержку доброжелательных медицинских се-
225
15-798
стер, собратьев-пациентов и компетентных преподавателей, представляющих достаточно широкий выбор областей деятельности.
В условиях стационара продвижение пациента может быть спланировано, как это сформулировала молодая пациентка, по установленной "прямой" от попыток эксплуатировать и провоцировать больничное окружение к возрастающей способности использовать его и, наконец, до возрастающей компетентности, позволяющей покинуть этот вид институциализированного моратория и вернуться на свое старое или занять новое место в обществе. Больничное сообщество позволяет исследователю-клиницисту быть участвующим наблюдателем не только при персональном лечении отдельного пациента, но также в "терапевтическом проекте", который должен отвечать законным требованиям пациентов, имеющих общую жизненную проблему – в данном случае спутанность идентичности. Само собой разумеется, что такая общая проблема получает толкование, которое больничное сообщество приспосабливает к трудностям, специфически усугубленным указанной проблемой. В этом случае стационар становится полностью спланированным институциализированным ми-ром-между-мирами; это дает молодому человеку поддержку в перестройке тех наиболее витальных "эго-функ-ций", от которых он (даже если когда-либо создавал их) отказался. Отношения с личным психотерапевтом – краеугольный камень для создания нового и честного содействия – функции, которая должна повернуть пациента лицом к очень смутно постигаемому и чрезвычайно энергично отвергаемому будущему. Все же именно в больничном сообществе пациент делает первые шаги в обновленном социальном экспериментировании. По этой причине первостепенное значение имеет программа дея-тельностей (не "трудотерапия"), позволяющая каждому пациенту развивать свои таланты под руководством профессиональных преподавателей, которые занимаются своим ремеслом с полной ответственностью, но не принуждают пациента ни к каким поспешным профессиональным выборам. Крайне необходимо, чтобы пациент знал свои права и обязанности, а также права и обязанности персонала. Отсюда ясно, что условия такого сообщества, как стационар, характеризуются не только потребностями
226
идентичности тех, кому случается быть пациентами, но также и тех, кто решает стать опекунами своих братьев и сестер. Широко дискутируются пути, по которым профессиональная иерархия распространяет функции, награды и статус такого опекуна и открывает двери множеству контр– и «кросс-перенесений», которые на самом деле превращают стационар в точное воспроизведение дома. С современной точки зрения подобные дискуссии раскрывают опасность таких случаев, когда больной берет как основу для своей кристаллизующейся идентичности именно роль пациента, так как она оказывается наполненной смыслом больше, чем любая потенциальная идентичность, испытанная прежде.
3. Я, моя "самость" и мое "эго"
Для того чтобы внести ясность и даже определить количество установок человека по отношению к себе, философы и психологи создали такие понятия, как "я" или "самость", творя из слов воображаемые реальности. Мне кажется, обыденный язык может многое сказать об этом невразумительном предмете.
Никто из тех, кто работал с аутичными детьми, никогда не забудет ужаса, который испытываешь, наблюдая, как отчаянно они борются, чтобы понять значение простых слов "я" и "вы", и как невозможно для них, для их языка, заранее допустить переживание непрерывного "я". То же можно сказать о работе с молодыми людьми, имеющими глубокие нарушения, когда сталкиваешься с внушающей страх неспособностью пациентов чувствовать слова "я" и "ты" – которые умом они понимают – с их боязнью, что жизнь может пройти, а они так и не узнают, что означает чувство "я" и "ты" в любви. Никакое другое несчастье не сделает настолько очевидным то, что и "эго-психология" в одиночку, сама по себе не может охватить все те вечные, самые важные человеческие проблемы, которые до сих пор психология оставляла поэзии или метафизике.
То, что "я" отражает, когда оно видит или созерцает тело, личность и роли, которыми оно прикреплено к жизни, – не зная, где оно было прежде или будет после, – это различные "самости", которые составляют нашу еди-
227
ную сложную «самость». Между этими «самостями» существуют постоянные и часто подобные шоку переходы: рассмотрим обнаженную телесную «самость» в темноте, а затем вдруг освещенную; одетую «самость» среди друзей или в компании выше– и нижестоящих; только что пробудившуюся сонную «самость» или выходящую освеженной из прибоя; «самость», преодолевающую тошноту или обморок; телесную «самость» в сексуальном возбуждении или в ярости; «самость» компетентную и беспомощную; «самость» верхом на лошади, в кресле дантиста и «самость», прикованную и пытаемую людьми, которые также говорят о себе "я". Действительно, требуется здоровая личность, для того чтобы открыто сказать "я" во всех этих условиях, так чтобы в любой данный момент это "я" могло свидетельствовать о "я" осмысленно непрерывной «самости».
Соперники "самостей" – это "другие", с которыми "я" все время сравнивает свои "самости" – кто из них лучше, а кто хуже. Поэтому я бы поддержал предположение Хейнца Хартмана о том, что психоаналитикам следует перестать употреблять слово "эго", когда они имеют в виду "самость" как объект "я" и, например, говорят об идеальной "самости", а не об "эго-идеале" как образе того, на что наша "самость" должна быть похожа, чтобы нам понравиться, а также не говорить о "самоидентичности", когда речь идет об "эго-идентичности", постольку поскольку "я" постигает свои "самости" как продолженные во времени и единообразные по сути. Ибо, если "я" восхищается образом своей телесной "самости" (как делал Нарцисс), оно влюблено не в свое "эго" (так как в противном случае Нарцисс мог бы сохранить душевный покой), но в одну из своих "самостей" – отраженную телесную "самость", которая постигалась аутоэротизирован-ными глазами.
Только после того, как мы отделили "я" и "самости" от "эго", спросим: можно ли оставить за "эго" ту роль, которую ему приписывали с тех времен, когда в самом начале научной жизни Фрейда этот термин пришел из неврологии в психиатрию и психологию: роль внутреннего "агента", гарантирующего наше непрерывное существование посредством постоянного отбора и синтеза всех впечатлений, эмоций, воспоминаний, импульсов, которые пы-
228
таются войти в наше мышление и требуют нашего действия и которые разорвали бы нас на части, если бы не были отсортированы и управляемы постепенно развивающейся и очень бдительной системой отбора.
Следует быть по-настоящему решительным и сказать, что "я" полностью сознательно и что мы действительно осознаем постольку, поскольку можем сказать "я" и именно это "я" иметь в виду. (Пьяный скажет "я", но его глаза опровергнут это, и позже он не вспомнит, о чем в пьяной уверенности говорил). "Самости" большей частью предсознательны. Последнее означает, что они могут стать сознательными, когда "я" сделает их таковыми и настолько, насколько "эго" согласится с этим. "Эго" бессознательно. Мы осознаем работу "эго", но никогда – само "эго". Пожертвовать хоть чем-нибудь в понятии бессознательного "эго", которое, управляя внутренним миром, делает для нас то (как сердце и мозг), что мы никогда не смогли бы "вычислить" или спланировать сознательно, – значило бы отказаться от психоанализа как инструмента, а также (выражаясь в духе последователей Фомы Аквинского) от красоты, которую только психоанализ может заставить нас увидеть. С другой стороны, игнорировать сознательное "я" в отношении к его существованию (как это делала психоаналитическая теория) – значит вычеркнуть ядро человеческого самосознания, способность к которому, в конце концов, делает возможным самоанализ.
Но кто или что является соперником "эго"? Во-первых, конечно, "ид" и "супер-эго" и, затем, – так гласит теория – "окружение". Первые два термина по-английски выглядят неуклюже – в английском не культивируется академически-мифическое великолепие немецкого, где "das Es" или "das Ueber-Ich" всегда не что-то существующее объективно, подобно вещи, но нечто, данное сверхъестественно и изначально. Общая задача "эго" в простейшем выражении – преобразовывать пассивное в активное, превращать навязанное соперниками в желаемое. Это верно на внутреннем рубеже, где то, что испытывается как "ид", должно стать привычным, даже прирученным и тем не менее максимально приятным; где то, что переживается как уничтожающее бремя сознания, должно стать сносным, даже "хорошим" сознанием. Это же многократно
229
было ясно продемонстрировано в процессе психоанализа, когда можно было видеть, как парализованное «эго» становилось пассивным или, точнее, лишенным активности в своих функциях – защитной и адаптивной. Все же «ид» и супер-эго" могут действительно быть союзниками «эго», что проявляется, например, в сексуальной распущенности и справедливом поступке.
Еще один соперник "эго" – "окружение", которому в этом качестве недостает специфичности. Как уже отмечалось, это следствие старомодной привычки натуралиста говорить "именно этот" организм и "его" окружение. Экология и этология решительно вышли за пределы этого упрощения. Представители одного и того же вида и других видов всегда являются частью универсума (Uniwelt) один другого. К тому же об этом говорит и признание того факта, что человеческое окружение социально и что внешний мир "эго" составлен из "эго" других, значимых для него. Они значимы, поскольку на многих уровнях, как грубой, так и тонкой коммуникации, все мое существо чувствует в них готовность принять способ, которым мой внутренний мир упорядочивается и включает их и который делает меня в свою очередь готовым принять тот способ, которым они упорядочивают свой мир и включают меня. Взаимное подтверждение в таком случае может зависеть от активации моей сущности и сущностей тех, с кем я общаюсь. Говоря об этом, я должен ограничить значение термина взаимность, в котором заключен секрет любви, признав неизбежность обоюдного отрицания: законности возражения против того, чтобы какие-то люди заняли свое место в моем мире и законности их права не пускать меня в свой мир.
Ничто в природе, по всей вероятности, не напоминает ненависти, которую вызывает такое отрицание, и ничто не напоминает амбивалентности, которая делает нас неуверенными в том, как в этих отношениях мы соотносимся друг с другом, хотя смесь ярости, дискомфорта и страха, проявляемая некоторыми животными в неопределенных ситуациях, и громадная аффективная насыщенность церемониалов приветствия (их и наших) позволяют задуматься о филогенетических предпосылках "амбивалентности". Во всяком случае, главная сложность человеческой жизни – это коммуникация на уровне "эго", где "эго" каждого
230
человека проверяет всю информацию, получаемую сенсорно и чувственно, лингвистически и подсознательно, для подтверждения или отрицания его идентичности.
Постоянное усилие, упорядочивающее все эти процессы вместе на психосоциальной "территории" доверяемых вза-имностей и определяемых обоюдных отрицаний, и есть то, что мы имеем в виду под "групповым "эго". Я уже указывал на добавочное осложнение: граница этой территории проходит точно через каждую составляющую "эго", деля его на позитивную и негативную идентичности. Здесь вновь конфликт внутри (как амбивалентность снаружи) вызывает специфически человеческую тревожность, и, только когда в наших связанных мирах мы отчетливо подтверждаем или отрицаем сами себя и друг друга, возникает вопрос, идентичность ли это, психосоциальная идентичность.
Но "я" не что иное, как словесное утверждение, согласно которому я чувству"?, что я – это центр сознания в мире опыта, где я имею последовательную идентичность, и что я владею моим разумом и способен выразить свои мысли и ощущения. Неразложимый на отдельные составляющие аспект этого опыта может оправдать тот субъективный ореол, который означает, что я жив, что я и есть сама жизнь. Поэтому соперником "я" может быть, строго говоря, только божество, которое одолжило этот ореол смертному и которое есть Оно само, одаренное вечной божественностью подтвержденной всеми "я", выражающими признательность за этот дар. Вот почему Бог, когда Моисей спросил Его, как он должен назвать Того, Кто призвал его, ответил: "Я ЕСМЬ ТО, ЧТО Я ЕСМЬ". Он затем приказал Моисею говорить толпе: "Я ЕСМЬ послал меня к вам". И действительно, только толпа, скрепленная общей верой, совместно владеет общим "я" в полном объеме по той причине, что "братья и сестры в Боге" могут предназначать друг другу подлинное "Вы", говорящее о взаимном сочувствии и почитании. Индусское приветствие, когда один смотрит в глаза другого – руки с сомкнутыми ладонями поднялись близко к лицу, – говорит: "Я узнаю Бога в вас". Оно выражает то, что идет от сердца. Но ведь так делает и любящий, который простым мимолетным взглядом узнает божественность в лице возлюбленной, в то же время чувствуя,
231
что вся его жизнь зависит от такого узнавания. Однако те немногие, которые полностью обращены к божеству, должны избегать любой любви, кроме братства.
4. Сообщества "эго"
Так называемая базисная биологическая ориентация психоанализа, по-видимому, постепенно становится (из простого введения в курс дела) своего рода псевдобиологией, что особенно проявляется в концептуализации "окружения" человека. В психоаналитических произведениях термины "внешний мир" или "окружение" часто употребляются для обозначения неисследованной зоны, которая считается внешней просто потому, что ей не удается быть внутри – под кожей индивида, – или внутри его психических систем, или внутри его самости в самом широком смысле. Такое неясное и тем не менее вездесущее "внешнее" необходимо допускает ряд идеологических и, конечно, небиологических коннотаций, как, например, антагонизм между организмом и средой. Иногда "внешний мир" понимается как тайный заговор реальности против инфантильного мира инстинктивных желаний организма, а иногда – как индифферентный или раздражающий факт существования других людей. Но даже в не так давно признанном – пусть и частично – значении благотворного влияния материнской заботы сохраняется упорная тенденция трактовать "материнско-детские отношения" как "биологическую" сущность, более или менее изолированную от ее культурного окружения, которое в таком случае опять становится "средой", которая безлико помогает или давит и в которую можно "вписаться". Так, шаг за шагом, нас загромождают следы наслоений, которые были некогда необходимы и достаточно плодотворны, ибо было важно установить тот факт, что моралистические и ханжеские социальные требования склонны подавлять сферу инстинктов у взрослого человека и эксплуатировать ее у ребенка. Важно концептуализировать определенные внутренние антагонизмы между интересами индивида и общества. Однако бессмысленно полагать, что индивидуальное "эго" могло бы существовать вопреки или без специфически человеческого "окружения" и так называемой социальной организации. По-
232
добное допущение, как и псевдобиологическая ориентация, грозит изолировать психоаналитическую теорию от богатых экологических представлений современной биологии.
И вновь Хартман открывает путь для дальнейшего обсуждения9. Его утверждение, что человеческий младенец рождается преадаптированным к "среднему ожидаемому окружению", подразумевает более точное биологическое, равно как и неизбежное социальное, определение. Потому что даже не самые лучшие материнско-детские отношения могли бы сами по себе составить ту тонкую и сложную "среду обитания", которая позволила бы человеческому младенцу не только выжить, но и сформировать свои потенциальные возможности для развития и становления уникальности. Экология человека требует все время обновляющегося природного, исторического и технологического приспособления, которое сразу делает очевидным, что только постоянное, пусть даже незначительное, переструктурирование традиции может гарантировать каждому новому поколению младенцев все подходящее в "средне-ожидаемом" окружении. Сегодня, когда быстрые технологические изменения заняли лидирующие позиции во всем мире, вопрос установления и сохранения в гибких формах "среднеожидаемой" непрерывности окружения, необходимой для развития и образования ребенка, стал фактически вопросом человеческого выживания.
Специфический тип преадаптированности человеческого младенца – а именно готовность развиваться, эпигенетическими шагами проходя психосоциальные кризисы, – требует не только одного, базисного, окружения, но целой последовательности "ожидаемых" окружений, поскольку, когда ребенок адаптируется скачком или проходя стадии, он, достигая любой конкретной ступени, претендует на следующее "среднеожидаемое окружение". Другими словами, человеческое окружение как целое должно предоставить возможности и гарантировать серии более или менее дискретного и все же культурно и психологически последовательного становления, каждая стадия которого расширяет радиус жизненных задач. Все это делает так называемую биологическую адаптацию человека основанием жизненных циклов, развивающихся в рамках меняющейся истории человеческого сообщества. Следова-
233
тельно, психоаналитическая социология непосредственно сталкивается с задачей осмысления окружения человека как упорной попытки поколений соединить в организационном усилии обеспечение интегрированных серий «сред-неожидаемых окружений».
В статье, рассматривающей попытки подхода к изучению отношения культуры и личности, Хартман, Крис и Лоунстейн пишут: "Культурные условия могли бы рассматриваться с точки зрения вопроса о том, как и какие возможности для функций "эго" в свободной от конфликта сфере они привлекают или как и каким препятствуют. Их следовало бы так и рассматривать"10. В отношении возможности изучения отражения таких "культурных условий" в психоанализе индивидов авторы кажутся менее мужественными. Они констатируют: "Психоаналитики также сознают различия в поведении, проистекающие из культурных условий, они не лишены того общего смысла, который всегда подчеркивал эти различия, но их воздействие на наблюдателя-психоаналитика имеет тенденцию уменьшаться по мере того, как развивается работа и имеющиеся в распоряжении данные продвигаются от периферии к центру, то есть от манифестируемого поведения к данным, часть которых доступна только психоаналитическому исследованию".
Я рискну предложить (и, надеюсь, фрагменты иллюстративного материала, представленного в этой книге, помогут это доказать), что центральные проблемы развития "эго", которые, действительно, "доступны только психоаналитическому исследованию", скорее требуют, чтобы осознание психоаналитиком культурных различий значительно выходило за пределы "здравого смысла", который упомянутые выше авторы, по-видимому, считают достаточным для этой частной области наблюдения, хотя для других областей они, несомненно, настаивали бы на более тонко "анализируемом" здравом смысле. Как мы предположили, отношения между организованными ценностями и институциональными усилиями сообществ, с одной стороны, и природой "эго-синтеза" – с другой, являются более систематическими, и, во всяком случае с психосоциальной точки зрения, базисные социальные и культурные процессы могут рассматриваться только как объединенное стремление множества "эго" взрослых людей раз-






