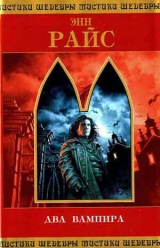
Текст книги "Два вампира (сборник)"
Автор книги: Энн Райс
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 56 (всего у книги 61 страниц)
Я слушал, как меня зовет Бенджамин, я слушал, как звучит его резкий голосок, очень по-ньюйоркски:
– Ангел, ты с нами еще не закончил. Что нам с ним делать? Ангел, вернись, я дам тебе сигарет. У меня полно отличных сигарет. Вернись. Ангел, я пошутил. Я знаю, ты сам достанешь себе сигареты. Но меня правда бесит, что ты оставил нам покойника, Ангел. Вернись.
Иногда я не слышал их часами. У меня не хватало сил найти их телепатически, увидеть их глазами друг друга. Нет. Эта сила исчезла. Я лежал в немой неподвижности, сгорая не только от солнца, но и от всего, что мне довелось видеть и чувствовать, раненый, пустой, мертвый умом и сердцем, за исключением моей к ним любви. Очень просто, не правда ли, в самом черном горе полюбить двух совершенно незнакомых людей, сумасшедшую девушку и озорного уличного мальчишку, ухаживавшего за ней? Убийство ее брата не имело своей истории. Браво – и все кончено. У всего остального, что причиняло мне боль, была история длиной в пятьсот лет.
Наступали часы, когда со мной говорил только город, огромный, гремящий, грохочущий, шелестящий город Нью-Йорк, с вечно лязгающим, несмотря на глубочайшие сугробы, транспортом, с нагромождением слоев голосов и жизней, достигающих той возвышенности, где лежал я, и поднимающихся над нею, до таких пределов, которых до настоящего времени мир и не видывал.
Я узнавал разные вещи, но не знал, что с ними делать. Я знал, что укрывший меня слой снега стал еще глубже, еще тверже, и не понимал, как такая вещь, как лед, может уберечь от солнечных лучей.
Конечно, я должен умереть, думал я. Если не сегодня, когда встанет солнце, то завтра. Я вспоминал, как Лестат поднял Плат. Я вспоминал его лицо. Но рвение покинуло меня. Покинула и всякая надежда. Каждое утро я думал, что непременно умру. Но не умирал.
Внизу, в далеком городе, я слышал других представителей нашей породы. Я не старался услышать их специально, поэтому до меня долетали не мысли их, но отдельные фразы. Там были Лестат и Дэвид, Лестат и Дэвид считали меня мертвым. Лестат и Дэвид меня оплакивали. Но Лестата преследовали куда более страшные кошмары, потому что Дора, а с ней и весь мир забрали Плат, и город теперь наводнили верующие. Собору с трудом удавалось контролировать толпу.
Приходили и другие бессмертные, молодые, слабые и, что самое жуткое, очень древние; желая рассмотреть это чудо, они проскальзывали в церковь ночью среди смертных верующих и безумными глазами взирали на Плат.
Иногда они говорили о бедном Армане, или о храбром Армане, или о святом Армане, кто, в своей преданности распятому Христу, сгорел заживо на самом пороге церкви!
Иногда они поступали так же, как я. И в тот момент, когда солнце уже вот-вот готовилось встать, мне приходилось их слушать, слушать их последние отчаянные молитвы в ожидании смертоносного света. Справились ли они лучше, чем я? Нашли ли они убежище в объятиях Бога? Или они кричали в агонии, в агонии, которую переживал я, не вынося ожогов и не имея возможности вырваться,– останки в переулках или на далеких крышах? Нет, они приходили и уходили, какой бы ни была их судьба.
Как все это было бледно, как далеко. Я так переживал, что Лестат нашел время оплакивать меня, но мне суждено умереть. Рано или поздно я все равно умру. Что бы я ни увидел в тот момент, когда я поднялся к солнцу, все утратило смысл. Мне предстояло умереть. Вот и все.
Пронзая снежную ночь, электронные голоса вещали о чуде, о том, что лик Христа на льняном Плате исцеляет больных и оставляет отпечаток, если к нему приложить другую ткань.
Дальше следовали споры священников и скептиков, настоящий гул.
Я не искал смысла. Я мучился. Я горел. Я не мог открыть глаза, а если пытался, ресницы царапали их, и становилось невыносимо больно. Я ждал ее в темноте.
Рано или поздно неизменно начинала звучать ее потрясающая музыка, с новыми, чудесными вариациями, и тогда я ни о чем не задумывался – ни о тайне моего местонахождения, ни о том, что намерены делать Лестат и Дэвид.
Только на седьмую, кажется, ночь мои органы восприятия окончательно восстановились, и тогда я понял весь ужас своего положения.
Лестат ушел. Дэвид тоже. Церковь заперли. Из бормотания смертных вскоре стало ясно, что Плат увезли.
Я слышал мысли всего города, невыносимый гул. Я отгородился от него, опасаясь, что, поймав хотя бы одну искру моей телепатии, какой-нибудь бессмертный бродяга решит меня приютить. Я не вынес бы и мысли о том, что бессмертные незнакомцы попытаются меня спасти. Я не вынес бы и мысли об их лицах, их расспросах, возможном участии или безжалостном равнодушии. Я скрывался от них, свернувшись в своей потрескавшейся, натянувшейся коже. Но я все равно их слышал, как слышал окружающие их смертные голоса – они говорили о чудесах, искуплении и любви Христа.
Кроме того, мне было о чем подумать – о моем затруднительном положении и о том, как все получилось.
Я лежал на крыше. Я оказался там в результате падения, но не под открытым небом, как я надеялся – или предполагал. Напротив, мое тело свалилось с покатого металлического листа и укрылось под рваным, ржавым навесом, где его неоднократно засыпало заметенным ветром снегом. Как я сюда попал? Можно было только догадываться.
По собственной воле с первым взрывом моей крови на утреннем солнце я поднялся вверх, наверное, на максимально доступное мне расстояние. Веками я знал, как взбираться на воздушные высоты и передвигаться на них, но никогда не доходил до теоретически возможного предела, однако в моем ревностном стремлении к смерти я напряг все силы, чтобы взлететь к небесам. Упал я с величайшей высоты.
Подо мной находилось пустое, брошенное, опасное здание, без отопления и без света.
Ни звука не доносилось со стороны его полых металлических лестничных пролетов или раздолбанных, рассыпающихся комнат. Только ветер подчас играл на здании, как на гигантском органе, и, когда Сибил покидала свое пианино, я слушал эту музыку, изгоняя насыщенную какофонию окружавшего меня сверху, снизу и со всех сторон города.
Иногда на нижние этажи здания заползали смертные. Я проникался внезапными извращенными надеждами. Может быть, кто-то достаточно глуп, чтобы забрести на крышу и попасть в мои руки, чтобы я выпил кровь, необходимую хотя бы для того, чтобы освободиться и выползти из-под защищавшего меня навеса и тем самым отдаться солнцу? В настоящем же положении солнце едва меня доставало. Только тускло-белый свет царапал плоть сквозь окутывавший меня снежный саван, и каждую удлиняющуюся ночь новая боль сливалась с прежней. Но сюда никто никогда не заходил.
Смерть будет медленной, очень медленной. Может быть, ей придется подождать, пока не потеплеет и не растает снег.
Поэтому каждое утро, мечтая о смерти, я постепенно осознавал, что проснусь, наверное, еще больше обгоревшим, чем раньше, но и глубже укрытым зимней метелью, все это время скрывавшей меня от сотен освещенных окон, выходивших сверху на эту крышу.
Когда наступала мертвая тишина, когда Сибил спала, а Бенджи прекращал молиться мне и разговаривать со мной у окна, начиналось самое худшее. Холодно, апатично и отстраненно я думал о странных вещах, приключившихся с мной, пока я падал сквозь воздушную бездну, потому что все остальное не шло мне в голову.
Ведь все было удивительно реально: алтарь Софийского собора, преломляемый хлеб. Я столько всего узнал, но ничего не мог вспомнить, не мог облечь в слова, и сейчас, диктуя это повествование, я не смог бы членораздельно восстановить эту историю, даже если бы попытался.
Реально. Осязаемо. Я чувствовал на ощупь покровы алтаря, видел, как пролилось вино, а еще раньше – как из яйца поднялась птица Я слышал, как трещит скорлупа. Я слышал голос матери. И все остальное.
Но моему разуму эти вещи были больше не нужны. Просто не нужны. Рвение мое на поверку оказалось хрупким. Оно утло, ушло, как ночи, проведенные с моим господином в Венеции, ушло, как годы странствий с Луи, ушло, как праздничные месяцы на острове Ночи, ушло, как долгие позорные столетия Детей Тьмы, когда я был дураком, настоящим дураком.
Я мог думать о Плате, я мог думать о небесах, я мог вспоминать, как стоял у алтаря и своими руками творил чудо с телом Христа. Да, мог. Но все в совокупности было слишком ужасно: я не умер, никакой Мемнох не умолял меня стать его помощником, никакой Христос не простирал ко мне руки на фоне бесконечного света Господа.
Намного приятнее было думать о Сибил, вспоминать, что ее комната с ярко-красными и синими турецкими коврами и покрытыми темным лаком непропорционально большими картинами была ничуть не менее реальна, чем киевский Софийский собор, вспоминать, как побледнело ее овальное лицо, когда она повернулась, чтобы взглянуть на меня, и как внезапно загорелись ее влажные, живые глаза.
Как-то вечером, когда мои глаза по-настоящему открылись, когда мои веки действительно поднялись над глазными яблоками и я увидел над собой белую ледяную корку, я осознал, что начал исцеляться.
Я попытался согнуть руки. Я смог приподнять их, чуть-чуть, и сковывающий меня лед дрогнул с чрезвычайно необычным электрическим звуком.
Солнце никак не могло сюда добраться, или же ему не хватало места бороться со сверхъестественно яростной, могущественной кровью, содержащейся в моем теле. О Господи, только подумать – пятьсот лет набираться сил, прежде всего родиться от крови Мариуса, с самого начала быть настоящим монстром, так и не подозревая о собственном могуществе.
В тот момент мне казалось, что моей злости и моему отчаянию наступил предел. Казалось, что раскаленная боль во всем теле достигла своего пика.
Потом заиграла Сибил. Она начала «Аппассионату», и мне стало все равно.
Мне было все равно, пока не прекратилась музыка. Ночь выдалась теплее, чем обычно; снег слегка подтаял. Казалось, поблизости нет никаких бессмертных. Я знал, что Плат перевезли в Ватикан. И какой теперь смысл приходить сюда бессмертным? Бедная Дора В вечерних новостях говорили, что у нее забрали ее добычу. Плат должен был исследовать Рим. Ее рассказы о странных светловолосых ангелах стали достоянием бульварной прессы, а сама она уехала.
В определенный момент я осмелился зацепиться сердцем за музыку Сибил и, напрягая до боли голову, выслать вперед свое телепатическое зрение, как часть тела, как язык, требующий выносливости, чтобы посмотреть глазами Бенджамина на комнату, где они обитали вдвоем.
Я увидел ее в приятном золотистом тумане, увидел стены, увешанные тяжелыми картинами в рамах, увидел мою красавицу в пушистом белом платье, в рваных тапочках. Ее пальцы продолжали трудиться. А Бенджамин, маленький непоседа, нахмурившись, попыхивая черной сигареткой, сцепив руки за спиной, расхаживал босиком из утла в угол, покачивая головой и бормоча про себя:
– Ангел, я же велел тебе, вернись!
Я улыбнулся. Шрамы на щеках болели так, словно их прорезали кончиком наточенного ножа. Я закрыл телепатический глаз. Под звуки быстрых крещендо я позволил себе замечтаться. К тому же Бенджамин что-то почувствовал; его разум, не извращенный западной цивилизацией, уловил отблеск моего любопытства. Хватит.
Потом ко мне пришло новое видение, очень резкое, очень необычное, очень непривычное, им нельзя было пренебрегать. Я еще раз повернул голову, лед треснул. Я держал глаза открытыми. Я видел неясное пятно возвышающихся надо мной освещенных башен.
Внизу, в городе, обо мне думал какой-то бессмертный, он находился далеко, за много кварталов от закрытого собора. На самом деле я мгновенно почувствовал вдалеке присутствие двух сильных вампиров, знакомых вампиров, вампиров, знавших о моей смерти и горько сожалевших о ней; они выполняли ка-кое-то' важное дело.
Здесь имелся определенный риск. Попробуй их увидеть – и они заметят намного больше, чем то, что не замедлил отметить Бенджамин. Но, насколько я понимал, в городе других вампиров сейчас не присутствовало, и нужно было узнать, что заставило их двигаться с такой целеустремленностью и с такой скрытностью.
Прошел, наверное, час. Сибил молчала. Они, могущественные вампиры, продолжали заниматься своим делом. Я решил рискнуть.
Я приблизил к ним свои бестелесные глаза и быстро осознал, что могу видеть одного глазами другого, но не наоборот. Причина была очевидна. Я напряг зрение. Я смотрел глазами Сантино, бывшего главы римского общества, Сантино, а увидел я Мариуса, моего создателя, чьи мысли оставались скрытыми от меня навсегда.
Они осторожно приближались к большому учреждению, оба одетые как современные джентльмены – в аккуратные темно-синие костюмы, вплоть до накрахмаленных белых воротничков и узких шелковых галстуков. Оба подстриглись, отдавая дань моде служащих корпораций. Но направлялись они, вгоняя в безвредный транс каждого смертного, кто пытался им помешать, отнюдь не в корпорацию. А в здание медицинского назначения. И я быстро догадался, по какому они пришли делу.
Они бродили по городской лаборатории криминалистики. И хотя они не торопились набирать в тяжелые портфели документы, волнение заставляло их поскорее вытащить из холодильных установок останки тех вампиров, кто последовал моему примеру и сдался на милость солнца.
Естественно, они занимались конфискацией материалов, какими располагал о нас мир. Они вычерпывали останки. Они перекладывали останки из похожих на гробы ящиков и с блестящих серебряных подносов в простые пластиковые пакеты. Целые кости, пепел, зубы, ну да, даже зубы,– все сметали они в эти мешки. А потом, из ящиков для картотеки, они извлекли образцы сохранившейся одежды.
У меня заколотилось сердце. Я пошевелился во льду, и лед заговорил в ответ. Нет, успокойся, сердце. Это мои кружева, мои личные кружева, плотные венецианские кружева, обгоревшие на краях, и несколько обрезков фиолетово-красного бархата! Да, именно мои жалкие одежды достали они из пронумерованного отделения каталога и сунули в пакет.
Мариус остановился. Я отвернулся – и физически, и мысленно. Не смотри на меня. Стоит тебе увидеть меня, прийти сюда, и, клянусь Богом, я... Что? У меня нет сил даже пошевелиться. У меня нет сил скрыться. О Сибил, пожалуйста, поиграй, мне нужно скрыться.
Но потом, припомнив, что он – мой создатель, что он способен выследить меня только через более слабый и более одурманенный разум своего спутника, Сантино, я почувствовал, что мое сердце успокаивается.
Из хранилища недавних воспоминаний я извлек ее музыку, я окружил ее цифрами, числами, датами, каждым из мелких детритов, пронесенных мной к ней сквозь века: что ее милый шедевр написал Бетховен, что он называется «Соната № 23, фа-минор, опус 57». Вот об этом и думай. Думай о вымышленной ночи в холодной Вене, вымышленной, поскольку на самом деле я в этом не разбирался, думай, как он писал музыку шумным, царапающим бумагу пером, звуков которого сам, наверное, не слышал. Думай, какие гроши ему платили. И думай с улыбкой, да, с болезненной режущей улыбкой, от которой по лицу течет кровь, как ему поставляли пианино за пианино – так мощно, так требовательно, так яростно бил он по клавишам.
И какую подходящую дочь получил он в лице симпатичной Сибил – устрашающая сила ее ударов по клавишам наверняка привела бы его в восторг, доведись ему заглянуть в будущее и отыскать среди неистовых студентов и поклонников одну конкретную одержимую девушку.
Сегодня было теплее. Лед начал таять. В этом сомневаться не приходилось Я сжал губы и еще раз поднял правую руку. Теперь над ней появилась выемка, и я мог шевелить пальцами.
Но они не шли у меня из головы, невероятная пара – тот, кто создал меня, и тот, кто пытался его уничтожить, Мариус и Сантино. Я должен был вернуться. Я осторожно выслал слабый, пробный луч мысли. И через мгновение я их выследил.
Они стояли перед сжигателем мусора в недрах здания и бросали в его жадную пасть все собранные ими улики; пакет за пакетом скручивался и потрескивал в пламени.
Как странно. Разве им самим не хотелось посмотреть на эти фрагменты в микроскоп? Но другие представители нашего рода наверняка уже это проделывали, и зачем смотреть на кости и зубы тех, кто спекся в аду, если можно срезать с собственной руки бледную белую ткань и поместить срез на стекло, в то время как рука по волшебству исцелится, как исцеляюсь я даже в настоящий момент.
Я не отпускал видение. Я увидел туманный подвал, где они стояли. Я увидел над их головами низкие балки. Собрав все силы для проекции взгляда, я увидел лицо Сантино, расстроенное, мягкое лицо того, кто разбил вдребезги единственную выпавшую на мою долю юность. Я увидел, что мой бывший господин почти печально взирает на огонь.
– Кончено,– тихим властным голосом сказал Мариус своему спутнику, обращаясь к нему на безупречном итальянском языке,– Не представляю себе, что еще можно сделать.
– Взломать Ватикан и похитить Плат,– ответил Сантино.– Какое право они имеют забирать такую вещь?
Я мог только наблюдать за реакцией Мариуса – за его внезапным потрясением и последующей вежливой, сдержанной улыбкой.
– Зачем? – спросил он, словно не имел от Сантино секретов.– Что нам до Плата, друг мой? Ты считаешь, он приведет его в чувство? Прости меня, Сантино, но ты еще так молод!
В чувство... Приведет его в чувство. Значит, это про Лестата. Единственное возможное значение. Я решил зайти еще дальше. Я просмотрел мысли Сантино в поисках того, что было ему известно, и отшатнулся в ужасе, но увиденного не выпускал.
Лестат, мой Лестат – ведь он никогда не был их Лестатом? – мой Лестат в результате обезумел из-за этой ужасной саги и стал пленником древнейшей представительницы нашего рода, постановившей, что, если он не прекратит мутить воду, подразумевая, естественно, тайну о нашем существовании, его уничтожат способом, доступным только Старейшим, и никто не смеет умолять за него ни под каким предлогом.
Нет, такого не может быть! Я извивался и ворочался. По моему телу бежали волны боли, красные, фиолетовые, пульсирующие оранжевым светом. С момента своего падения я не видел таких цветов. Рассудок возвращался ко мне, но что ему досталось? Лестата уничтожат! Лестат в плену, как я сам, много веков назад, под Римом, в катакомбах Сантино. О Господи, это хуже, чем солнечный огонь, хуже, чем смотреть, как брат-подонок бьет Сибил по личику со сливовыми щеками и отталкивает ее от пианино, сбивая с ног.
Но я нарвался на неприятности.
– Идем, пора выбираться отсюда,– сказал Сантино.– Что-то здесь не так, я что-то чувствую, но не могу объяснить. Такое впечатление, что с нами здесь кто-то еще, но его здесь нет. Такое впечатление, что равное мне по силе существо расслышало мои шаги за многие мили.
Мариус выглядел доброжелательным и любопытным, он совсем не встревожился.
– Нью-Йорк сегодня принадлежит нам,– легко сказал он. И со смутным страхом заглянул напоследок в печь.– Если только дух, цепляющийся за жизнь, не держится за его бархат и кружева.
Я закрыл глаза. О Господи,-как бы мне закрыть еще и мысли! Захлопнуть поплотнее.
Его голос не умолкал, пронзая раковину моего сознания в том месте, где она успела размягчиться.
– Но я никогда не верил в такие вещи,– сказал он.– Мы сами в некоторой степени евхаристия – как ты думаешь? Будучи телом и кровью таинственного бога до того момента, пока держимся избранной нами формы. Что такое прядь рыжих волос и обрывки обожженных кружев? Его нет.
– Я тебя не понимаю,– мягко признался Сантино.– Но если ты считаешь, что я никогда его не любил, ты глубоко, глубоко заблуждаешься.
– Ну, пойдем,– сказал Мариус.– Дело сделано. Все следы стерты. Но обещай мне от всей своей старинной римской католической души, что не отправишься на поиски Плата. Миллион пар глаз смотрели на него, Сантино, и ничего не изменилось. Мир остался прежним, под небом в каждом квадранте умирают дети, голодные и одинокие.
Дальше я не мог рисковать.
Я отклонился от курса, обыскивая ночь, как луч маяка, выбирая смертных, кто может заметить, как они покинули здание, где занимались делом чрезвычайной важности, но они удалились слишком незаметно, слишком быстро.
Я почувствовал, как они ушли. Я почувствовал, как внезапно пропало их дыхание, их пульс, и я знал, что их унес ветер.
Наконец, по прошествии еще часа, я дал своим глазам обойти те же старые комнаты, где бродили они.
Все было спокойно у бедных одурманенных техников и охранников, которых ввели в транс белолицые призраки из другого мира, выполнявшие свою отвратительную задачу.
К утру обнаружат кражу, обнаружат, что вся работа пропала, и Дорино чудо получит очередное печальное оскорбление, что только ускорит потерю интереса к нему.
У меня все воспалилось. Я сухо, хрипло расплакался, не в состоянии даже набрать в себе слез.
Кажется, один раз я заметил свою руку, гротескные когти, скорее освежеванные, чем обгоревшие, и глянцево-черные, какими я их и помнил – или видел.
Потом меня начала терзать одна загадка Как же я смог убить злого брата моей бедной возлюбленной? Как могло это быстрое страшное правосудие быть чем-то, кроме иллюзии во время моего подъема и падения под тяжестью утреннего солнца?
А если на самом деле этого не произошло, если я не осушил досуха этого жуткого мстительного брата, значит, они – просто сон, моя Сибил и мой маленький бедуин. Ну неужели это будет последним кошмаром?
Ночь достигла самого страшного часа. В оштукатуренных комнатах глухо били часы. Под колесами трещал вспененный снег. Я еще раз поднял руку. Неизбежный хруст и щелчок. Меня засыпало осколками льда, словно битым стеклом!
Я посмотрел вверх, на чистые, искрящиеся звезды. Как они прекрасны – сторожевые стеклянные шпили с прикрепленными к ним золотыми квадратиками света, рядами вырезанные резко вдоль и поперек, испещряющие воздушную черноту зимней ночи. А вот и ветер-тиран, шуршащий в хрустальных каньонах, достигающий маленькой заброшенной постели, где лежит один забытый демон, глядя воровским взглядом огромной души на приободрившиеся в городских огнях облака. Звездочки, как же я вас ненавидел, как я завидовал, что в этом призрачном вакууме вам удается с такой решимостью следовать намеченному курсу.
Но я уже ничего не ненавидел. Моя боль очистила меня от всего недостойного. Я следил, как небо затягивается облаками, поблескивает, на одну великолепную спокойную секунду превращается в бриллиант, а затем мягкий белый туман снова поглощает золотистые отблески городских фонарей и посылает им в ответ мягчайший, легчайший снег.
Он упал на мое лицо. Он упал на мою вытянутую руку. Он падал на все мое тело, тая крошечными волшебными снежинками.
– А теперь взойдет солнце,– прошептал я, словно меня обнял некий ангел-хранитель,– и даже здесь, под перекошенным жестяным навесом, через сломанный настил оно достанет меня и унесет мою душу к новым глубинам боли.
В ответ раздался протестующий крик. Чей-то голос умолял, чтобы этого не случилось. Мой голос, решил я,– конечно, как же обойтись без самообмана? Безумие – считать, что я перенесу все эти ожоги и второй раз вытерплю это по собственной воле.
Но голос принадлежал не мне. А Бенджамину, Бенджамину, поглощенному молитвой. Выбросив вперед свой бесплотный глаз, я увидел его. Он стоял на коленях в комнате, а она, как спелый сочный персик, спала среди мягких, сбившихся в сторону покрывал.
– Ну, ангел, дибук, помоги нам. Дибук, ты уже приходил. Приходи еще раз. Не беси меня, приходи!
– Сколько часов осталось до рассвета, маленький мужчина? – прошептал я в его небольшое, похожее на морскую раковину ухо, словно сам этого не знал.
– Дибук! – закричал он.– Это ты, ты говоришь со мной! Сибил, проснись, Сибил!
– Нет, подумай, прежде чем будить ее. Это страшное задание. Я не то потрясающее существо, на твоих глазах высосавшее кровь из твоего врага, обожествлявшее ее красоту и твою радость. Если ты решил отдать долг, ты придешь забрать чудовище, оскорбление для твоих невинных глаз. Но не сомневайся, маленький мужнина, я буду с тобой навсегда, если ты окажешь мне эту услугу, если ты придешь ко мне, если ты мне поможешь, потому что воля покидает меня, я один, я хочу восстановиться, но сам справиться не могу, мои годы ничего не значат, и мне страшно.
Он вскарабкался на ноги. Он встал и выглянул в далекое окно, в окно, через которое я мельком подсмотрел за ним во сне его же смертными глазами, но он меня увидеть не мог, я лежал на крыше внизу, под роскошной квартирой, что он делил с моим ангелом. Он расправил свои квадратные плечики и, серьезно нахмурив черные брови, превратился в точную копию византийской фрески: херувим еще младше меня.
– Назови цену, дибук, я иду к тебе! – объявил он и сложил в кулак свою могучую ручонку.– Где ты, дибук, чего ты боишься, чего мы не победим вместе? Сибил, проснись, Сибил! Наш божественный дибук вернулся, и мы нужны ему!
21
Они пошли за мной. Здание находилось рядом с их домом, заброшенная груда металла, Бенджамин ее знал. Несколькими тихими телепатическими фразами я попросил его принести молоток и ледоруб, чтобы разбить оставшийся лед, а также захватить пару теплых одеял, чтобы завернуть меня.
Я знал, что ничего не вешу. Сделав несколько болезненных движений руками, я сломал еще часть прозрачного потолка. Своими когтистыми руками я потрогал голову и выяснил, что ко мне вернулись волосы – по-прежнему густые, каштановые. Я поднес прядь волос к свету, но боль в руке стала невыносимой, и я уронил ее, не в состоянии пошевелить высохшими, искривленными пальцами. Необходимо загипнотизировать их хотя бы для первой встречи. Нельзя им смотреть на то, что от меня осталось, на черное кожаное чудище. Никакой смертный не перенесет такого зрелища, какие бы слова ни сходили с моих губ. Нужно как-то прикрыться,
Не имея зеркала, я не мог знать, как выгляжу и что конкретно делать. Оставалось только воображать, воображать былые дни в Венеции, когда я был красавчиком и прекрасно знал свою внешность по портновскому зеркалу, и спроецировать этот образ прямо в их мысли, пусть на это потребуется вся оставшаяся у меня сила; да, так я и сделаю, а еще нужно дать им указания.
Я неподвижно лежал и смотрел на мягкий теплый снегопад, на крошечные снежинки, такие непохожие на ужасный буран предыдущих ночей. Я не осмеливался использовать свои таланты, чтобы следить за их продвижением.
Внезапно я услышал громкий звон бьющегося стекла. Внизу хлопнула дверь. Я услышал, как они неровными шагами помчались по металлической лестнице, карабкаясь по пролетам.
Мое сердце тяжело билось, с каждой судорогой накачивая меня болью, словно тело обжигала собственная кровь.
Внезапно стальная дверь на крыше распахнулась. Я услышал, как они помчались ко мне. При слабом сонном свете соседних высоких башен я разглядел две маленькие фигурки – ее, женщины из сказки, и его, ребенка не старше двенадцати лет,– они спешили ко мне.
Сибил! Что же она вышла на крышу без верхней одежды, с распущенными волосами? Как это печально. И Бенджамин не лучше – в тонкой хлопчатобумажной джеллабе. Но они принесли для меня бархатное покрывало, и нужно было вызвать видение.
Где тот мальчик, каким я был, где тончайший зеленый атлас и ряды изысканных кружев, где чулки и обшитые тесьмой сапоги. И пусть у меня будут чистые блестящие волосы.
Я медленно открыл глаза, переводя взгляд с одного бледного восхищенного лица на другое. Они стояли под падающим снегом, как два ночных бродяги.
– Ну знаешь, дибук, ты нас перепугал,– сказал Бенджамин бешеным, возбужденным голосом,– а посмотреть на тебя – ты такой красивый.
– Нет, не верь глазам своим, Бенджамин,– возразил я.– Быстрее несите свои инструменты, разбейте лед и накройте меня покрывалом.
Сибил взялась за железный молоток с деревянной ручкой и обеими руками обрушила его, моментально пробив верхний мягкий слой льда. Бенджамин принялся колоть остальной лед, превратившись в маленькую машину, кидаясь то влево, то вправо; осколки разлетались, как жуки.
Ветер подхватил волосы Сибил и бросил ей в глаза. К ее векам липли снежинки.
Я удерживал образ беспомощного мальчика в атласных одеждах, приподнявшего мягкие розовые руки, не способного им помочь.
– Не плачь, дибук,– объявил Бенджамин, ухватившись обеими руками за гигантскую тонкую пластину льда.– Мы тебя вытащим, не плачь, ты теперь наш. Мы тебя забираем.
Он отбросил в сторону огромные зазубренные сломанные пластины, а потом сам, по-видимому, замерз сильнее, чем любой лед, уставившись на меня, округлив рот от Изумления.
– Дибук, ты меняешь цвет! – воскликнул он и протянул ' руку, чтобы потрогать мое иллюзорное лицо.
– Не надо, Бенджи,– сказала Сибил.
Тогда я впервые услышал ее голос и заметил нарочитое храброе спокойствие ее побелевшего лица. От ветра ее глаза слезились, хотя стойкость ее не поколебалась. Она выбрала лед из моих волос.
От холода по моему телу пробежала ужасная дрожь, да, она притушила пожар, но по моему лицу потекли слезы. Из крови?
– Не смотрите на меня,– сказал я.– Бенджи, Сибил, не смотрите. Просто дайте мне в руки покрывало.
Она болезненно прищурила глаза, но упрямо продолжала смотреть на меня ровным взглядом, подняв одну руку, чтобы придержать воротник своей непрочной хлопчатобумажной ночной рубашки, держа вторую надо мной.
– Что с тобой случилось, после того как ты приходил к нам? – спросила она удивительно добрым голосом.– Кто это сделал?
Я глотнул воздуха и снова вызвал видение. Я вытолкнул его из каждой поры, как будто мое тело превратилось в единый дыхательный орган.
– Нет, не надо больше,– умоляла Сибил.– Ты от этого слабеешь и ужасно мучаешься.
– Я вылечусь, милая,– сказал я,– честное слово, вылечусь.
Я не останусь таким навсегда, уже скоро я изменюсь. Только снимите меня с крыши, уберите меня с холода туда, где солнце меня не достанет. Это сделало солнце. Всего лишь солнце. Уне-
сите меня, пожалуйста. Я не могу идти. Даже ползти не могу. Я – ночной зверь. Спрячьте меня в темноте.
– Довольно, ни слова больше! – закричал Бенджи.
Я открыл глаза и увидел, как меня накрыла огромная голубая волна, словно меня завернули в летнее небо. Я почувствовал мягкое прикосновение бархатного ворса, но даже это оказалось больно, больно для горящей кожи, но такую боль я мог вынести, потому что до меня дотрагивались их сочувственные руки, и ради этого, ради их прикосновений, ради их любви я вынес бы все, что угодно.
Я почувствовал, как меня подняли. Я знал, что вешу не много, но как ужасно было ощущать собственную беспомощность, пока меня заворачивали.
– Вам не тяжело меня нести? – спросил я. Моя голова запрокинулась, я опять увидел снег и вообразил, что, если напрячь глаза, можно увидеть и звезды, задержавшиеся на своей высоте ради тумана одной-единственной крошечной планеты.








