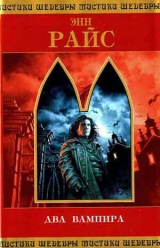
Текст книги "Два вампира (сборник)"
Автор книги: Энн Райс
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 47 (всего у книги 61 страниц)
Каким строгим выглядел наш Господь по сравнению с нежным, задумчивым Христом Фра Анджелико или благородным, печальным Господом Беллини! Но его согрела моя любовь! Лик Христа был написан в наших древних традициях, и Господь оставался любящим, несмотря на строгость линий, любящим, несмотря на мрачность красок, любящим в традиционном для моей родной земли понимании этого слова. Мой Христос был проникнут и согрет любовью, которую, как я верил, он дарил мне!
Мне стало дурно. Я почувствовал, как руки Мастера легли мне на плечи, но вопреки моим опасениям он не увлек меня прочь, а лишь обнял и прижался щекой к моим волосам.
Я уже чуть было не ушел. Все, с меня хватит! Но музыка вдруг смолкла. Какая-то женщина... Неужели это моя мать? Нет, она слишком молода – это моя теперь уже взрослая сестра Аня. Так вот, эта женщина устало заговорила о том, что мой отец смог бы опять запеть, если бы им удалось спрятать от него все спиртное и привести его в чувство.
Дядя Борис усмехнулся. Иван безнадежен, сказал Борис. Ивану уже не прожить трезвым ни дня ни ночи, ему недолго осталось. Иван отравлен спиртным – не только хорошим вином, которое он покупает у торговцев, продавая все, что ему удается украсть из этого дома, но и крестьянским самогоном, который он отбирает силой, по сей день оставаясь грозой округи.
У меня волосы встали дыбом. Иван, мой отец, не погиб? Иван остался в живых, чтобы умереть с позором? Ивана не убили в дикой степи?
Однако они прекратили разговор и тут же перестали думать об отце. Дядя запел новую песню – веселую плясовую. В этом доме танцевать было некому – все устали от тяжелой работы, женщины слепли, продолжая латать лежащую на коленях одежду. Но музыка их подбодрила, и один из них, мальчик, младше, чем я был, когда умер, да, мой младший брат, тихо прошептал молитву за моего отца, чтобы отец сегодня не замерз до смерти, свалившись пьяным в сугроб, что случалось нередко.
– Прошу тебя, приведи его домой,– шептал мальчик.
Потом я услышал за своей спиной голос Мариуса – он пытался разобраться в том, что мы узнали, и успокоить меня:
– Да, это, несомненно, правда. Твой отец жив.
Прежде чем он успел меня остановить, я обошел дом и открыл дверь. Я сделал это сгоряча, не подумав, что следовало спросить разрешения у Мастера, но я уже говорил, что был неуправляемым учеником. Я не мог иначе.
В дом ворвался ветер. Съежившиеся фигуры вздрогнули и натянули на плечи густой мех. В пасти кирпичной печи ярко полыхнул огонь.
Я знал, что нужно обнажить голову, то есть снять капюшон, встать лицом к иконам и перекреститься. Но не смог.
Напротив, дабы не быть узнанным, я, закрывая дверь, еще ниже опустил капюшон на лицо. Я прислонился к двери, прикрываясь плащом почти до самых глаз. Возможно, они могли увидеть еще пару прядей моих рыжеватых волос.
– Почему Иван запил? – прошептал я на вернувшемся ко мне старом русском языке.– Иван был в городе самым сильным. Где он сейчас?
Мое вторжение породило в них настороженность и злобу. Пламя в печи затрещало и заплясало, пожирая свежий воздух. Иконы в красном углу тоже, казалось, сияли пламенем, но это было иное пламя – вечное. В мерцающем свете я ясно видел лицо Христа, и мне почудилось, что он пристально смотрит прямо на меня.
Дядя поднялся и сунул гусли в руки маленького, незнакомого мне мальчика. Я увидел, что в полутьме сидят в своих кроватях дети, их обращенные ко мне лица слегка поблескивали. Те же, кто оставался на свету, сгрудились теснее и пытались рассмотреть мое лицо.
Я увидел свою мать, иссохшую, унылую, как будто с момента моего исчезновения минули века. Она превратилась в настоящую старуху и сейчас неподвижно застыла в углу, вцепившись в коврик, прикрывавший ее колени. Беззубая, дряхлая, с распухшими от работы суставами. Я всматривался в нее, пытаясь разгадать причины столь разительной перемены. Быть может, непосильный труд слишком быстро сводил ее в могилу?
На меня обрушилась лавина мыслей и слов. Кто ты, ночной гость? Ангел? Дьявол? Ужас Тьмы? Я увидел, как поспешно они поднимают руки, осеняя себя крестным знамением. Но в потоке их мыслей я прочел ясный ответ на свой вопрос.
Кто не знает, что с того страшного дня в степи, когда он не смог остановить татарских разбойников, похитивших его любимого сына Андрея, Иван-охотник превратился в Ивана Кающегося, Ивана Пьяницу, Ивана Безумного?
Я закрыл глаза. То, что с ним случилось, хуже смерти! А я даже ни разу не поинтересовался, ни разу не посмел помыслить о том, что он жив! Неужели меня недостаточно волновала его судьба, чтобы надеяться, что он не погиб, и чтобы задуматься о том, что ждет его в этом случае? По всей Венеции разбросаны лавки, где я мог бы набросать ему письмо, которое знаменитые венецианские купцы затем довезли бы до какого-нибудь порта, а уже оттуда по прославленным ханским, почтовым дорогам его доставили бы по назначению.
Маленький эгоист Андрей все это знал. Так кто мешал ему написать, например, следующее:
«Родные мои, я жив, я счастлив, хотя никогда и не смогу вернуться домой. Примите эти деньги. Я посылаю их для моих братьев, сестер и матери...»
Но, с другой стороны, откуда мне было знать? Прошлое для меня превратилось в мучительный хаос.
Стоило ожить в памяти самой обычной картине, как она перерастала в пытку.
Передо мной стоял мой дядя. Такой же здоровый, как мой отец, он был хорошо одет: в подпоясанную кожаную рубаху и валенки. Он спокойно, но строго посмотрел на меня.
– Кто вы и почему так врываетесь в наш дом? – спросил он.– Что за князь стоит перед нами? Вы принесли нам какие-то вести? Тогда говорите, и мы простим вас за то, что вы сломали замок на нашей двери.
Я затаил дыхание. Мне не было нужды спрашивать их еще о чем-либо. Я узнал, где можно найти Ивана Пьяницу: в кабаке, в компании рыбаков и торговцев мехами – других закрытых помещений он не переносил, за исключением еще разве что дома.
Левой рукой я нащупал кошель, который, как и положено, всегда висел у меня на поясе. Я сорвал его и протянул этому человеку. Он едва бросил на него взгляд и тут же с оскорбленным видом выпрямился и отступил.
И мне вдруг показалось, что он словно слился с окружающей обстановкой. Я увидел весь дом изнутри: резную мебель, составлявшую гордость смастерившей ее семьи, резные деревянные кресты и подсвечники, символические росписи, украшавшие деревянные рамы на окнах, полки с расставленными на них красивыми домашними горшками, котелками и мисками...
Я как будто по-новому увидел всю семью, исполненную чувства собственного достоинства: женщин, занятых вышивкой или штопавших одежду, мужчин, ремонтирующих какие-то обиходные вещи... Я вспомнил стабильность и теплоту их повседневной жизни. Но как же она уныла, как скучна и грустна в сравнении с жизнью того мира, который знал я!
Я сделал шаг вперед, опять протянул ему кошель и произнес сдавленным голосом, все еще прикрывая лицо:
– Умоляю вас, окажите мне любезность, чтобы я смог спасти свою душу. Это от вашего племянника Андрея. Он сейчас далеко-далеко, в той стране, куда его увезли работорговцы, и он уже никогда не вернется домой. Но он живет хорошо и считает своим долгом разделить с семьей то, что у него есть. Он велел мне рассказать ему, кто из семьи жив, а кто умер. Если я не отдам вам эти деньги, если вы их не возьмете, я буду проклят и попаду в ад.
Словесного ответа не последовало. Но их мысли сказали мне все, что нужно. Я все выяснил. Да, Иван жив, а теперь я, странный гость, говорю, что Андрей тоже не умер. Иван оплакивал сына, который не только выжил, но и процветал. Жизнь в любом случае трагедия. Достоверно известно только одно: всех когда-нибудь неизбежно ожидает смерть.
– Умоляю вас,– повторил я.
Дядя принял протянутый кошель, однако чувствовалось, что ею по-прежнему не покидают сомнения. Кошель был полон золотых дукатов, которые принимали повсюду.
Я уронил плащ, стянул с левой руки перчатку, а следом за ней – кольца, унизывавшие каждый палец. Опал, оникс, аметист, топаз, бирюза... Мимо мужчины и мальчиков я прошел в дальний угол и почтительно положил драгоценности на колени старушке, моей матери. Она подняла взгляд...
Я понял, что через секунду она меня узнает, и поспешил вновь прикрыть лицо полой плаща. Однако левой рукой я вынул из-за пояса кинжал. Это был всего лишь короткий «мизерикорд», кинжальчик, которым воин на поле боя добивает противника, если тот слишком сильно ранен, чтобы выжить, но еще не умер. Декоративная вещица, скорее украшение, чем оружие, его позолоченные ножны были густо усыпаны безупречными жемчужинами.
– Это вам,– сказал я,– матери Андрея, которая всегда любила свои бусы из речного жемчуга. Возьмите, прошу, ради спасения его души.
Я положил кинжал у ног матери.
Потом я поклонился – низко-низко, почти коснувшись лбом пола,– и вышел, не оборачиваясь, закрыв за собой дверь... Чуть задержавшись снаружи, я слышал, как они вскочили со своих мест и столпились вокруг моей матери, чтобы получше рассмотреть кольца и кинжал... Кто-то направился к двери, чтобы починить засов.
Охватившие душу эмоции лишили меня сил. Но ничто не помешало бы мне сделать то, что я решил сделать. Я не поворачивался к Мариусу, потому что просить его поддержки или согласия в этом деле было бы малодушием Я спустился по слякотной заснеженной улице через грязное месиво к прибрежному кабаку, где, как я думал, мог находиться мой отец.
Ребенком я чрезвычайно редко переступал порог подобных заведений, и то лишь в тех случаях, когда нужно было позвать отца домой. У меня практически не сохранилось о них воспоминаний – я только помнил, что там пили и ругались чуже-земцы.
Кабак располагался в длинном здании, построенном из таких же необработанных бревен, что и мой дом, обмазанных глиной в качестве скрепляющего материала. Швы и трещины неизбежно пропускали ужасный холод. Крыша была очень высокой, с шестью ярусами, чтобы выдерживать вес снега, с карниза, как и на моем доме, свисали сосульки.
Меня восхищало, что люди могут так жить, что даже холод не вынуждает их построить более долговечное и более надежное укрытие. Но в этих краях – в стране бедных, больных, загруженных работой и голодных,– как мне думалось, так было всегда. Суровые зимы лишали их слишком многого, а короткая весна и лето приносили слишком мало, и в результате самоотречение превратилось в высшую добродетель.
Но возможно, я заблуждался, как заблуждаюсь и сейчас. Важно то, что повсюду здесь царила атмосфера полной безнадежности. И хотя окружающую этих людей обстановку нельзя было назвать отвратительной или уродливой, ибо нет уродства в дереве, в грязи, в снеге и в печали, красоты в ней тоже не было, за исключением икон и выделявшегося на фоне усеянного звездами неба далекого силуэта элегантных куполов Софийского собора, стоявшего на вершине горы. А этого мало.
Войдя в кабак, я прикинул, что в нем сидят человек двадцать – они пили и весело разговаривали. Их настроение удивило меня, поскольку убогий вид этого дома, который давал им только крышу над головой, защиту от ночной темноты да возможность расположиться у большого очага, на мой взгляд, едва ли мог доставить кому-то радость. Здесь их не могли приободрить и светлые лики святых на иконах. Но кто-то пел, кто-то перебирал струны гуслей, кто-то играл на маленькой дудке.
Некоторые из многочисленных столов были покрыты скатертями, некоторые оставались голыми и пустыми. Часть посетителей таких кабаков, насколько я помнил, были иностранцами, однако я не ожидал, что их окажется так много. Я мгновенно узнал троих итальянцев – судя по всему, генуэзцев. Похоже, речная торговля шла довольно-таки активно, и, возможно, в Киеве сейчас жилось уже не так бедно, как прежде.
Позади прилавка виднелось немало бочонков с пивом и вином, и хозяин продавал свои запасы, отмеряя их кружками. Я обратил внимание на изобилие бутылок с итальянским вином, несомненно дорогим, и на стоявшие рядом ящики с белым испанским вином.
Чтобы не породить излишнего любопытства, я прошел вперед и забрался в дальний левый угол, поглубже в тень, надеясь, что итальянский путешественник в богатых мехах не вызовет у них интереса, потому что красивые меха были единственным настоящим достоянием их самих.
Эти люди были слишком пьяны. Правда, хозяин попытался проявить внимание к новому посетителю, но вскоре снова захрапел, подперев голову ладонью. Музыка не смолкала, кто-то затянул новое сказание, однако далеко не такое веселое, как дядя пел у нас дома. Наверное, музыкант очень устал.
Я увидел отца.
Он растянулся во весь рост, лежа на спине на широкой голой засаленной скамье, одетый в свою короткую кожаную куртку и аккуратно укутанный в свою самую большую шубу. Должно быть, собутыльники укрыли его, когда он отвалился от стола. Медвежья шуба служила здесь признаком относительного богатства.
Отец храпел в пьяном сне, от него исходили пары алкоголя. Он не шелохнулся, даже когда я опустился рядом со скамьей на колени и заглянул ему в лицо.
Его щеки похудели, но сохранили розовый оттенок, однако под скулами появились впадины, а в волосах мелькала седина, наиболее заметная в усах и длинной бороде. Мне показалось, что волосы на висках поредели, а тонкие гладкие брови приподнялись, но, возможно, это была просто иллюзия. Вокруг глаз залегли темные круги, веки отекли. Его рук, сцепленных под шубой, я не видел, но было ясно, что он до сих пор полон сил, до сих пор сохранил крепкое телосложение и пристрастие к спиртному не успело погубить его окончательно.
Внезапно я с беспокойством ощутил его живую энергию; от него пахло кровью, пахло жизнью, как будто мне на пути встретилась потенциальная жертва. Я выбросил эти мысли из головы и смотрел на него с любовью, думая лишь об одном: как я рад, что он жив. Он вернулся из степей. Он спасся от разбойников, которые в тот момент казались мне вестниками неизбежной смерти.
Я подтянул поближе табурет, чтобы спокойно посидеть рядом с отцом и как следует рассмотреть его лицо.
Левую перчатку я так и не надел.
Я положил холодную руку ему на лоб, легко, не желая позволять себе вольности, и он медленно открыл глаза. Они помутнели от слез, но тем не менее оставались удивительно яркими, невзирая на лопнувшие сосуды. Некоторое время он спокойно смотрел на меня, не говоря ни слова, как будто не видел причин даже пальцем шевельнуть, как будто я казался ему видением из сна.
Я почувствовал, что капюшон упал мне на плечи, но не стал его поднимать. Я не видел того, что увидел он, но знал, что ему открылось: лицо его сына, чистое, гладкое, совсем как в те дни, когда он в последний раз видел его живым, и длинные волны заснеженных каштановых волос.
За моей спиной на фоне ярко пламенеющего огня виднелись грузные силуэты посетителей – они пели, о чем-то громко разговаривали. Вино текло рекой.
Но для меня в этот момент словно весь мир перестал существовать, и ничто не встало между мной и этим мужчиной, который так отчаянно старался сразить разбойников, посылая им вслед одну стрелу за другой, хотя на него самого сыпался град вражеских стрел.
– Тебя не ранили,– прошептал я.– Я люблю тебя и только сейчас понимаю, каким ты был сильным.
Разобрал ли он мои слова?
Он прищурился, глядя на меня, и я увидел, как он провел языком по ярким, как кораллы, губам, просвечивавшим сквозь густые усы и бороду.
– Ранили,– низким, тихим, но не слабым голосом произнес он.– В меня попали, два раза попали, в плечо и в руку. Но они меня не убили... И Андрея не отпустили... Я упал с коня... Потом поднялся... Ноги мне не задело... Я погнался за ними. Я все бежал, бежал... Бежал и стрелял... Поганая стрела торчала у меня из правого плеча... Вот здесь.
Из-под шубы появилась его рука, и он положил ее на то место, куда был ранен.
– Но я все равно стрелял. Я ее даже не чувствовал. Я видел, что они уходят. Они забрали его с собой... Я даже не знаю, был ли он жив... Не знаю... Зачем им было его увозить, если бы они его убили? Стрелы летели во все стороны, Настоящий дождь стрел! Их было человек пятьдесят. Все остальные погибли! Я велел остальным стрелять, не останавливаться ни на миг, не трусить... И стрелять, стрелять, стрелять... Скакать прямо на них, только пониже пригнуться... Пригнуться к самым шеям коней и скакать... Может, так они и сделали... Не знаю...
Он чуть опустил веки и огляделся. Он захотел встать, а потом посмотрел на меня.
– Дай мне выпить. Купи что-нибудь приличное. У того мужика есть испанский херес. Купи мне бутылку хереса. Черт возьми, в былые дни я сидел в засаде и ждал купцов там, на реке, мне никогда не приходилось ничего ни у кото покупать. Купи мне бутылку белого вина. Я вижу, ты богач.
–Ты не узнаешь меня? – спросил я.
Он посмотрел на меня в явном недоумении. Этот вопрос даже не приходил ему в голову.
– Ты из замка. Ты говоришь с литовским акцентом. Мне плевать, кто ты такой. Купи мне вина.
– С литовским акцентом? – тихо спросил я.– Какой кошмар. Наверное, это венецианский акцент, но мне действительно очень стыдно.
– Венецианский? Тогда тебе нечего стыдиться. Видит Бог, они пытались спасти Константинополь, пытались. Все катится к черту. Мир сгорит в огне. Купи мне вина, пока он не сгорел, ладно?
Я встал. У меня остались деньги? Я все еще размышлял об этом, когда рядом возникла безмолвная фигура Мастера – он протянул мне бутылку испанского белого вина, откупоренную, подготовленную для моего отца.
Я вздохнул. Его запах для меня теперь ничего не значил, но я знал, что вино отличного качества. К тому же отец этого хотел.
Тем временем он сел на скамье и уставился на бутылку в моих руках. Он потянулся за ней, забрал и принялся пить, так же жадно, как я пил кровь.
– Посмотри на меня внимательно,– сказал я.
– Дурак, здесь слишком темно,– ответил он.– Что я могу увидеть? М-м-м-м... А вино и впрямь хорошее. Спасибо...
И вдруг он замер, так и не донеся бутылку до рта в очередной раз. Он застыл в необычной позе, как будто находился в лесу и только что почувствовал приближение медведя или какого-то другого смертельно опасного зверя. Он окаменел, не выпуская бутылку Из рук, и на лице его жили только обращенные ко мне глаза.
– Андрей,– прошептал он.
– Я жив, отец,– мягко отозвался я.– Меня не убили. Меня похитили, чтобы продать, и продали очень выгодно. Потом посадили на корабль и увезли на юг, затем – на север, в Венецию. Там я сейчас и живу.
Его глаза оставались спокойными. Им овладела удивительная безмятежность. Он был слишком пьян, чтобы протестовать или восхищаться неожиданным явлением. Напротив, истина проникла в самые глубины его души и захлестнула его единой волной, так что он сумел понять каждый ее нюанс: что я не страдал, что я богат, что я живу хорошо.
– Я был растерян, раздавлен,– продолжил я тем же ласковым шепотом, который мог услышать только он.– И, несомненно, пропал бы. Но меня нашел другой человек, добрый человек. Он вернул меня к жизни, и с тех пор я никогда не страдал. Отец, я проделал долгий путь, чтобы сказать тебе об этом. Я не знал, что ты жив. Мне и не снилось, что ты жив. Я решил, что ты погиб в тот день, когда рухнул весь мой мир. А теперь я пришел сюда, чтобы сказать тебе: ты никогда, никогда не должен из-за меня горевать.
– Андрей,– только и прошептал он.
Выражение его лица практически не изменилось – в нем появилось только спокойное удивление. Он неподвижно сидел, держа руками поставленную на колени бутылку, распрямив мощные плечи; длинные, как никогда, рыже-седые волосы почти сливались с мехом шубы.
Он был красивым мужчиной, красивым. Чтобы понять это, мне потребовались глаза монстра. Мне потребовалось зрение демона, чтобы увидеть и в полной мере оценить силу и мощь не только его гигантского тела, но и личности в целом. Только налитые кровью белки глаз выдавали душевную слабость.
– Теперь забудь меня, отец,– сказал я.– Забудь, как будто монахи отослали, меня в дальние страны. Но помни, что только из-за тебя я никогда не буду погребен в земляных монастырских могилах. Нет, может быть, со мной случится что-то другое. Но от этого я не пострадаю. Благодаря тебе, потому что ты не смирился и пришел в тот день с требованием, чтобы я поехал с тобой и доказал, что я достоин называться твоим сыном.
Я повернулся, чтобы уйти. Он метнулся вперед, сжимая левой рукой горлышко бутылки, а могучей правой рукой хватая меня за запястье. С былой силой он потянул меня вниз, к себе, и прижался губами к моей склоненной голове.
Господи, только бы он не понял! Не дай ему почувствовать, как я изменился. Я в отчаянии закрыл глаза.
Но я был молодым, далеко не таким жестким и холодным, как мой господин, нет, и наполовину не таким, даже на четверть. Он почувствовал только, что у меня мягкие волосы и, может быть, мягкая, но холодная как лед, благоухающая зимой кожа.
– Андрей, мой ангел, мой талантливый, золотой сынок! – Я повернулся и крепко обнял его левой рукой. Я расцеловал всю его голову так, как ни за что не сумел бы сделать это, когда был ребенком. Я прижал его к сердцу.
– Отец, не пей больше,– едва слышно попросил я.– Возьми себя в руки и стань опять охотником. Стань самим собой, отец.
– Андрей, мне в жизни никто не поверит.
– А кто посмеет это сказать, если ты будешь таким, как раньше? – спросил я.
Мы посмотрели друг другу в глаза. Я крепко сжал губы, чтобы он ни в коем случае не заметил подаренные мне вампирской кровью острые зубы, крошечные зловещие вампирские клыки, которые непременно увидит такой проницательный человек, как он, прирожденный охотник.
Но он не искал во мне недостатков. Он искал только любви, а любовь мы смогли дать друг другу.
– Мне пора идти, у меня нет выбора,– сказал я.– Я тайно улучил момент, чтобы прийти к тебе. Отец, расскажи маме, что это я приходил в дом, что это я отдал ей кольца и оставил твоему брату деньги.
Я отстранился. Я сел рядом с ним на скамью. Я стянул правую перчатку и посмотрел на свои кольца – их было семь или восемь, все из золота или серебра, богато украшенные камнями. Не обращая внимания на громкие протестующие стоны отца, я стащил их с пальцев одно за другим и вложил в его ладонь. Какая же она была мягкая и горячая, розовая и живая.
– Забери их, у меня таких море. Я напишу тебе и пришлю еще, чтобы тебе никогда не приходилось ничего делать, кроме того, что ты любишь: скакать, охотиться, рассказывать у огня повествования о старых временах. Купи себе хорошие гусли, купи книги для малышей, купи все, что хочешь.
– Мне ничего не нужно – только ты, сынок.
– Да, а мне нужен ты, отец, но нам ничего не осталось, кроме этой малости.
Обеими ладонями я взял его лицо. Наверное, неблагоразумно было демонстрировать таким образом свою силу, но я заставил его остаться на месте, поцеловал, а затем, тепло обняв на прощание, поднялся.
Я так быстро вылетел из комнаты, что он наверняка ничего не заметил, разве только услышал стук захлопнувшейся двери.
Пошел снег. Неподалеку я увидел ожидавшего меня Мастера и пошел ему навстречу. Мы вместе начали подниматься на гору. Я не хотел, чтобы отец вышел следом за мной на улицу. Я хотел исчезнуть – и чем быстрее, тем лучше.
Я уже собрался попросить Мастера, чтобы мы воспользовались вампирской скоростью передвижения и покинули Киев, когда увидел бегом приближавшуюся к нам фигурку маленькой женщины, чьи тяжелые, длинные меха волочились по мокрому снегу. В руках она держала какой-то яркий предмет.
Я застыл на месте, Мастер ждал меня. Это моя мать пришла меня повидать. Она пробиралась к кабаку, неся в руках обращенную лицом ко мне икону с изображением нахмуренного Христа, ту самую, на которую я так долго смотрел сквозь трещину в стене.
Я затаил дыхание. Она подняла икону и передала ее мне.
– Андрей...– прошептала она.
– Мама! Прошу тебя, оставь ее для малышей.
Я обнял ее и поцеловал. Она состарилась, ужасно состарилась. Но это произошло в первую очередь из-за рождения детей – они вытянули из нее все силы, пусть даже многие из них умерли в младенчестве и им с отцом пришлось хоронить их в крошечных могилках. Я подумал, скольких детей она потеряла за годы моего детства. А сколько их было до моего рождения?
Своих младенцев, появившихся на свет слишком маленькими и слабыми, чтобы выжить, она называла ангелочками.
– Оставь ее себе,– повторил я. Сохрани эту икону в семье.
– Хорошо, Андрей,– ответила она, глядя на меня поблекшими, полными муки глазами.
Я видел, что она умирает. Я внезапно понял, что ее снедает не просто возраст, не тяготы деторождения. Ее гложет изнутри и вскоре действительно сведет в могилу болезнь. Меня охватил безграничный ужас, страх за весь смертный мир. Как все просто... Всего лишь утомительная, заурядная, неизбежная болезнь.
– Прощай, милый ангел,– сказал я.
– И ты прощай, мой милый ангел,– ответила она.– Мое сердце и душа радуются, видя, каким ты стал прекрасным и гордым князем. Но покажи мне, правильно ли ты крестишься.
С каким отчаянием она это сказала! Она выразила то, что камнем лежало у нее на душе. Не приобрел ли я свои бесспорные богатства, перейдя в западную веру? Вот что ее волновало.
– Мама, это несложное испытание.– Я перекрестился по нашему восточному обычаю, справа налево, и улыбнулся.
Она кивнула. Потом из своего тяжелого шерстяного платья осторожно извлекла и протянула мне какую-то вещь, выпустив ее только тогда, когда я подставил сложенные ладони. Это было крашеное пасхальное яйцо – темное, рубиново-красное.
Прекрасное, изящно расписанное яйцо. Его по всей длине оплетали желтые ленты, а в месте их пересечения была нарисована не то роза, не то восьмиконечная звезда.
Я посмотрел на него и кивнул.
А потом достал платок из тонкого фламандского льна и мягкой тканью тщательно обернул яйцо. Лишь после этого я спрятал почти невесомый дар в складках свей туники, под курткой и плащом.
Я наклонился и еще раз поцеловал ее в мягкую сухую щеку.
– Мама, ты для меня воистину Всех Скорбящих Радость!
– Милый мой Андрей,;– ответила она,– ступай с Богом, если так нужно.
Она вновь бросила взгляд на икону. Она хотела, чтобы я как следует ее рассмотрел, и развернула доску так, чтобы я мог взглянуть прямо в светящийся золотой лик Господа, такой же бледный и прекрасный, как и в тот день, когда я написал для нее эту икону. Только я писал ее не для матери. Нет, это была та самая икона, которую я в тот день повез в степи.
Поистине чудо, что отец привез ее обратно домой. Но, с другой стороны, что в этом удивительного? Почему бы такому человеку, как он, это не сделать?
На икону падал снег. Он ложился на суровый лик Спасителя, как по волшебству засиявший когда-то под моей быстрой кистью, на лик Господа нашего, чей строгий гладкий рот и слегка нахмуренные брови символизировали любовь. Христос, мой Господь, умел выглядеть еще строже, взирая с мозаик Сан-Мар-ко. Христос, мой Господь, казался не менее строгим на многих старинных картинах. Но Христос, мой Господь, каков бы ни был его образ, в каком бы его ни рисовали стиле, был полон безграничной любви.
Снег повалил хлопьями, но они таяли, едва коснувшись святого лика.
Я испугался за него, за хрупкую деревянную доску, за сверкающий лаком образ, предназначенный сиять во все времена. Но она тоже об этом подумала и быстро укрыла икону под шубой, защищая ее от сырости тающего снега.
Больше я эту икону не видел.
Но найдется ли теперь кто-нибудь, кто спросит, что значит для меня икона? Найдется ли тот, кто спросит, почему, когда я увидел лик Христа на Плате Вероники, когда Дора высоко подняла Плат, принесенный из Иерусалима в час Страстей Христовых самим Лестатом, лик, прошедший через ад, прежде чем попасть в наш мир,– почему в тот миг я упал на колени и вскричал: «Это Господь!»?
11
Обратный путь из Киева казался мне путешествием во времени, вернувшим меня туда, где мое настоящее место. По возвращении вся Венеция, казалось мне, сияла блеском обитой золотом комнаты, где располагалась моя могила. Как в тумане, блуждал я целыми ночами по городу в обществе Мариуса или один, упиваясь свежим воздухом Адриатики и внимательно осматривая потрясающие здания, будь то жилые дома или муниципальные дворцы, к которым за последние несколько лет уже успел привыкнуть.
Вечерние церковные службы притягивали меня, как мед привлекает муху. Я впитывал хоровое пение, распевы монахов, но прежде всего – радостное, чувственное восприятие паствы, проливавшее целительный бальзам на мою израненную возвращением в Печерскую лавру душу.
Но в самой глубине сердца я сохранил негаснущий, жаркий огонь благоговения перед русскими монахами из Печерской лавры. Мельком увидев несколько слов брата Исаака, я находился под постоянным впечатлением от поучений этого поистине святого человека – раба Божиего, отшельника, способного видеть духов, ставшего жертвой дьявола и тем не менее победившего его во имя Христа.
Вне всякого сомнения, я обладал религиозной душой и, получив на выбор две великие модели религиозного мышления, отдавшись войне между этими двумя моделями, я разжег войну внутри себя. С одной стороны, я не испытывал желания отказаться от роскоши и великолепия Венеции, сияющей в веках красоты уроков Фра Анджелико и потрясающих достижений его последователей, творивших Красоту во имя Христа, а с другой – втайне канонизировал проигравшего в моей личной битве благословенного Исаака, который, по моему твердому убеждению, избрал истинный путь, ведущий к Богу.
Мариус знал о моей борьбе, он понимал, какую власть имеет надо мной Киев и все, что с ним связано, знал, что для меня это жизненно важно. Никто за всю мою жизнь лучше его не сознавал, что каждое существо сражается с собственными ангелами и дьяволами, каждое существо рано или поздно делает выбор и становится приверженцем определенной системы жизненных ценностей, без которых немыслимо жить настоящей жизнью.
Мы избрали для себя образ жизни вампиров. Но наша жизнь оставалась во всех отношениях полноценной – чувственной, плотской. Она ни в коей мере не избавляла меня от наваждений смертного детства. Напротив, они теперь мучили меня еще сильнее.
Через месяц после возвращения я осознал, что стал по-иному воспринимать окружающий мир и свое существование в нем. Да, я погрязну в пышной красоте итальянской живописи, музыки и архитектуры, но делать это буду с рвением русского святого. Я превращу все чувственные переживания в добро и чистоту. Я буду учиться, достигну нового уровня понимания и стану с новым сочувствием относиться к смертным; я ни на миг не прекращу совершенствовать собственную душу.
Я стану хорошим, то есть прежде всего добрым и мягким. Я буду рисовать, читать, учиться, даже молиться, хотя я толком не знал, кому молюсь, а также пользоваться каждой возможностью поступать великодушно с теми смертными, кого я не убивал.








