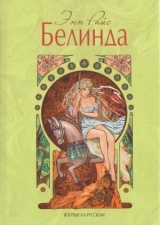
Текст книги "Белинда"
Автор книги: Энн Райс
Жанр:
Эротика и секс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 36 страниц)
3
Не успел я утром открыть глаза, как уже понял, что она ушла.
Зазвонил телефон, и я даже сумел что-то промямлить в трубку, хотя сам не сводил глаз с ночной рубашки, аккуратно висевшей на крючке в шкафу.
Это была Джоди, которая сообщила мне, что меня хотят видеть на ток-шоу в Лос-Анджелесе. С трансляцией на всю страну. Естественно, я буду жить в Беверли-Хиллз.
– А что, обязательно надо туда ехать?
– Джереми, конечно нет. Но послушай, ты сейчас нарасхват. Продавцы ждут тебя на презентации в Чикаго и Бостоне. Подумай над их предложением и перезвони мне.
– Не сейчас, Джоди. Это мне не подходит.
– Джереми, всю дорогу лимузины и апартаменты. Перелеты первым классом.
– Джоди, я знаю. Знаю. Я готов сотрудничать, но не сейчас…
Даже воротничок ночной рубашки был застегнут. Запах духов. Золотистый волосок, приставший к ткани.
Спустившись вниз, я обнаружил, что пепельница и посуда вымыты и поставлены на сушилку. Очень аккуратно.
А еще она нашла заметку обо мне в «Бэй бюллетин», и теперь журнал лежал на кухонном столе, открытый на том месте, где я был сфотографирован на ступенях публичной библиотеки.
«СВОЕЙ ПЯТНАДЦАТОЙ КНИГОЙ УОКЕР ПРОДОЛЖАЕТ ПЛЕСТИ МАГИЧЕСКИЙ УЗОР
Сорокачетырехлетний белокурый высокий (рост шесть футов один дюйм) Джереми Уокер – словно добрый великан среди своих маленьких поклонников, собравшихся в детском читальном зале публичной библиотеки Сан-Франциско, словно сероглазый игрушечный медвежонок среди восторженных маленьких девочек, которые засыпали его вопросами относительно его любимого цвета, любимой еды, любимого фильма. Оставаясь верным себе, он дарил своим юным читателям только традиционные и старомодные образы, как будто не существует пестрого мира „Звездного крейсера „Галактика““ и „Подземелья драконов“…»
Как она, должно быть, смеялась, читая подобную галиматью. Я тут же выбросил журнал в мусорное ведро.
В доме больше не осталось никаких следов ее пребывания. Ни записки, ни нацарапанного адреса, ни номера телефона. Я все проверил и перепроверил.
Но как насчет отснятой черно-белой пленки? Интересно, она все еще в фотоаппарате? Традиционные и старомодные образы.Я позвонил, чтобы отменить назначенную на сегодня встречу за обедом, а потом спустился в подвал, в темную комнату, где проявлял фотографии.
К полудню у меня уже были неплохие снимки. Я развесил их по стенам мастерской, а самые лучшие прикрепил к проволоке перед мольбертом. Их было так много, и все такие соблазнительные.
Хотя она была права, когда говорила, что не является одной из моих маленьких девочек. Она и не была. В отличие от моих маленьких моделей, ее лицо ни в коей мере не напоминало монету без клейма. И все же она была прелестна в общепринятом смысле слова и выглядела так по-детски.
На самом деле она чем-то напоминала призрак, неземное создание. Я хочу сказать, она была словно оторвана от окружающих ее вещей, словно видела или делала такое, что другим и не снилось.
Да, определенно преждевременная зрелость, может быть, чуть-чуть цинизма. Я увидел все это на фотографиях, хотя, когда снимал, ничего такого не заметил.
Перед тем как надеть ночную рубашку, она приняла душ. Волосы у нее были распущены и падали легким кудрявым облаком. И на снимках в них играли лучи света. И она очень естественно играла со светом. На самом деле она вела себя перед объективом абсолютно раскованно. Во время съемки она будто впадала в транс, неохотно отвечая на вопросы и словно чувствуя на себе мой взгляд.
В ней было нечто соблазнительно эксгибиционистское. И она знала, как надо вести себя во время съемки. Она периодически вставляла замечания насчет фокуса или освещения. Но очень деликатно и ненавязчиво. Позволяя мне делать то, что я хотел делать.
У меня никогда не было такой натурщицы, как она. Никакой скованности, никаких неестественных поз, удивительно глубокое понимание того, что от нее требуется.
Лучшей фотографией оказалась та, где Белинда устроилась на карусельной лошадке, выставив голые скрещенные лодыжки из-под длинной ночной рубашки. При этом свет падает сверху. А еще чудесный снимок Белинды, сидящей по-турецки на кровати. Я даже увеличил те фотографии до размера постера.
Очень удачно вышло фото Белинды, стоящей на коленях в гостиной возле старого кукольного дома: ее лицо на фоне башенок, печных труб и окошек с кружевными занавесками, а кругом разбросаны различные игрушки.
То фото оказалось последним. Нам следовало отправиться в постель до начала съемок. Я мечтал заняться с ней любовью прямо на ковре в гостиной, но боялся ее напугать, хотя, если бы я предложил, может, она и не возражала бы. Но я и сам был напуган.
На фотографиях, сделанных на лестнице со свечой и руках, она была прямо-таки вылитая Шарлотта. Я шел впереди нее и снимал, как она поднималась по ступеням. Минимум света. Здесь она действительно выглядела совсем ребенком, ребенком, которого я рисовал сотню раз, вот только было что-то такое в ее глазах, что-то такое… Мы почти не делали это в постели.
Но положить ее на кровать с балдахином… Нет, такого шанса упускать было нельзя. Там она сможет расслабиться, проявит большую готовность получать удовольствие, нежели доставлять его мне, как было в отеле, что и требуется доказать. В первый раз она, скорее всего, не получила удовольствия, но сейчас все обстояло иначе. И для меня было очень важно удовлетворить ее. Я хотел, чтобы она кончила, и она кончила, если, конечно, не была чемпионкой по имитации оргазма. На самом деле мы сделали это дважды. Второй раз оказался удачнее, хотя я был выжат как лимон и мне ужасно хотелось спать, а ночь уже была на исходе.
Однако спать подле нее, чувствовать ее обнаженное тело в этой всегда пустой кровати, холодной пустой кровати, хранящей воспоминания моего детства в Новом Орлеане, было удивительно приятно.
На большинстве снимков она выглядела очень серьезной. На лице ее не было улыбки, но она казалась мягкой, открытой и восприимчивой.
Изучив развешанные на стене фотографии, я лучше узнал строение ее лица: широкие скулы, чуть квадратная челюсть, по-детски туго натянутая кожа вокруг глаз. На снимках веснушек было не видно, но я знал, что они есть.
Лицо скорее детское, чем женское. И все же я целовал ее грудь, ее соски, тонкие волосы на лобке, чувствовал ее промежность в своей руке. Хмм… Настоящая женщина.
Мне вспомнился анекдот, который я услышал несколько лет назад в Голливуде. Я приехал туда для завершения сделки по ремейку телефильма: экранизации романа моей матери, умершей много лет назад, – и мой агент с Западного побережья Клер Кларк пригласил меня на обед в пафосный «Ма мезон».
Тогда весь город только и говорил, что о польском режиссере Романе Полански, арестованном якобы за связь с девочкой-подростком.
«Ну, слышали шутку? – спросила меня мой агент. – Возможно, ей и тринадцать, но тело у нее как у шестилетней».
Я тогда чуть не умер от смеха.
Но в случае Белинды все обстояло по-другому: у нее было лицо шестилетней девочки.
Мне не терпелось тут же начать рисовать – у меня в голове созрел план целой серии, – но я так за нее волновался, что все валилось из рук.
Я знал, что она вернется, конечно вернется, должна вернуться сюда. Но что она делает сейчас? Думаю, родители не могли волноваться за нее так, как я, даже если бы родители и знали о моем существовании.
В субботу, ближе к вечеру, я уже больше не мог сидеть сложа руки. Я отправился в Хейт, чтобы попытаться ее найти. Жара еще не спала, тумана еще не было, и я решил не поднимать верх своего старенького родстера «эм-джи», пока тащился по Дивисадеро до парка и обратно, обшаривая глазами толпы гуляющих, покупателей, уличных торговцев и бродяг.
Говорят, что Хейт переживает второе рождение, все больше ресторанов и бутиков строится там, где после нашествия хиппи в шестидесятых остались одни трущобы, то есть близится новая эра. Но я что-то не замечаю особых перемен к лучшему. Да, в этой части города есть особняки Викторианской эпохи, которые после реставрации предстанут во всем великолепии, и, конечно, магазины – модной одежды, игрушек и книжные, – способствующие притоку денег.
Но на окнах нижних этажей все еще красовались решетки. А на углу улицы околачивались психи и нарки, осыпавшие прохожих непристойной бранью. На ступеньках и в дверях топтались подозрительные личности. А стены обезображены граффити. Молодые люди, дрейфующие из кафе в кафе, выглядят крайне неопрятно и одеты в дешевое тряпье. Да и сами кафе имеют весьма неопрятный вид. Столики засалены. Отопления нет и в помине. Куда бы ты ни повернулся, везде мерзость запустения.
Нет, место, конечно, интересное. Спорить не буду. Но больно уж негостеприимное.
Хотя гостеприимным оно никогда и не было.
В незапамятные времена, когда я только обзавелся мастерской в Хейте, еще до того как сюда повалили дети цветов, здесь был унылый, неприветливый район города. Торговцы никогда не поддерживали разговора с покупателями. Ты не знал своих соседей снизу. Решетки были толстыми. Здесь обитали люди, которые арендовали жилье у хозяев, предпочитавших жить в пригороде.
Район Кастро в центре города, где я в результате обосновался, был совершенно другим местом. Кастро производил впечатление маленького городка, в котором семьи уже целый век жили на одном месте. А приток туда геев и лесбиянок в последнее время только способствовал созданию нового сообщества внутри старого. Кастро отличала особая добросердечная атмосфера, здесь возникало такое ощущение, что тут люди присматривают друг за другом. И конечно, здесь много солнца и тепла.
Туман, каждый день опускающийся на Сан-Франциско, рассеивается на вершине Твин-Пикс, как раз над Кастро. После сумрака и прохлады других районов здесь ты сразу видишь голубое небо над головой.
Хотя трудно сказать, каким может стать Хейт. Писатели, художники, студенты до сих пор приезжают сюда в поисках низкой квартирной платы, поэтических вечеров, лавок с подержанными вещами и книжных магазинов. Здесь полно книжных магазинов. И пошляться по ним в субботу днем иногда даже очень занятно.
Но не в случае, если вы ищете сбежавшую девочку-подростка. Тогда район этот становится настоящими джунглями. Каждый бродяга кажется потенциальным сутенером или насильником.
Я не нашел ее. Я припарковал машину, пообедал в занюханном маленьком кафе – холодная еда, небрежное обслуживание, какая-то девица с болячками на лице разговаривает сама с собой в дальнем углу – и побрел прочь. Я не мог заставить себя показать ее фото встречным ребятишкам, спросить их, не видели ли они ее. Считал себя не вправе это делать.
Вернувшись домой, я понял: лучший способ не думать о ней – это попытаться ее нарисовать. Я поднялся в мастерскую, просмотрел ее фотографии и тут же приступил к написанию картины. «Белинда на карусельной лошадке».
В отличие от большинства художников я не растираю краски. Я покупаю самые лучшие, что имеются в наличии, и выдавливаю краску прямо из тюбиков, поскольку масла там уже достаточно. Иногда я чуть-чуть разбавляю ее скипидаром. Мне нравится, когда краска густая. Нравится, чтобы она ложилась плотно и текла, если только я так хотел.
Что касается холстов, то я предпочитаю большие, а маленькие использую, если работаю во дворе или в парке. Причем они уже натянуты и загрунтованы специально для меня. И у меня под рукой всегда имеется приличный запас, так как обычно я тружусь сразу над несколькими проектами.
Итак, приступить к написанию картины для меня означает выдавить на палитру краски земли: желтую охру, жженую сиену, умбру, багровую и карминную, – а потом взять одну из сотни приготовленных кисточек. Можно, конечно, предварительно делать эскизы, но это не для меня. Я пишу сразу alla prima, по сырому, то есть за несколько часов полностью покрываю поверхность холста.
Точно воспроизводить натуру получается у меня чисто автоматически. Перспектива, пропорции, иллюзия трехмерного пространства, то есть все, чему меня в свое время учили, для меня не проблема. Я уже в восемь лет умел рисовать с натуры. К шестнадцати я мог в течение полудня написать маслом портрет друга или за ночь на полотне четыре на шесть футов вполне реалистично изобразить лошадей, ковбоев и ферму.
Скорость всегда имела для меня решающее значение. Лучше всего у меня получается, когда я работаю максимально быстро. Если я вдруг остановлюсь, чтобы подумать, как лучше нарисовать переполненный трамвай, который спускается с горы под ветвями качающихся на ветру деревьев, то застопорюсь, поскольку упущу момент вдохновения, если можно так выразиться. А потому я делаю решительный шаг. Я творю. И вот через полчаса – пожалуйста, получите свой трамвай.
А если мне что-то не нравится, я выкидываю картину. Один из верных признаков того, что у меня ничего не получается, что я в творческом тупике, – неспособность вовремя закончить свое произведение.
Мой учитель рисования – неудавшийся художник, боготворивший агрессивные абстрактные работы Мондриана и Ханса Хофманна, [2]2
Пит Мондриан (1872–1944) – голландский художник; считается самым крупным представителем «геометрического течения» в абстрактном искусстве. Ханс Хофманн (1880–1966) – американский художник немецкого происхождения, представитель абстрактного экспрессионизма.
[Закрыть]– заявил, что мне следовало бы сломать правую руку. Или начать рисовать исключительно левой.
Я его не слушал. По-моему, это все равно что уговаривать молодого певца, берущего высокие ноты, начать фальшивить, чтобы вложить в пение больше души. Как всякий художник-реалист, я верю, что точно переданный образ говорит сам за себя. Я свято верю в незыблемость этого постулата. Магия произведения искусства кроится именно в правильно выбранных композиции, световых акцентах и цвете. Точность вовсе не лишает его жизни. Было бы глупо так считать. А в моем случае некоторый налет таинственности просто неизбежен.
Несмотря на то что я всего-навсего ремесленник, никто не считает меня скучным или застывшим в своем творчестве. Наоборот, мои картины называют гротескными, барочными, романтическими, сюрреалистическими, избыточными, напыщенными, безумными и, конечно, хотя я и не захотел признаться в этом Белинде, порочными и эротическими. Но не статичными. И не слишком академичными.
Хорошо. Я сделал решительный шаг. Я изобразил ее густые золотые волосы, ее прелестные ножки, виднеющиеся из-под подола ночной рубашки, а в качестве фона наложил густые слои умбры, что, как всегда, сработало: лошадка была великолепна, и нежная ручка Белинды…
Случилось нечто невероятное.
Мне захотелось написать ее обнаженной.
Я сидел, обдумывая эту мысль. Я хочу сказать: что было не так в том, как она сидела на роскошной игрушке в этой белой ночной рубашке? Какого черта она там делала? Она не Шарлотта. До сих пор работа шла хорошо. На самом деле даже более чем хорошо, но все было неправильно. Я шел окольными путями.
Я снял картину с мольберта. Нет. Для нее это не годится.
А затем я машинально повернул лицом к стене все полотна с Анжеликой, которые написал для новой книги. Мне даже стало смешно, когда я наконец осознал, что же такое делаю.
– Отвернись, Анжелика, – громко сказал я. – Почему бы тебе, дорогая, не упаковать вещи и не убраться отсюда ко всем чертям?! Отправляйся в Голливуд, в «Рейнбоу продакшн»!
Я осмотрелся по сторонам.
Никакого смысла поворачивать к стене остальные холсты. Они были слегка гротескными, о них часто спрашивали репортеры, но их никто не видел – ни в книжках, ни в художественных галереях.
Они не имели ничего общего с моими иллюстрациями. И все же я трудился над ними многие годы. То были изображения моего старого дома в Новом Орлеане и разрушающихся особняков Гарден-Дистрикт, а также несчастных брошенных созданий в комнатах с отклеивающимися обоями и отваливающейся штукатуркой, где повсюду рыскают крысы и кишмя кишат тараканы. Конечно, весьма легкомысленно с моей стороны. Я хочу сказать, мне ужасно нравилось, когда заходившие в гости друзья ахали при виде этих картин. Чистое ребячество, конечно.
Естественно, буйство красок Нового Орлеана прослеживается во всех моих работах. Кованые ограды, пугающее изобилие цветов, фиалковое небо, просвечивающее сквозь паутину листвы.
Но на этих никогда не выставляемых картинах сады точно джунгли, а крысы и насекомые гигантского размера. Они заглядывают в окна, прячутся за увитыми диким виноградом трубами, рыскают по похожим на туннели узким улочкам в тени дубов.
Картины те темные и отдают сыростью, и если там и присутствуют оттенки красного, то только кроваво-красные. Похожие на морилку. Здесь весь фокус в том, чтобы не использовать черную краску, поскольку все и так кажется черным.
Я пишу те картины только под настроение, и работать над ними – все равно что мчаться на автомобиле со скоростью сто миль в час. Мчаться сломя голову.
Друзья нередко поддразнивают меня по этому поводу.
«Джереми спешит домой, чтобы рисовать своих крыс».
«Новая книжка Джереми будет называться „Крысы Анжелики“».
«Нет-нет. Скорее „Крысы Беттины“».
«Сэтерди морнинг рэт».
Мой агент с Западного побережья Клер Кларк однажды зашла в студию и, увидев крыс, заметила: «Господи боже мой! Не думаю, что нам удастся продать права на экранизацию такого» – и быстро спустилась вниз.
Райнголд – мой дилер – тоже в один прекрасный день посмотрел картины и заявил, что хочет немедленно выставить как минимум пять из них. Три в Нью-Йорке и две в Берлине. Он страшно возбудился. Но не стал спорить, когда я сказал: нет.
«Не уверен, что в них есть хоть какой-то смысл», – ответил я.
«Позвоните мне, когда сочтете, что наполнили их достаточным смыслом», – помолчав, кивнул он.
Но мне так и не удалось наполнить их достаточным смыслом. Они походили на отдельные фрагменты, которые я писал с мстительной радостью. И тем не менее была в тех картинах какая-то тревожная красота. Хотя их бессмысленность придавала им некую аморальность.
Какой бы ограниченной ни была тематика моих книг, они имели смысл и обладали определенной моралью. И обладали тематической направленностью.
Но хватит о картинах с тараканами и крысами!
Я даже не потрудился повернуть их лицом к стене, когда приступил к работе над картиной с обнаженной Белиндой на карусельной лошадке. И вовсе не потому, что считал ее тоже аморальной.
Мне такое даже в голову не пришло. Я все еще чувствовал ее сладкий женский запах на кончиках пальцев. Сейчас для меня она была воплощением наготы, доброты и любви. Она не была аморальной, и рисовать ее тоже не было аморальным. Вовсе нет.
Работа над картиной не имела ничего общего с изображением крыс и тараканов. Но что-то явно было не так, происходило нечто, не поддающееся определению, нечто опасное: в каком-то смысле опасное для Анжелики.
Я остановился, пытаясь навести порядок в голове. На меня накатило какое-то сумасшедшее чувство, и – черт побери! – мне оно понравилось. Мне понравилось ощущение опасности. Если бы я подумал чуть подольше… Нет, не стоит. Не нужно анализировать.
Но сейчас я хотел уловить характерные черты Белинды: ту легкость, с которой она легла со мной в кровать, то, как она откровенно наслаждалась любовным актом. То был момент сбрасывания всех покровов. Открытость и раскрепощенность делали ее очень сильной.
Но ей не стоит волноваться по поводу картин, поскольку я их никому не покажу. И обязательно ей об этом скажу. Да уж, вот смеху-то будет, если кто-нибудь их все же увидит! Какой удар по моей карьере. Хотя нет, такого случиться не должно.
Я принялся рисовать ее лицо, с фотографической точностью выписывая каждую деталь. Причем работал с удвоенной быстротой, как делал всегда, когда трудился над темной картиной. Все шло просто замечательно. Слой за слоем я накладывал краски: плотные, густые и сияющие. Кисть легко и свободно скользила по холсту, являя взору ее ослепительные черты.
Тело, конечно, я писал по памяти: чуть великоватую для ее хрупкой фигуры грудь; маленькие нежно-розовые соски; редкие дымчатые волосы на лобке – не более чем размытый треугольник внизу живота.
Естественно, в картине были неточности. Но основной акцент я сделал на ее лице – лице девушки с характером. Я рисовал ее покатые плечи, точеные лодыжки, воссоздавая их в памяти, вспоминая свои прикосновения и поцелуи.
И это помогало мне творить чудеса.
Около двенадцати я уже практически завершил работу над огромным полотном, где она была изображена сидящей на лошадке. Я был настолько возбужден, что периодически отвлекался на то, чтобы попить кофе, закурить сигарету, походить по дому. К двум часам дня я дописал уже мелкие детали. Лошадка получилась очень похожей. Мне удалось передать резную гриву, раздувающиеся ноздри, уздечку с цветными камешками и облупившейся золотой краской.
Картина была завершена, полностью завершена. Как и все мои работы, она отличалась фотографической точностью. Белинда, сидящая в тусклом, бронзовом рембрандтовском свете: призрачная, но очень реальная, хотя и написанная в слегка стилизованной манере при бережном сохранении каждой детали.
Я не стал бы ничего менять, даже если бы она прямо сейчас вошла в комнату и начала позировать мне обнаженной. Все было как надо. Это действительно Белинда – маленькая девочка, которая дважды занималась со мной любовью, очевидно, потому что ей так захотелось. Белинда, сидевшая обнаженной на лошадке, смотревшая на меня в упор и спрашивавшая: «Отчего ты чувствуешь себя таким виноватым?»
Потому что я использую тебя, моя дорогая. Потому что художник использует все.
Вернувшись на следующий день после безуспешных поисков по Хейт, я обнаружил в почтовом ящике от нее записку: «Приходила. Ушла. Белинда».
Впервые в жизни я чуть было не проломил стену рукой. Я тут же положил ключи от дома в конверт, написал на нем ее имя и бросил в почтовый ящик. Там она точно их найдет. Конечно, их мог найти кто-то другой и обчистить дом. Мне было плевать. Мастерская, где хранились основные работы, запиралась на замок, так же как и фотолаборатория. Что до остального: кукол и прочего, – пусть берут себе на здоровье.
Когда пробило девять, а она так и не появилась и даже не позвонила, я снова принялся за работу.
На сей раз она стояла на коленях обнаженная возле кукольного дома. Как всегда, много времени ушло на то, чтобы написать крытую дранкой крышу, пряничные окна, кружевные занавески. Но все это было не менее важно, чем она сама. А затем пришла очередь окружающей обстановки: пыльных игрушек, бархатной тахты, обоев в цветочек.
С рассветом работа была закончена. Я нацарапал шпателем дату на еще не высохшей краске, прошептал: «Белинда» – и заснул прямо на узкой кушетке под палящими лучами солнца, прикрыв голову подушкой, поскольку на большее был не способен.







