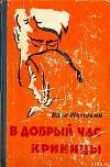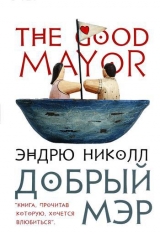
Текст книги "Добрый мэр"
Автор книги: Эндрю Николл
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 24 страниц)
– Гомер… – Это был полу-вопрос.
– Вы говорили, что хотели бы, чтобы в вашем доме в Далмации был Гомер. Когда вы выиграете в лотерею.
– Я не очень-то много читаю, Тибо.
– Это не важно – читать-то будете не вы, забыли? Вы будете лежать в прохладной воде и пить красное вино, а я буду угощать вас оливками.
Агата улыбнулась, поднесла книгу к лицу и вдохнула ее запах.
– Пахнет, как на пляже. Как на пляже в солнечный день. Спасибо. Очень милый подарок. Я сохраню его в целости и сохранности до тех пор, пока вы не захотите почитать мне вслух.
– Можно было бы прямо сейчас, – предложил Тибо.
– Нет-нет, сейчас уже принесут спагетти. Кстати, я могу вам кое-что показать.
– Моя очередь получать подарки? – с надеждой в голосе спросил Тибо.
– Увы. У меня для вас ничего нет, но я могу поделиться с вами вот этим, если вы не против. – Агата достала из сумочки записную книжку, такую пухлую, словно между всеми ее страницами были положены закладки из плотной бумаги. – Вот, смотрите: это и есть мой домик на побережье Далмации. Я все время ношу его с собой. Там вы и сможете почитать мне Гомера.
Агата перелистнула несколько страниц записной книжки и показала Тибо вырезанные из журналов фотографии.
– Видите, я хочу, чтобы у парадной двери стояли вот такие большие цветочные горшки с лавандой и розмарином. А между плитками садовой дорожки должен расти тимьян.
Тибо вспомнил угольную пыль между камнями брусчатки в порту, проституток и мужчин в тени подворотен.
– В детстве я собирала такие вырезки и менялась ими с подружками на детской площадке. Их можно было купить в газетном киоске. Мне нравились картинки с толстыми ангелочками, которые опираются локтями на облака и выглядят чем-то недовольными, как господин Гильом.
Тибо перелистнул страничку и показал пальцем на следующую картинку.
– А это что? Расскажите.
Но в этот момент к столику подошел официант с двумя огромными тарелками спагетти.
– Penne pikante, – объявил он и совершил над тарелками обычные магические пассы перечницей и теркой для пармезана.
– Вот такой я хочу камин, – сказала Агата, когда официант удалился, – достаточно большой, чтобы можно было греться зимой, не боясь сквозняков. Когда я перееду в Далмацию, то никогда больше не буду мерзнуть.
– Я этого не допущу, – вставил Тибо, и Агата едва не замурлыкала от удовольствия. Она слегка изогнулась и, порочно улыбаясь, проговорила:
– Не сомневаюсь.
Тибо почувствовал себя глупым и неловким – она перещеголяла его в нахальстве. Он хотел казаться порочным, опасным и бывалым человеком, но она видела его насквозь и показала это, сказав всего-то пару слов.
Тибо опустил глаза в тарелку.
– Кушайте, – сказал он и, помолчав, прибавил: – Очень вкусно, не правда ли?
– Да, вкусно, но я приготовила бы не хуже.
– Вы любите готовить?
– Да, и у меня это очень хорошо получается. Но в наши дни никто это не ценит, – Агата ткнула спагетти вилкой.
– Расскажите, что вы любите готовить.
Польщенная таким интересом, Агата снова заулыбалась.
– Я готовлю мужскую еду. Бабушка меня научила. У меня получается замечательная еда для мужчин.
Тибо застонал про себя. «О да, – подумал он. – И изтебя получилась бы отличная еда для мужчины. Ты и есть мужская еда!» Но он был уже достаточно учен, чтобы промолчать. Он только кивнул, поощряя ее продолжать.
– Мужчинам нравится что-нибудь мясистое, что-нибудь такое, во что можно вонзить зубы.
Тибо едва не взвизгнул.
– Вам что, смешно? – спросила Агата. – Не смейтесь, еда – это очень серьезно. Это способ показать человеку, что ты его любишь. Ну или, – она снова опустила взгляд в тарелку, – один из способов. Нужно отобрать правильные ингредиенты, выбрать хороший кусок мяса, правильно его приготовить и красиво сервировать. Так ты показываешь человеку, что хорошо к нему относишься. Так ты проявляешь свою доброту.
Тибо знал, что можно быть жестоким, абсолютно ничего не делая, не крича на человека и не избивая его, – достаточно только не давать ему шанса проявить свою доброту. Он положил ладонь на руку Агаты.
– А что бы вы приготовили для меня?
Агата немного подумала.
– Я сварила бы вам рыбный суп – нет, мясной суп. Затем потушила бы кролика в сметанно-горчичном соусе по своему фирменному рецепту, и еще приготовила бы большой рисовый пудинг с мускатными орешками и изюмом.
– Этак я раздамся не хуже, чем пудинг.
«Ну нет, я бы этого не допустила, – подумала Агата. – Я бы держала тебя в форме, милый Тибо Крович. С тебя бы семь потов по ночам сходило». Но вслух она сказала другое:
– Ну, вам не помешало бы немножко поправиться. В любом случае, господина Гильома вы догоните еще не скоро.
– Да уж. Но сейчас мне что-то не хочется десерта. Уверен, Мама Чезаре кладет нам особенно большие порции, чтобы показать, что мы ее любимые клиенты. А вы закажите что-нибудь, если хотите.
– Нет, я тоже наелась. Приготовлю вам кофе в Ратуше.
Когда Тибо подошел к стойке, чтобы расплатиться, Мама Чезаре вышла из-за сияющей кофейной машины, заулыбалась, закивала и стала рассказывать, как ей приятно их видеть и как мило с их стороны, что они заходят, и как хорошо они выглядят. Потом она поманила Агату поближе к себе, и Тибо вежливо отошел к двери, чтобы не слышать, о чем они говорят.
– Приходи ко мне в гости поскорее, – сказала Мама Чезаре. – Приходи сегодня вечером.
– Сегодня я не могу, – ответила Агата. Это была неправда. Она вполне могла прийти. У нее не было никаких причин оставаться дома. Однако в настойчивости Мамы Чезаре было что-то такое, от чего Агате хотелось проявить непокорность.
– Тогда приходи, когда сможешь. Приходи поскорее.
От этих слов Агате стало грустно и стыдно.
– Я приду. Скоро приду, – сказала она.
Они шли рука об руку по Замковой улице, запруженной выбравшимися в поход по магазинам домохозяйками и служащими, возвращающимися после обеда на работу.
– Надеюсь, вам понравилась книга, – сказал Тибо.
– Я уже люблю эту книгу.
Это слово! Оно прорезало гомон толпы, словно звон монет или рев младенца. Это было всего лишь слово – слово, произнесенное на людной улице, но оно заслуживало большего, чем «эту книгу». Оно заслуживало того, чтобы за ним следовало меньше звуков. После него должно было стоять одно слово, а не два.
– Я люблю эту книгу, – повторила Агата. Только так можно было заглушить звон этого слова.
– Мне тоже понравилась ваша книжка.
Она удивленно посмотрела на него, ожидая продолжения.
– Ваша книжка. Записная. Та, в которой ваш дом.
– А!
– Она очень милая.
– Да, действительно. – В голосе Агаты почему-то слышалась нотка разочарования. – Я ношу с собой целый дом, а в нем – лотерейные билеты. Иногда достаю, чтобы посмотреть на них. Грею о них руки. Это словно маленький лучик надежды, спрятанный в моей сумочке.
Если Тибо и почувствовал, сколько печали было в этих словах, он никак этого не показал. Он сказал:
– Когда вы показывали мне эту книжку, вы сказали, что хотите поделиться со мной. И мне хотелось бы, если позволите, разделить ее с вами. Внести свой вклад. Находить вещи, которые вам нравятся, и помогать вам обустраивать ваш дом – пока вы не выиграете в лотерею и не приобретете его на самом деле. Если вы не против.
– Я не против, – сказала Агата. Они как раз дошли до площади.
~~~
После этого жизнь стала состоять главным образом из обедов. Утренние часы они проводили в ожидании обеденного перерыва, а после него смеялись, вспоминая то, над чем смялись за столом. А за столом они всегда смеялись и говорили обо всем на свете. Говорили о книгах: Тибо был эксперт в этой области. Он читал буквально все и щедро делился с Агатой своими знаниями. Говорили о еде: в этой области экспертом была Агата. Любое блюдо, которое подавали в «Золотом ангеле», она могла бы приготовить лучше. Вскоре она снова начала приносить на работу голубой эмалированный контейнер: она клала туда еду, приготовленную для Тибо, чтобы он разогревал ее у себя дома на ужин. Хватит ему питаться селедкой и картошкой. И еще говорили они о жизни, о грусти и об одиночестве: оказалось, что в этой области эксперты оба. Но у каждого была своя специализация. Тибо знал, что значит быть одиноким, когда ты один, Агата знала, что значит быть одинокой вдвоем.
Тибо дарил ей подарки, всякие милые глупости, которые, как ему казалось, могут ее порадовать: рахат-лукум (она брала плотные розовые кусочки двумя пальцами и, к его восторгу, обволакивала их губами), сокровища из пыльных углов лавки старьевщика, бессмысленные пустячки, которые значат так много. Почти каждый день Тибо являлся на работу с каким-нибудь подарком.
Каждый месяц он покупал ей новую пачку лотерейных билетов, и каждый раз по ним не удавалось выиграть ни марки. Но это не имело значения. За обедом они все равно строили планы на будущее. Они размышляли над картами Далмации из старого путеводителя Бедекера, который Тибо обнаружил в книжной лавке на улице св. Вальпурнии. Они извели бесчисленное множество салфеток, рисуя разнообразные варианты планировки дома, который Агата купит, когда выиграет в лотерею. Здесь – нет, лучше здесь – будет ванная, а рядом – лоджия с видом на залив и скалы вдалеке. Кухня должна быть такой-то, а гостиная (с камином на случай холодной зимы) будет здесь. И еще кладовка для оливок и библиотека для Гомера. Иногда Тибо приносил с собой иллюстрации, вырванные из мебельных каталогов, и они обсуждали, как лучше обставить дом. В их воображении он уже разросся до целой семейки приземистых белых корпусов под красными черепичными крышами с широкими карнизами и общей тенистой верандой, выходящей на юг.
Внутри дома стоят огромные уютные кожаные диваны, за огромные деньги вывезенные из лондонских клубов, где их целое столетие обкуривали дорогими сигарами (а порой обливали бренди) английские джентльмены. Пол устилают яркие афганские ковры. Двойные двери с резными стеклами, заключенными в золоченые рамы в стиле рококо (похищены из «Золотого ангела») ведут из гостиной прямо в спальню. Стены спальни оклеены обоями с узорами из пышных роз, а окна укрыты многослойными шторами из муслина, чтобы смягчать ярость летнего солнца. Засидевшись однажды над равиоли, они решили, что постельное белье должно быть из белого хлопка, и отобрали набор простых строгих скатертей для обеденного стола. Хрусталь, постановили они, не нужен. Агата взяла со столика кофейни высокий узкий стакан из толстого прессованного стекла. Лучи солнца, проходя сквозь него, приобретали зеленоватый оттенок. После двадцати лет ежедневной мойки стенки стакана поцарапались и истерлись, и теперь напоминали кусочки морского стекла на берегу.
– Вот какое в Далмации будет море, – сказала Агата. – Нам нужны именно такие стаканы. К чему нам затейливые фужеры? Нам нужны стаканы, которые будут подскакивать, если их уронить на пол – только побольше, чем эти, чтобы вмещалось больше вина. Я собираюсь лежать в ванне долго, очень долго.
Представив себе Агату, лежащую в ванне, нарисовав в воображении, как вода дрожит и завивается в водоворотики вокруг ее бедер, грудей, живота, Тибо вздрогнул от сладостного волнения. Вечером того дня он зашел в аптеку и купил для нее упаковку ароматного мыла.
По вечерам Агата готовила у себя на Александровской улице мужскую еду, чудесные яства, а утром приносила их на работу в эмалированном контейнере или в горшочках, которые в трамвае держала на коленях. Отдавая их Тибо, она говорила: «Съешьте это», или: «А вот вкусный суп», или: «Попробуйте этот пирог. Вы совсем не заботитесь о себе».
Вечером, когда Агата стояла у плиты и думала о Тибо, он сидел у себя на кухне, ужинал и думал о ней. Вечером, садясь за стол, чтобы съесть приготовленные ею кушанья, Тибо размышлял, помнит ли она те свои слова о еде и о любви. И открывал вечернюю газету.
Вечером, переливая суп в чистый горшочек, который Тибо вернул ей утром, Агата размышляла, помнит ли Тибо ее слова о еде и любви. И выливала остатки в тарелку Стопака.
И это значило, что каким-то непостижимым образом они все время были вместе, и на работе, и дома; и при этом они все время думали: «Это должно случиться».
Они шли под руку по Замковой улице по направлению к «Золотому ангелу» и думали: «Это должно случиться сегодня».
На обратном пути они спешили пересечь продуваемую ледяным ветром Ратушную площадь и думали: «Это должно случиться сейчас».
Каждый вечер, стоя у раковины в пустой кухне, Агата говорила себе: «Это должно случиться завтра».
Вытирая полотенцем свежевымытую тарелку, в которой Агата передала ему пирог, Тибо шептал: «Я знаю, это случится завтра».
В долгие выходные, когда обедов в «Золотом ангеле» не было, они бродили по рыбному рынку, часами разглядывали витрины универмага Брауна или бесцельно разгуливали по парку имени Коперника, надеясь, что могут случайно (по чистому стечению обстоятельств, вы же понимаете) встретиться, и каждый из них снова и снова повторял: «Это должно случиться».
Когда Тибо приносил ей консервированные оливки (которые она не любила), порванный путеводитель Бедекера с картами Далмации, окна, занавески и орнаменты для ее записной книжечки, когда он входил в кабинет, когда соприкасались их руки, лежащие на скатерти, Агата понимала: это должно случиться.
Когда Агата приходила на работу, источая аромат особенного мыла, которое он купил для нее, когда она открывала коробочку с рахат-лукумом, зажимала кусочек между указательным и большим пальцами, обволакивала его губами, смотрела на Тибо взглядом, источающим удовольствие, и ничего не говорила, когда в воздухе плавало благоухание «Таити», когда она входила в кабинет, когда соприкасались их руки, лежащие на скатерти, Тибо понимал: это должно случиться.
И Тибо, сидя у себя дома и слушая, как осенний ветер тихо звонит в колокольчик у калитки, и Агата, лежа в холодной постели и представляя, что это не ее руки трогают ее тело, – оба говорили: «Это должно случиться. Скоро».
Но никто из них, ни добрый мэр Крович, ни госпожа Агата Стопак, никогда не говорили: «Сегодня я это скажу!» Ни разу за два месяца с лишним. Ни в конце сентября, ни в октябре, ни в ноябре, когда стены в универмаге Брауна украсили гирляндами и заводные птицы запели на его почти уже легендарной рождественской ели, ни в декабре, когда Агата начала терять терпение.
По правде сказать, госпожа Агата Стопак была раздосадована и даже немного злилась. Возможно, причиной этого отчасти было время года. Было холодно, а Агата терпеть не могла мерзнуть. И еще она терпеть не могла топать на работу в галошах, а не в своих любимых туфельках, которые так удачно подчеркивали форму ноги. К тому же декабрь – конец года. Это огорчало ее. Это означало, что начнется еще один год со Стопаком, еще один год в пустой постели (если не считать Ахилла), еще один год без ребенка и без любви.
И вот однажды утром, пока Агата шла на работу в холодных резиновых галошах, она разожгла в себе настоящую ярость. Еще только проснувшись, она заметила, что где-то рядом с сердцем тлеет маленький злой уголек. В трамвае она неустанно его раздувала, а сойдя на Замковой улице, подложила в огонь несколько тонких «Да что с ним такое?» и хорошенько высушенных «Или дело во мне?», а сверху полила эту охапку горючим «Он что, не видит?» К тому моменту, как она села за стол, пламя полыхало вовсю.
Сев за стол, Агата стряхнула галоши. Они отлетели в сторону и косолапо застыли у стены, словно бы некую невидимую школьницу поставили в угол за провинность. Когда пришел Тибо и весело, как всегда, с ней поздоровался, она в ответ промолчала. Тибо успел дойти почти до двери своего кабинета, прежде чем понял это. Тогда он остановился на пороге, оглянулся и спросил:
– С вами все в порядке?
– Все отлично, – холодно ответила она.
Тибо подошел к ее столу.
– Точно?
– Несомненно. Что могло со мной случиться? Все отлично.
– Хорошо, – сказал Тибо, ушел в свой кабинет и сел за стол.
Агата пришла через несколько минут. Она бросила на стол перед Тибо пачку писем и протянула ему фарфоровую миску.
– Пирог с рыбой.
Тибо взял миску и улыбнулся.
– Спасибо, Агата. Вы меня балуете.
– Несомненно. Мы пойдем сегодня обедать?
– Конечно.
– Конечно? Почему «конечно»? Вы меня еще не приглашали! – И Агата решительно вышла из кабинета.
Тибо вздохнул, встал и пошел за ней.
Она уже сидела за столом и резкими движениями раскладывала бумаги по стопкам.
– Простите меня, – сказал Тибо. – Вы совершенно правы. Я не должен был считать ваше согласие чем-то само собой разумеющимся.
– Хм! – сказала на это Агата.
– Агата, если у вас нет других планов, я был бы счастлив составить вам компанию за обедом.
– Да. Хорошо. Было бы славно.
– Агата, я сделал что-то не так?
Агате чуть не пришлось в буквальном смысле слова прикусить язык. Ей хотелось вскочить со стула, схватить его за лацканы пиджака и закричать: «Тибо, ты НИЧЕГО не сделал. Целых три месяца сплошных обедов – и ты не сделал ровным счетом ничего. Я что, невидимка? Ты меня не видишь?» Однако вместо этого она сказала:
– Нет, Тибо. Вы ничего не сделали.
– Точно?
– Да.
– Вы уверены?
– Абсолютно.
– Мне нужно сходить на заседание библиотечного комитета. Оно займет все утро.
– Да.
Больше она ничего не сказала и даже не посмотрела на него, а только положила в пишущую машинку новую стопку бумаги с эмблемой Городского Совета.
– Хорошо. Тогда до встречи в час.
~~~
На заседании библиотечного комитета Тибо лишь краем уха прислушивался к дискуссии членов Совета о том, сколько книг следует заменить в этом году, что делать со старыми и какие купить новые, и следует ли штрафовать школьников, если они слишком долго задерживаются с возвратом. Он с беспокойством думал об Агате и вспоминал свою вчерашнюю находку. Вчера вечером он обнаружил в одном журнале фотографию двух фарфоровых кошечек, разрисованных пышными розами и с глазами из зеленого мрамора. Сейчас они, вырванные из журнала со всей возможной аккуратностью и готовые попасть в Агатину записную книжку, лежали у него в бумажнике. Они ему помогут, решил Тибо. Что бы там ни случилось, он все исправит. Все снова будет хорошо.
Едва заседание, наконец, закончилось, он поспешил к себе. Агата уже ушла. Тогда он сбежал по лестнице, на ходу натягивая плащ, но не нагнал ее ни на площади, ни в толпе на мосту, и только пробежав половину Замковой улицы, увидел, как она заходит в «Золотого ангела».
Когда Тибо вошел в кофейню, Агата уже сидела у окна. Она заметила, как заулыбалась ему Мама Чезаре – заулыбалась и жестом указала на столик, за которым сидела, подперев голову рукой, Агата.
Агата вдруг поняла, что ее раздражает, что все замечают Тибо, приветствуют его и расцветают, когда он заговаривает с ними. А он воспринимает это как что-то само собой разумеющееся. Он не понимает, какой он замечательный. Он не замечает, что она считает его замечательным. Не замечает, что она его любит.
Она смотрела, как он пробирается к ней среди столиков, раскланиваясь и здороваясь на ходу – милый, как веселый щенок, и такой же глупый. Когда Тибо уселся, она поприветствовала его раздраженным вздохом. Он притворился, что не заметил. Она заметила, что он притворился, что не заметил.
– Что у нас сегодня вкусненького? – с улыбкой спросил Тибо. – Что у нас сегодня аппетитного, кроме вас, самой замечательной секретарши на всем белом свете?
«Аппетитная, значит? Так что же ты не утащишь меня в укромный уголок и не съешь, идиот ты этакий?»
– Суп. Сегодня суп. Когда я пришла, Мама Чезаре сказала, что сегодня будет суп.
– Хорошо. Какой?
– Откуда я знаю?
– Извините. Я просто спрашиваю.
– Послушайте. Я только что пришла. Она поздоровалась со мной и сказала, что сегодня будет суп. Я села за столик, и тут пришли вы. Вот и все. Больше я ничего не знаю.
Тибо состроил обиженную физиономию и замолчал. Агата читала по глазам его мысли: «Что мне на это сказать? Лучше вообще ничего не скажу».
Ей хотелось схватить зубочистку и ткнуть его в глаз. Ей хотелось вскочить на стол и заорать: «Черт побери, Тибо, скажи что-нибудь! Заметь меня!» А он все сидел, опершись локтями о стол, и смотрел поверх ее плеча на улицу. Она хмыкнула и подняла глаза к потолку.
Вскоре к столику подошел официант с двумя огромными тарелками минестроне в руках и двумя корзинками с хлебом на предплечьях; каким-то чудом он поставил все это на стол, не пролив ни капли.
Тибо благодарно кивнул официанту, вежливо улыбнулся и взял ложку.
– Выглядит замечательно!
Это была просьба о перемирии. Агата проигнорировала ее и, ни сказав ни слова, склонилась над тарелкой. Наступила тишина, только ложки гремели, как якорные цепи.
– О, чуть не забыл! – снова заговорил Тибо. Он откинулся на стуле и вытащил из кармана пиджака бумажник. – У меня для вас подарок.
– Надеюсь, это деньги.
– Нет, не деньги. А вам нужны деньги? Если нужны, я могу дать.
Агата покачала головой и позволила себе слизать языком каплю супа с уголка рта. Потом она протянула руку, словно говоря: «Давайте уж, что у вас там?» и вытащила кусочек бумаги из пальцев Тибо.
– Это для дома в Далмации, – сказал он. – Декоративные статуэтки. Кошки. Фарфоровые кошки с глазами из мрамора.
– Вижу.
Агата открыла сумочку, вытащила свою записную книжку, засунула в нее кошек и швырнула книжку на стол.
На лице Тибо снова появилось обиженное и озадаченное выражение, как у Ахилла, когда тот являлся домой с замечательной упитанной мышкой и обнаруживал, что хозяйка вовсе не в восторге от этого. Это был кусочек бумаги, всего лишь кусочек бумаги. Почему он думает, что она должна ахать и охать над каждой мелочью?
– Мы придумали вам замечательный дом, – сказал Тибо, похлопав по записной книжке. В голосе его звучало беспокойство.
– Да. Вы думаете, мы когда-нибудь туда попадем?
Тибо улыбнулся. Едва ли не все, что говорила Агата, могло вызвать у него улыбку.
– Я делаю все, что от меня зависит. Столько лотерейных билетов – и пока ни одного выигрыша. Ни единого джек-пота.
– Я не виновата. Это вы всегда покупаете пустышки. Вам следовало бы принести их все в магазин и потребовать свои деньги назад. Все равно… – она пристально всмотрелась в свою тарелку, – все равно, мне хватило бы для счастья и маленькой сырой квартирки у канала. Не обязательно ехать на побережье Далмации.
– Но вы достойны побережья Далмации.
Агата снова опустила ложку в суп.
– Я много чего достойна, но готова довольствоваться и чем-нибудь вполне обычным, лишь бы это что-то было моим. Лучшее – враг хорошего, не так ли?
Она взглянула на него, не в силах понять, как же он не понимает, что сейчас – самое время? «Я готова довольствоваться и чем-нибудь вполне обычным, лишь бы это что-то было моим», сказала она, и если бы он только предложил ей это обычное, оно сразу стало бы прекрасным и замечательным.
Но он промолчал, и оттого она взглянула на него по-новому.
Вокруг шла своим чередом жизнь: спешили от столика к столику официанты, коммерсанты торопились расправиться с обедом, люди на улице смотрели на низкое серое небо и думали, не пойдет ли снег, – и она знала, что если спросить у них, кто сидит за средним столиком у окна «Золотого ангела», каждый сказал бы: «Это добрый Тибо Крович». Но сегодня они ошиблись бы. Сегодня ответ был: «правильный Тибо Крович».
А ей был нужен добрый. И он мог бы поступить по-доброму. Он мог бы вскочить на ноги, опрокинуть, если нужно, стол, схватить ей и броситься с ней на улицу, словно спасая из горящего дома. Он мог бы спасти ее. Он мог бы унести ее в свой дом, пронеся сквозь покосившуюся калитку, мимо медного колокольчика, по дорожке из синей плитки, положить на кровать и спасать ее весь оставшийся день и всю ночь. Он мог спасать ее, пока сил спасать уже не осталось бы. Он мог бы спасать ее снова и снова, как ни один мужчина никогда не спасал ни одну женщину и не будет спасать впредь, спасать всеми способами, какие только сможет себе представить, и всеми способами, о которых не догадывался до этой самой минуты, а потом она предложила бы еще несколько собственных идей. Но он этого не сделал. Тибо Крович был мэром Дота, а ведь даже и вообразить невозможно, чтобы мэр Дота бегал по улицам с чужой женой на плече, даже если это его собственная секретарша, даже если она любит его так давно, что не помнит, когда это началось.
«Самое время» прошло. Оно испарилось на ее глазах – там, где «когда» становится «сейчас» и начинает стремиться назад в «тогда». Для этого достаточно секунды.
Сбитый с толку Тибо взял записную книжку с воображаемым домом и начал ее листать.
– Как тебе вот это? – спросил он, указывая на вырезку из журнала, на которой была изображена огромная ванна.
– Разноцветная, – сказала Агата.
– Что? Она же белая.
– Разноцветная, – сказала она, глядя ему прямо в лицо, и повторила это слово еще несколько раз, тихо-тихо, почти неслышно.
Тибо Крович был растерян. Он подумал, что у Агаты, возможно, нервное расстройство.
– С вами все в порядке? – спросил он.
– Все отлично, Тибо. – И Агата зачерпнула ложкой супу, но не донесла ее до рта, потому что боялась, что обольется. Ее рука дрожала. Дрожь сотрясала все ее тело. Глядя на нее, Тибо думал, что она вот-вот расхохочется, но на самом деле она изо всех сил сдерживалась, чтобы не заплакать.
– Как вам суп? – ни к селу ни к городу спросил Тибо.
– Мммм… Минестроне. – В голосе Агаты слышалось что-то вроде сарказма. – Вы знаете, из всех похлебок это самая… – В ее глазах была мольба, она снова и снова повторяла про себя: «Ради бога, Тибо, посмотри на меня. Посмотри на меня. Посмотри!»
– Разноцветная? – подсказал Тибо.
– Точно, Тибо! Разноцветная. – И она снова беззвучно зашевелила губами, повторяя: – Раз-ноцвет-ная. Раз-ноцвет-ная. Интересно, почему у нас в Доте не придумывают таких супов? Почему нам приходится завозить их из Италии, где и так тепло, где жизнь яркая и… – Она посмотрела ему в лицо и снова произнесла это слово: – Раз-ноцвет-ная.
Тибо неохотно признался себе, что не понимает правил этой игры, и решил развить тему супов.
– У нас есть окрошка, – сказал он. – Это хороший суп. Не хуже любого итальянского.
– На вкус она, как холодная земля. Словно ешь могилу. Но я готова признать, что окрошка, по крайней мере… – Она сделала паузу, достаточно долгую, чтобы он успел поднять глаза. – …раз-ноцвет-ная.
– Не понимаю, что это на вас сегодня нашло.
– Да, Тибо, это непросто!
Она еще раз неслышно произнесла: «Раз-ноцвет-ная», и в ее глазах заблестели слезы, потом бросила салфетку на стол, неловким движением схватила сумочку, вскочила на ноги и выбежала на улицу.
Тибо провел немало дождливых вечеров в «Палаццо Кинема», и знал, что как теперь ни поступить (окликнуть ее, выбежать на улицу или с непроницаемым лицом доесть суп), все одно будет клише. Через несколько секунд, ушедших на размышления о том, какой вид унижения предпочесть, он увидел, как Агата пробежала мимо окна.
Тибо решил доесть суп. Под взглядом официанта, устремленным на его затылок и покрасневшие уши, на это ушло ужасно много времени. Больше он ничего не заказал. Даже не обернувшись, он жестом подозвал стоявшего у стены официанта, попросил счет, а когда счет принесли, присыпал его горкой монет (куда большей, чем требовалось) и быстро вышел вон.
Было холодно. По Замковой улице и Белому мосту кружила первая в этом году поземка. Вместе с Тибо она добралась до площади, на которой рабочие выключали до весны фонтаны. Тибо потуже затянул пояс пальто, надвинул поглубже шляпу и посмотрел через реку, туда, где злое серое облако готово было поглотить купол собора. Еще не было двух, но почти во всех окнах Ратуши уже горел свет. Тибо поднялся по лестнице. Агаты на месте не было. Тикали часы. Ветер швырял в окна пригоршни ледяных гвоздей. Темнело. Тибо оставил дверь между кабинетами открытой, но Агата так и не вернулась. В шесть часов добрый мэр Крович прибрался на своем столе, закрыл ящик на ключ и ушел в ночь. Откуда-то из другого конца коридора доносилось погромыхивание ведра Петера Ставо – далекое и печальное, как клич последнего журавля, улетающего на юг.
На продуваемой ветром трамвайной остановке все молчали. Люди стояли в очереди, подняв воротники пальто и сдвинув шляпы набок, чтобы защититься от снега, и не обращали друг на друга внимания. Наконец из мрака выплыл трамвай, светящийся, словно лайнер посреди ночного океана. Очередь двинулась к двери и втиснулась внутрь. Один только Тибо, стоявший в самом конце, вскарабкался на верхнюю площадку. Он сидел, сгорбившись, на передней скамейке: ноги вытянуты, воротник поднят, руки в карманах – а ветер всю дорогу дул ему в спину.
Людям, сидящим на ярко освещенной нижней площадке, ничего не было видно в окна, но Тибо видел вырастающие из темноты дома, фонари, проплывающие так близко, что можно было, протянув руку, стряхнуть тонкую полоску снега с ободка, отцов и мужей, возвращающихся с работы домой, открывающиеся двери, за которыми в гостиных играют дети, окна теплых кухонь, запотевшие от пара, идущего от тарелок с супом.
Когда трамвай подъезжал к шестой остановке, Тибо встал. На плечах у него лежал тонкий слой снега, ограниченный прямой линией, оставленной спинкой скамейки. Когда трамвай замедлил ход и свернул за угол, добрый мэр Крович неуклюже слез по скользкой лестнице. Ветер болтал колокольчик на березе из стороны в сторону, так что он почти – почти – звенел.
Тибо посмотрел, как он качается в тусклом фонарном свете, и отчего-то, бог знает, отчего, в голове у него всплыло слово «заунывно».
– Заунывно, – сказал он, толкнув блестящий обод колокольчика кончиками пальцев. Колокольчик тихо звякнул. – Заунывно, – повторил Тибо.
Он приподнял завалившуюся калитку, так, чтобы ее можно было открыть, и ступил на садовую дорожку. Ее синие плитки уже почти исчезли под тонким слоем мокрого снега, и Тибо шел осторожно, почти не сгибая ноги, чтобы не поскользнуться. Его следы отпечатывались в снегу черными дырами.
Он не стал зажигать свет и в темноте прошел на кухню, там снял пальто и встряхнул его. Ошметки мокрого снега разлетелись по всему полу и немедленно начали таять. Перчатки он сунул в шляпу, а шляпу положил рядом с большой железной плитой – к утру будут сухие и теплые. Потом сел за стол, поужинал черным хлебом и желтым сыром. Прочитал газету. Потом решил, что пора ложиться спать. Он лежал в кровати и слушал, как шум ветра затихает и превращается в глубокую темно-белую тишину, которая приходит с большим снегопадом. Что это значило? Что это могло значить?.. Затем наступило утро.
Тибо протер запотевшее зеркало над раковиной и уставился на свое отражение. Ему вдруг показалось, что на висках слегка прибавилось седины. Он опустил кисточку для бритья в обжигающе-горячую воду, поболтал и потер об мыло. Зеркало снова запотело. Тибо снял с крючка полотенце и протер его.