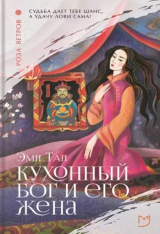
Текст книги "Кухонный бог и его жена"
Автор книги: Эми Тан
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 29 страниц)
Я попросила ее еще раз объяснить, чем она занимается, и она написала: «речевой терапевт, логопед-дефектолог для детей с задержкой развития». Я прочитала записку много, много раз, листок до сих пор лежит в моей сумочке, но я по-прежнему не могу произнести эту фразу. Наверное, Перл и меня теперь считает недоразвитой.
У обеих ее дочерей, конечно, нет никаких сложностей с английским. Когда старшей было всего два года, она подбежала ко мне в прихожей с криком: «Ха-бу! Ха-бу! Ха-бу приехала!» И я подумала: «Какая умница! Знает, как сказать “бабушка” на шанхайском».
А потом моя внучка сказала на английском: «А какие ты привезла нам подарки? И сколько? И где они?»
– Правда изумительно? – спросила Перл. – Она уже разговаривает полными предложениями, а большинство детей в ее возрасте пользуются одним – двумя словами. Она очень умная девочка.
– В чем же польза, когда ребенок умен в таком смысле? – спросила я. – Тебе бы научить ее себя вести и не выпрашивать подарков. Как я учила тебя.
Дочь посмотрела на меня с улыбкой, но нахмурившись.
– Ох, мам, – только и сказала она.
«Ох, мам», и все, и никаких споров.
Вот что я вспоминала, убирая ее комнату. Она у меня такая. А я – другая. Я всегда стараюсь быть очень вежливой, чтобы никого не задеть, и с родными обращаюсь так же, как с незнакомцами.
Вдруг моя рука наткнулась на что-то под кроватью. Ох уж эти внучки, так все разбрасывают, когда играют! Я потянула, и в руках у меня оказалась розовая пластиковая коробочка. Запертая – без ключа не откроешь. На ее крышке написано: «Мои тайные сокровища».
О, я вспомнила! Я подарила эту коробочку Перл. на день рождения, ей исполнялось десять лет. Тогда она открыла ее и заглянула внутрь.
– Она пустая, – сказала моя дочь. А потом посмотрела на меня так, словно я должна было это изменить.
– Ну конечно. Сейчас она пуста, но в нее можно класть всякую всячину.
Вероятно, коробочка показалась ей старомодной, как и туалетный столик. Но для меня эти вещи были очень современными. Я думала, они ей очень понравятся.
– И что же туда класть? – спросила она.
– Секреты, что-нибудь личное, американскую ерунду.
Она молча уставилась на крышку. Изображенная на ней девочка с конским хвостиком из желтых волос лежала на кровати, уперев ноги в стену, и болтала по телефону. Из-за этого мы тоже часто ругались – из-за бесконечных телефонных разговоров Перл.
Но сейчас я видела, что желтый хвостик закрашен черным, а сама коробка, некогда хранившая только разочарования, потяжелела. В ней было так много всего!
О, как я обрадовалась! Я могу открыть сокровища сердца моей юной дочери, которые она хранила от меня в тайне столько лет!
Я стала выдвигать ящики в поисках ключа. И не находила его. Я посмотрела под кроватью и нашла там пару старых китайских шлепанцев, с дырками над большими пальцами.
Тогда я решила сходить вниз и взять нож, чтобы вскрыть коробку. Но мои мысли понеслись вперед быстрее ног. Что там, внутри? Какие обиды и печали? Увижу я их – и что с ними делать? Что, если дочь, которую я найду в этой коробке, не имеет ничего общего с той, которую, как мне кажется, я воспитала?
Я пыталась определиться. Вскрывать замок или нет? Положить коробку на место или открыть позже? Обдумывая эти вопросы, я приглаживала растрепавшиеся волосы. Вдруг моя рука коснулась шпильки-невидимки, и все мои сомнения развеялись. Я вынула невидимку и вставила ее в замок коробки.
Под крышкой оказались две крохотные помады, розовая и белая, и украшения: серебряная цепочка с крестом, кольцо с фальшивым рубином в одном креплении и прилепленной жевательной резинкой в другом. Там было еще много всякого хлама, даже ужасного: тампоны, которые я велела ей не использовать ни в коем случае, голубая подводка для глаз, которой я тоже запрещала ей пользоваться. А на самом дне лежали глупости вроде объявления о «Дневной дискотеке Сэди Хокинс» и письма от ее подруги Дженет. Я помню эту девочку, ее мать позволяла ей постоянно думать о мальчиках.
Перл все время спорила со мной.
– Почему я не могу пригласить мальчика к Сэди Хокинс? Дженет идет, ей мама разрешила.
– И ты хочешь последовать примеру девочки без царя в голове? Ты хочешь слушаться ее мать? Да этой матери и дела нет до своей дочери!
И теперь все это снова проносилось перед моими глазами. Я открыла одно из писем Дженет. Что это? «Эй, чик-чирик. Он с ума по тебе сходит. Одурачь его. Пообжимайтесь».
Я была права! У этой девочки в голове гулял ветер.
А потом я увидела кое-что еще, и у меня перехватило дыхание. Там лежала маленькая открытка с изображением Иисуса, на обороте которой было написано: «Светлая память Джеймсу И. Лю». Там было еще много слов. И дата его рождения, 14 апреля 1914 года. И дата смерти, зачеркнутая черными чернилами. Сердитыми беспорядочными штрихами.
Мне стало тепло и грустно одновременно, как обычно чувствуешь себя, когда слышишь старые песни, которые почти забыл. Сердце готово плакать над каждой замолкающей нотой, а ты можешь только повторять: «Все так! Все было именно так!»
И только тогда я поняла, что была не права. Я захотела сейчас же позвонить Перл и сказать ей: «Теперь я знаю. Ты горевала. Ты оплакивала, пусть незаметно, но внутри это было. Ты любила своего папу».
Но потом я вспомнила, что вчера Хелен пообещала раскрыть Перл мои тайны, мою ложь. Разве будет после этого дочь верить своей матери?
Я вытащила пылесос, чтобы собрать пыль, которую в суматохе разнесла вокруг. В прихожей вычистила ковер, пластиковую решетку, края коврика, выглядывавшие из-под решетки, потом подняла решетку и почистила коврик под ней тоже. Сам коврик под решеткой сохранил яркость цвета и походил на золотую парчу, а вот его края истрепались и выглядели грязными. И что бы я ни делала, они оставались такими. Их не удавалось отчистить, как и пятна на моей жизни.
Я села на диван и, когда настало утро, все еще сидела там, без сна, держа в руках письмо от Красотки Бетти. Я думала о всех случаях, когда Вэнь Фу мог умереть, должен был умереть: на войне, когда гибло столько пилотов, в автомобильной аварии, когда он врезался в джип и убил человека, когда коммунисты захватили власть и перебили Гоминьдан, во время «культурной революции». Смерть выкашивала сотни, десятки сотен людей, а он жил и жил. Сколько раз он должен был сойти в могилу!..
А теперь Красотка Бетти пишет, что Вэнь Фу умер в постели, в окружении семьи – второй жены и ее детей, брата и его жены – и друзей-пилотов.
Я даже могла представить себе, как их слезы падают на его лицо, как они гладят его по волосам, прикладывают грелки к холоде кипим ногам и причитают, безутешно взывая: «Не уходи! Не уходи!»
В письме говорилось, что он тихо скончался из-за слабости сердца в возрасте семидесяти восьми лет.
Я рывком разодрала бумагу пополам. Нет уж! Он прожил все это время из-за своего черного сердца. А ослабело сердце сейчас у меня. Я сидела на диване, плакала и кричала, отчаянно жалея, что меня не было возле его смертного одра, жалея, что его уже нет. Потому что я не смогу наклониться над ним, раскрыть ему пальцами веки и позвать его по имени. Не смогу сказать ему, что вернулась, чтобы он взглянул мне в глаза и увидел мое сердце. Чтобы плюнуть ему в лицо!
Только посмотрите, что он устроил, умерев! Даже мертвым он не дает мне покоя. А Хелен говорит: «Какая разница?» Что она собирается сказать своим детям? Как много она собирается им открыть?
Нет, конечно, я могу сама признаться своим детям, что до их отца была замужем за другим человеком. И что я ошиблась, выйдя за него, и мне это дорого обошлось. А теперь он мертв. Я могу сказать, что в этом браке у меня тоже были дети, но я их потеряла. Большая трагедия, но случилась она давно, тогда шла война. Я даже могу объяснить, что для того, чтобы попасть в эту страну, я притворилась, что замужем за их отцом. Мне пришлось пойти на этот шаг: коммунисты захватывали власть. Хелен пришлось солгать, чтобы меня прикрыть, а позже я солгала ради нее.
Представляю себе лицо Перл, которая и так смотрит на меня с опаской. Тогда я начну говорить, что нет, все не так плохо, как она могла подумать. «Я действительно вышла замуж за твоего отца – как только мы сюда приехали. А потом родились вы. Сначала ты, в тысяча девятьсот пятидесятом, а потом Сэмюэль, в пятьдесят втором. И мы бы так и жили-поживали, добра наживали, как в сказках, если бы ваш отец не умер».
Но даже если бы я так сказала, Перл бы всё поняла. Она догадалась бы, что я многого недоговариваю. Она увидела бы это по моим темным глазам, замершим рукам, дрожащему голосу. И промолчала бы, но поняла все, о чем я умалчиваю. Не лживые объяснения, а чистую правду.
А потом моя дочь раскусила бы самую страшную ложь, о которой не знает даже Хелен и не знал Джимми. Я сама старалась о ней забыть целых сорок лет. О том, что этот страшный человек, Вэнь Фу, и есть родной отец Перл.
Я пыталась представить себе, как расскажу все дочери, но всякий раз слышала ее голос, полный боли: «Я так и знала. Ты всегда больше любила Сэмюэля». Она никогда мне не поверит.
Но, может быть, я скажу ей: «Это неправда. Больше всего я любила именно тебя, больше, чем Сэмюэля и детей, которые родились до тебя. Я любила тебя, но ты не замечала этой любви, и, возможно, ты мне не поверишь. Но я знаю, что это правда, потому что так чувствует мое сердце. Ты причиняла мне боли больше, чем все остальные, и, наверное, я обошлась с тобой так же».
Я позвоню ей, как бы далеко она ни была, сколько бы это ни стоило. И начну так: «Я должна тебе кое-что сказать, и это не может ждать». А потом заговорю не о том, что именно произошло, а о том, почему это случилось и почему не могло сложиться никак иначе.
5. ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ МЕЛОЧЕЙ
Первым делом я сказала дочери, что боль в груди, сославшись на которую я срочно позвала ее к себе, прошла.
Но обеспокоенное выражение не исчезло с ее лица.
– Может, нам все-таки стоит показать тебя доктору? Так, на всякий случай, для пущей уверенности?
– Я и так уверена, – возразила я. – Сейчас мне лучше. И не придется платить доктору. Снимай пальто.
– Все же думаю, нам надо сходить к врачу.
– Сначала поешь лапши. Видишь, что я приготовила? Такой же суп, который ты ела в детстве, там много маринованной репы и чуть-чуть свинины, просто ради вкуса. Когда было холодно, ты ела его с большим удовольствием! – Я надеялась, что она вспомнит, как хорошо ей становилось после моего супа.
Перл сняла пальто. И села за стол.
– Расскажи, какая именно это была боль? – спросила она, уже отправляя в рот первую ложку.
– Не горячо?
– Нет.
– Не холодный?
– Нет, все в порядке. Честное слово.
Я налила ей еще супа и стала смотреть, как она его ест. А потом принялась рассказывать.
Я чувствовала эту боль много лет. Она приходит, когда держишь все в себе и ждешь, пока не становится слишком поздно. Мне кажется, я унаследовала это чувство, эту боль от матери. Она оставила меня, не успев объяснить почему. Думаю, хотела, но в последний момент просто не смогла. И, знаешь, я до сих пор жду ее возвращения и объяснений, почему все случилось именно так.
Я никогда не рассказывала тебе о моей матери? О том, что она бросила меня? Ох, это потому, что я и сама не хотела в это верить. Так что, может, поэтому я вообще не говорила тебе о ней.
Конечно, это не значит, что я о ней не думала. Я ее очень любила. Долгие годы хранила ее волосы, целых три фута, свернутыми, в отдельной жестяной коробочке. Я хранила их все это время, мечтая подарить ей, когда она вернется. Даже потом, когда я поверила, что ее нет в живых, я все равно их хранила, думая, что однажды смогу разыскать ее тело и воссоединить ее прах и эти пряди. Чтобы она в ином мире могла распустить волосы и обрести свободу.
Именно такой я запомнила ее: сидящей в своей комнате и распускающей волосы. Она позволяла мне их трогать.
Что еще сказать? Конечно, я плохо ее помню. Мне было всего шесть дет, когда она исчезла. Но некоторые моменты мне запомнились очень четко: тяжесть прядей, уверенность руки, когда она держала меня, то, как она чистила яблоко одним длинным завитком, который падал мне в ладонь желтой змейкой. Помнишь? Я научилась этому у нее, чтобы потом точно так же чистить яблоки для тебя.
Все остальные воспоминания о ней у меня спутаны. Однажды, уже после ее исчезновения, я увидела картину, на которой она была изображена. Ее рот на той картине казался мне незнакомым: слишком жесткий, с поджатыми губами. А глаза потерянные и грустные. В той нарисованной женщине я не узнала свою мать, но мне очень хотелось поверить, что это именно она, потому что больше у меня от нее ничего не осталось.
Я держала портрет на коленях, вглядываясь в ее лицо, но как бы я его ни наклоняла, глаза никогда не смотрели на меня, всегда в сторону. И нельзя было понять, о чем она думала, а догадаться сама я не могла. Чем были заняты ее мысли до и после написания портрета? Я не могла у нее спросить, как и задать вопросы, накопившиеся у меня за это время. Почему она так сердито разговаривала с моим отцом, но продолжала широко улыбаться? Почему по ночам ругалась с зеркалом, словно принимала свое отражение за кого-то другого? Почему сказала, что больше не может носить меня на руках и что мне придется научиться ходить самостоятельно?
Однажды, через несколько лет после ее исчезновения, когда мне было около десяти, я, рассматривая портрет, заметила на маминой щеке небольшое пятнышко плесени. Оно постепенно росло. Я взяла мягкую тряпицу, смочила ее водой и вымыла эту часть изображения, но щека стала лишь темнее. Тогда я стала мыть с нажимом и нечаянно стерла половину лица! Когда я это заметила, то плакала так, словно своими руками убила маму. После этого я не могла смотреть на картину без ощущения огромной потери. Потому теперь у меня нет даже портрета моей матери.
Все эти годы я пыталась вспомнить ее лицо, слова, которые она мне говорила, всё, что мы делали вместе с ней. Я помню ее тысячью разных способов – так говорят китайцы: йи ван, тысяча мелочей. Это, конечно, преувеличение, но я думаю о матери вот уже семьдесят лет, поэтому в моей памяти вполне могли собраться даже десять тысяч мелочей. Только ее образ наверняка изменился тоже в тысяче мелочей, менялся с каждым моим воспоминанием, так что я уже им не доверяю.
Это так грустно! Очень грустно терять того, кого любишь, потому что память о нем постоянно меняется. И со временем уже начинаешь задумываться: тот ли это человек? Ты не знаешь, что именно потерял, потому что память вместе с воображением создают тысячу мелочей, и ты постепенно перестаешь различать, где правда, а где ложь.
Но кое-что я помню отчетливо. Например, почему у меня такие ноги. Видишь, какие они тонкие? Никаких мышц на икрах. Мама носила меня на руках, даже когда мне исполнилось шесть, вот как она меня баловала. Я отказывалась пройти сама даже десять шагов. И не потому, что болела или была слабой. Мне всегда хотелось видеть мир с высоты ее роста, как видит его она. Вот почему я не слишком много помню о тех днях, когда мы жили в роскошном шанхайском доме. Ни этого дома, ни людей, его населяющих, я не знала так, как ребенок, который ходит повсюду собст-венными ногами, обследуя угол за углом. Вспоминая то время, я вижу только комнату матери, которую делила с ней, и длинную лестницу, ведущую к прихожей с. полом, отделанным узорчатым камнем.
Я до сих пор вижу эту крутую лестницу, которая спиралью спускается с одного этажа на другой – мама, наклонившаяся над перилами, чтобы заглянуть на этаж под нами, держит меня на руках. Кажется, там жили другие жены отца, но это лишь мои догадки. Мама велела мне сидеть тихо, не задавать вопросов и не смеяться. И я так старалась не ослушаться, что даже задержала дыхание, хотя мне очень хотелось расплакаться и сказать, что мне очень страшно смотреть на ступеньки под нами. Потом мы услышали голоса слуг и отпрянули от перил. Мы обе одновременно перевели дух, и я крепко ухватилась за маму, радуясь, что мы не упали.
В любой час, когда я думаю об этой лестнице, перед моим внутренним взором встает комната, а потом еще что-то, и еще, пока память не доходит до того дня, когда мама ушла. Или просто все мои воспоминания о ней сжались в один день.
Посмотрев вниз с лестницы, мы вернулись в нашу комнату. Было еще очень рано, все остальные члены семьи спали. Я не помню, почему мы проснулись, и в голову мне не приходит никаких объяснений. Судя по цвету неба, оставался примерно час до появления служанки с завтраком.
Мама играла в настольную игру с красными и черными фишками, разложенными на доске. Она говорила, что это иностранная игра, которая называется чиу ке — «тюрьма и наручники».
И только сейчас, вспомнив об этой игре, чиу ке, я понимаю, что речь могла идти о шашках. Мама передвигала фишки по доске, объясняя, что разные цвета означают людей, воюющих под руководством разных командиров и пытающихся взять друг друга в плен. Но когда она попыталась растолковать правила подробнее, мой детский разум не справился.
Я тогда не знала, как сказать, что запуталась, поэтому просто пожаловалась, что проголодалась.
Я могла так себя вести с мамой: жаловаться и требовать. Она никогда не была со мной строгой, как некоторые матери. Она обращалась со мной даже мягче, чем я с тобой. Да, представляешь? Если я чего-то хотела, то не сомневалась, что получу, даже не задумываясь, что мне придется потом за это расплачиваться. Как видишь, хоть я и знала мать совсем недолго, она успела показать мне, что означает полностью доверять кому-то.
Жалуясь на голод, я уже знала, что на верхней полке маминого высокого шкафа припрятана жестяная коробочка с английским печеньем. И она достала ее. Это печенье, не слишком сладкое и не слишком мягкое, любили мы обе. Маме нравились многие иностранные вещи: мягкая мебель, итальянские автомобили, французские перчатки и обувь, белый русский суп и грустные песни о любви, американский рэгтайм и часы «Гамильтон». Но всему остальному полагалось быть китайским.
Отец владел несколькими фабриками по пошиву одежды, и однажды один из его иностранных клиентов подарил маме флакон французских духов. Она улыбнулась и сказала дарителю, что он, такой крупный и влиятельный человек, оказал ей честь этим подарком. Те, кто знал мою мать, сразу поняли бы, что ей этот человек не нравится, раз она назвала его «крупным и влиятельным». Позже она дала мне понюхать пустую бутылочку, сказав, что та воняет мочой. Разумеется, мне тоже показалось, что она пахнет именно так.
– Зачем иностранцы платят большие деньги за то, чтобы покрывать себя такой вонью? – спросила она. – Почему бы им просто не мыться чаще? Непонятно.
Она вылила духи в свою ночную вазу, а мне отдала круглый хрустальный флакон. Он был красивого синего цвета, и когда я подносила его к окну и покачивала, то по всей комнате разлетались разноцветные блики.
В то утро я ела английское печенье и играла с французской бутылочкой. Мама научила меня прислушиваться. Она сама всегда была настороже, стараясь уловить каждый звук и показывая мне, как выделять среди них самые важные. Ее взгляд устремлялся куда-то вдаль, если на звук стоило обратить внимание, а если нет – она просто возвращалась к своим делам. Я подражала ей во всем.
Мы слышали, как слуги ходят по прихожей и коридорам, с тихим бурчанием унося ночные вазы. Кто-то тащил вниз по лестнице какую-то коробку, кто-то другой громко прошептал: «Что с тобой? Совсем ветер в голове?» Из окна выплеснули большое ведро воды, и она с громким уханьем обрушилась на задний двор. Звук был таким звонким, словно кипело масло для жарки. И лишь спустя долгое время раздался тихий стук – «тин-тин-тин», палочками о стенку пиалы, – предвещающий появление слуг с завтраком.
Такие звуки мы слышали каждое утро. Но в то утро мама, казалось, с каким-то особым вниманием прислушивалась ко всем ним. Она была вся внимание, я тоже. До сих пор не знаю: разочаровалась бы она или обрадовалась, услышав то, чего ждала?
Не успела я позавтракать, как мама вышла из комнаты. Казалось, ее не было очень долго, хотя на самом деле могло пройти всего несколько минут. Сама знаешь: час или минута – для детей разницы нет, часто они очень нетерпеливы. Ты тоже такой была.
Когда я решила, что больше не могу ждать, то открыла дверь и выглянула наружу, в дальний конец коридора. Там стояли мама и отец, и они разговаривали очень недобрыми голосами.
– Это тебя не касается, – жестко произнес отец. – Больше об этом не упоминай.
– Я уже сказала, – быстро ответила мама. – Мои слова вылетели наружу.
Я не впервые наблюдала, как они спорят. Мама не походила на других жен отца, которые прятали свою суть под маской хороших манер, стараясь вести себя одна лучше другой, словно участвовали в каком-то конкурсе за очень крупный приз.
Мама была искренней. Бывала и нежной, конечно, но не могла запретить себе быть честной. Все считали это ее недостатком. Если она сердилась, то не считала нужным сдерживаться, и тогда начинались неприятности.
Поэтому, услышав тем утром разговор родителей, я испугалась. Они не кричали, но я хорошо понимала, что оба рассержены. Отец ронял слова так, что мне хотелось закрыть дверь и спрятаться. А мамин голос… сложно объяснить, каким он показался маленькой девочке… каким-то надтреснутым, будто рвется нарядная одежда, которую починить уже никогда не удастся.
Отец развернулся, собираясь уйти, и тут я услышала, как мама говорит:
– Дважды вторая.
Эти слова прозвучали как проклятие.
Отец не обернулся.
– Ты никогда этого не изменишь, – только и сказал он.
– Думаешь, я не могу этого изменить? – спросила мама за его спиной.
Тогда я еще не знала, что такое «дважды вторая». Только догадывалась, что это очень плохие слова, самые худшие, которыми можно назвать маму, потому что из-за них она всегда проводила много часов перед зеркалом, обвиняя «дважды вторую», смотревшую на нее из отражения.
Наконец мама обернулась. На ее лице играла странная улыбка, которой я никогда не замечала раньше. В этот момент она увидела меня.
– Я все еще голодная, – тихо пожаловалась я.
– Иду, иду, – отозвалась она, и ее улыбка изменилась на уже знакомую мне, хотя я и не понимала, как она может улыбаться, если так сердита.
Вернувшись в комнату, она велела мне одеваться.
– В приличную одежду, – уточнила она. – Мы пойдем на улицу.
– Кто еще пойдет?
– Только мы с тобой. – Это было очень необычно, но я не стала больше задавать вопросов, обрадовавшись редкой возможности.
Мама принялась готовиться к выходу, а я за ней наблюдала. Мне всегда нравилось смотреть, как наряжается мама. Она надела платье западного покроя и, полюбовавшись на себя в зеркало, сняла его. Надела китайское платье, сняла его, надела другое китайское платье, нахмурилась и, наконец, перемеряв бесчисленное количество нарядов, вернулась к первому платью. В нем она и осталась: в зеленом, как нефрит, одеянии с короткими рукавами и струящейся до самых лодыжек плиссированной юбкой.
Я ждала, что она возьмет меня на руки, но она погладила меня по голове и сказала:
– Син ке. Ты уже большая.
Она всегда называла меня син не — «сердечко». Так называется часть желудка, формой напоминающая крохотное сердце. По-английски это звучит не слишком-то красиво, но на китайском – очень мило. Так матери называют своих малышей, когда их очень-очень любят. Я тоже так тебя называла. Ты не знала?
– Син не, сегодня я открою тебе очень важные секреты, но сначала ты должна научиться ходить самостоятельно.
Я не успела пожаловаться или возразить, как она устремилась вперед со словами: «Пойдем, пойдем!», будто нас ожидали восхитительные приключения. Я последовала за ней. Мы вышли через центральные ворота и сели к одному из недавно появившихся велорикш, которые сновали по городу и его окрестностям гораздо быстрее старых рикш.
Лето только начиналось, и по утрам было еще прохладно, но к полудню становилось нестерпимо жарко. Чем дальше мы отъезжали от отцовского дома, тем больше новых звуков я слышала: крик продавцов, звон и грохот проезжающих трамваев, гудение автомобилей и стук множества молотков – везде разрушали старые дома и строили новые. Как же я радовалась всему этому шуму! Казалось, мама радуется тоже. Она превратилась в совсем другую женщину – смеющуюся, веселую, указывающую пальцем то туда, то сюда, восторженно кричащую, будто простолюдинка:
– Син не, смотри!
Перед нами была витрина с женскими перчатками из телячьей кожи, и мы вышли из повозки велорикши, чтобы подойти к ней.
– Сколько тонких рук тянутся к карманам покупателей, – сказала мама, а я жестами изобразила змею, и мы засмеялись. А потом вернулись обратно в повозку.
– Смотри! – закричала я чуть позже, указывая на мужчину, сплевывающего длинную струю тофу в чан с кипящей водой. Я очень гордилась, что нашла что-то достойное внимание матери. – Он похож на рыбу, рыбу в фонтане! – Я даже встала с места. То, что он сплюнул, всплывало в воде пухлыми нитями.
– Он просто использует рот как инструмент для приготовления пищи, – объяснила мама.
В тот день мы увидели столько интересного! Словно мама хотела, чтобы я раскрыла глаза и уши и запомнила все, до последнего мгновения. Хотя, наверное, это я уже додумываю. У нее могло и не быть такого намерения. А может, мы и не видели всего того, что я только что описала, и не ездили в эти места. Разве успели бы мы все за один день? Но я это помню, как и многое другое.
Мы ездили туда, где делали лучшие в мире вещи: на Чжецзянскую дорогу, где, как говорила мама, изготавливали отличную кожаную обувь в французском стиле, в храм Чэнхуанмяо, где, по ее словам, продавали лосьон для кожи из растертых жемчужин. Она нанесла мне на щеки пару капель, но не стала покупать. Мы ходили на Дорогу Кипящего Колодца, где она выбрала для меня американское сливочное мороженое, сказав, что для нее оно «слишком липкое и сладкое». Были на Фучоу-роуд, где можно раздобыть любую книгу или газету, китайскую и иностранную. И там она наконец что-то купила себе, кажется, газету, но я не могу сказать точно, потому что читать тогда еще не умела.
А потом мы поехали к Малым Восточным воротам, где лучшие торговцы морепродуктами расставляли свои лотки. Мама искала особый деликатес: редкую маленькую рыбку, которую называют ва-ва-ю, потому что она плачет, как ребенок, и может шевелить ручками и ножками. Мы нашли эту рыбку, и я своими ушами слышала ее плач и увидела, как она двигается, в точности как и сказала мама.
– Когда-то давно я очень любила ва-ва-ю. Она такая нежная, такая вкусная, и даже чешуя у нее мягкая и сладкая. Но сейчас мне жалко есть такое удивительное существо.
Я пристально рассматривала все, что показывала мне мама, и помню, как думала: «Это очень важно. Слушай внимательно!» Меня переполняло столько разных желаний, передо мной открывалось столько мест, где они могли исполниться. Мне казалось, что мама учит меня тайному знанию: счастье – это когда все, чего ты захочешь, сбывается немедленно.
После полудня мы пошли в кинотеатр. Солнце было в зените, и на улице становилось слишком жарко. Я была вся липкая, поэтому обрадовалась возможности зайти в темное помещение. Однако я ошибалась, надеясь, что в кинотеатре будет прохладно. В последний раз я была в нем то ли зимой, то ли весной. А сейчас там было жарко, как в печке.
И абсолютно темно. Когда мы пришли, движущаяся картинка уже показывала историю о маленькой девочке со светлыми волосами, и кто-то играл на пианино: раздавалось громкое дребезжание.
– Я ничего не вижу, не вижу, – канючила я, боясь сделать хоть шаг вперед.
– Подожди минутку, – сказала мама.
И когда мои глаза привыкли к темноте, я различила перед собой ряды сидений с людьми, которые дружно обмахивались бумажными веерами.
Мама стала считать ряды: «…Шестой, седьмой, восьмой». Я не задавалась вопросом, зачем она ищет восьмой ряд сзади, меня больше интересовало, как она это делает, потому что я училась считать.
Потом мы нашли восьмой ряд и стали пробираться к самой его середине, пока не дошли до свободного места. Она что-то прошептала человеку, сидевшему рядом. Сначала мне послышалось нечто вроде: «Прошу прощения», и только позже я поняла, что она говорила что-то другое.
Мы с мамой видели уже много представлений с движущейся картинкой. Все они шли без звука, и в тишине я смотрела на Чарли Чаплина, толстяка, полисменов и пожарные машины, на ковбоев, гонявших лошадей по кругу. А в этот день показывали историю о сиротке, которой приходилось продавать спички на улице в снегопад. Девочка дрожала от холода. Сидевшая передо мной женщина плакала и сморкалась, а мне казалось, что девочке повезло, раз ей прохладно в такой жаркий день. И с этой мыслью я уснула, прямо в этом темном кинотеатре.
Когда я проснулась, уже включили свет, и мама сидела, склонясь к нашему соседу и что-то шепча ему с мрачным видом. Я встревожилась: ведь это опасно! Нельзя разговаривать с незнакомцами! Поэтому я захныкала и потянула маму к себе. Сосед наклонился и улыбнулся мне. Он был совсем не старым и выглядел даже благородно. У него была гладкая и светлая кожа, не как у людей, которые днями напролет работают на улице. Однако одет он был словно простолюдин: в простую синюю куртку без узоров, хотя и чистую. Мама поблагодарила его, мы встали и пошли к выходу.
По дороге домой я опять уснула, растратив силы за день, и проснулась только один раз, когда меня вытряхнул из дремы толчок и тихие ругательства рикши: он бранил медлительную повозку на дороге. Я лежала, прижавшись лицом к маминым волосам, и не могла оторвать от них взгляда. У ее волос был удивительный цвет. Не такой, как у меня или у других женщин нашей семьи. Я вообще не видела таких ни у кого другого. Не темно-коричневые и не черные с коричневым отливом. Вообще без оттенков. Цвет маминых волос проще было почувствовать, чем увидеть: глубокий черный, как блестящая поверхность воды, как отражение дна самого глубокого колодца.
И в пучок на ее голове вплетались два седых волоса, словно рябь от двух маленьких камешков, попавших в воду. И даже это описание бессильно передать этот цвет.
Из того вечера я запомнила совсем немного.
Я очень устала. Мы скромно поужинали в нашей комнате, а потом мама показала мне особый стежок для вышивания, который она, по ее словам, придумала сама. Я повторяла за ней, но получалось у меня очень плохо. Но она не ругала меня, только хвалила за то, что все же удалось сделать. Потом помогла мне раздеться и преподала еще один урок: как считать пальчики на руках и ногах.
– Иначе как ты, проснувшись, поймешь, что их столько же, сколько было вчера? Вот, смотри: шесть, семь, восемь…








