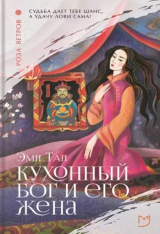
Текст книги "Кухонный бог и его жена"
Автор книги: Эми Тан
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 29 страниц)
– «Прощай, тетушка. Небесам повезло. От твоей любимой внучатой племянницы Перл Лю Брандт и ее мужа».
– Ой, чуть не забыла! – Я вручаю ей сверток от «Сэма Фука»: – Мистер Хун просил тебе передать.
Мама срывает ленточку и открывает сверток.
В нем лежит около дюжины пачек бумажных денег для духов, которые тетушка, по поверьям, может использовать для взяток, чтобы попасть в китайский рай.
– Не знала, что ты в это веришь, – говорю я. – При чем тут вера? – запальчиво отвечает она. – Это дань уважения. – Потом добавляет уже мягче: – У меня тут сто миллионов долларов.
Ай-ай! Она была хорошей женщиной.
– Ну всё, пришли.!». Я перевожу дух после долгого подъема по лестнице, ведущей к банкетному залу.
– Перл! Фил! Вот и вы! – встречает нас кузина Мэри.
Я не видела ее около двух лет, с тех пор как они с Дугом переехали в Лос-Анджелес. Мы ждем, пока Мэри проберется сквозь толпу. Она бросается к нам, целует меня, потом трет мою щеку, смеясь над тем, что добавила мне румян.
– Потрясающе выглядишь! – сообщает она мне, потом переводит взгляд на Фила. – Правда, вы оба! Просто великолепно.
Мэри сейчас сорок один, она на пол года меня старше. На ней много косметики и накладные ресницы, а ее прическа представляет собой жутковатую конструкцию из кудряшек и мусса для укладки. Боа из чернобурки все время соскальзывает с плеч кузины. Поправив его в третий раз, она хохочет:
– Это рождественский подарок Дуга, такая нелепица!
Мне интересно, почему же она не расстается с этой «нелепицей» даже здесь, в ресторане. Но Мэри, старшему ребенку в двух семьях, всегда хотелось выглядеть самой успешной.
– Дженнифер, Майкл! – кричит она в толпу и щелкает пальцами. – Идите сюда, поздоровайтесь с тетей и дядей.
Она притягивает к себе двух подростков и по очереди сжимает в объятиях каждого:
– Ну, что вы должны сказать?
Дети смотрят на нас с мрачными лицами, что-то бурчат и слегка кланяются.
Дженнифер растолстела, а ее глаза под жирной подводкой кажутся маленькими и жесткими. Верхняя часть ее прически уложена торчащими в разными стороны зубцами, а нижняя вяло свисает вдоль спины. Девочка выглядит так, будто ее только что подвергли электрошоку. Лицо Майкла начало приобретать юношескую угловатость, а подбородок украсился прыщами. Этих детей больше нельзя назвать хорошенькими. Интересно, как я буду думать о Тессе и Клео, если они тоже изменятся подобным образом?
– Видите, какие они? – извиняющимся тоном произносит Мэри. – Дженнифер только что получила свои первые капроновые колготки и туфли на каблуках – в подарок на Рождество. Она так гордится собой, что больше не считает себя маминой девочкой.
– Ну мам! – взывает Дженнифер и, вырвавшись из материнской хватки, исчезает среди толпы. Майкл следует за ней.
– Вы заметили, что Майкл почти одного роста с Дугом? – спрашивает Мэри, с гордостью глядя на уходящего сына. – Он у нас в составе младшей школьной спортивной команды, и его тренер говорит, что он лучший бегун. Не знаю, откуда у него такой рост и спортивные данные, уж точно не от меня. Если мне придется пуститься трусцой, финиширую я уже калекой. – Она смеется, но внезапно осознает, что именно сказала, и, помрачнев, вглядывается в толпу: – О, вот и родители Дуга. Пойду поздороваюсь.
Фил сжимает мою руку. Мы не произнесли ни слова, но он и так знает, что я жутко разозлилась.
– Не обращай внимания, – говорит он.
– Я бы с радостью, – отвечаю я. – Если бы она была чуть внимательнее. Она всегда так делает.
На нашей с Филом свадьбе Мэри и Дуг были подружкой невесты и шафером раз уж они нас познакомили. Они первыми узнали о моей беременности, когда я ждала Тессу. И именно Мэри около семи лет назад затащила меня на занятия аэробикой, стоило мне пожаловаться на постоянную усталость.
А позже, когда у меня начала подкашиваться правая нога, Фил предложил обратиться к Дугу, который в то время работал ортопедом в спортивной медицинской клинике.
Несколько месяцев спустя Дуг сообщил мне, что проблема не в ноге, а в другом месте, и я сразу запаниковала, подумав, что речь идет о раке костей. Он же уверял, будто всего лишь хотел сказать, что ему самому не хватает ума разобраться в проблеме. Вот он и отправил меня к своему собутыльнику времен колледжа, лучшему неврологу Медицинского центра Сан-Франциско. После почти целого года самых разных исследований, когда я уже убедила себя, что так сильно устаю из-за курения, а нога не слушается из-за ишиаса, оставшегося после беременности, этот собутыльник Дуга объявил, что у меня рассеянный склероз.
Мэри забилась в истерике, а затем принялась меня утешать, но от этого мне становилось еще хуже. Она завела привычку приносить нам блюда, собственноручно приготовленные по «потрясающим рецептам», на которые она «совершенно случайно наткнулась», однако в конце концов я попросила ее прекратить это. А потом кузина устроила настоящее шоу, в лицах пересказав беседу с приятелем Дуга. По его словам, дескать, в таких случаях, как мой, болезнь протекает «мягко» (будто Мэри говорила о климате), на продолжительность жизни вовсе не влияет, и в семьдесят лет я буду заводилой в гольф-клубе, хотя мне и следует обращаться с собой очень бережно и не перенапрягаться ни эмоционально, ни физически.
– Так что на самом деле все в норме, – заявляла она немного чересчур радостно. – Только Филу надо уделять тебе побольше внимания. Но с этим-то проблем точно не возникнет?
– Я не играю в гольф, – вот и все, что я ей ответила.
– Ничего, я тебя научу! – с энтузиазмом пообещала кузина.
Разумеется, Мэри хотела мне добра. И я признаю, что наша дружба оборвалась в основном по моей вине. Я никогда не говорила кузине, как сильно меня задевает ее жалость, поэтому она просто не могла знать, что мне не нужны утешения. Я не хотела, чтобы со мной нянчились и потчевали меня деликатесами домашнего изготовления. Доброта стала своеобразной компенсацией. Именно доброта напоминала, что моя жизнь безвозвратно изменилась и что, по мнению окружающих, надо принять это как данность и стать сильнее, храбрее, мудрее и спокойнее. Я же сама не хотела иметь с этим ничего общего. Я просто хотела жить дальше, как большинство людей: беспокоиться об образовании детей, а не о том, доживу ли я до их выпуска. Радоваться тому, что я похудела, а не пугаться потере мышечной массы. Я хотела того, что стало невозможным: забыть о своем диагнозе.
То, что Дуг со своим собутыльником обсуждали мое здоровье, привело меня в ярость. А если уж они поделились с Мэри, то должны были объяснить ей еще один нюанс: это заболевание не поддается прогнозированию. Не исключено, что ремиссия продлится десять, двадцать, тридцать или сорок лет. Но болезнь может проснуться завтра, и ее уже ничто не удержит. Тогда для меня все закончится инвалидной коляской, если не хуже.
Я знала, что Мэри в курсе, потому что ловила на себе ее взгляды всякий раз, когда заходила речь о ком-то, получившем увечья или инвалидность. Однажды она нервно рассмеялась, попытавшись припарковаться на месте, которое оказалось предназначенным для инвалидов.
– Ой! – воскликнула она. – Этого нам точно не надо.
В самом начале мы с Филом пообещали друг другу вести самый обычный образ жизни. Ну, насколько возможно. «Обычный, насколько возможно», – уже само по себе определение, лишенное смысла. Если я случайно спотыкалась об игрушку, забытую на полу, мне приходилось десять минут извиняться перед Тессой за то, что я на нее накричала, а потом проводить следующий час в размышлениях о том, стал бы «нормальный» человек так фиксироваться на подобной мелочи. Однажды мы поехали на пляж, намереваясь отвлечься от переживаний. Но в результате я, наоборот, исполнилась самых мрачных мыслей и, наблюдая, как волны размывают берег, размышляла вслух о своей судьбе. Раскисну ли я, словно водоросль, выброшенная на берег, или окаменею, будто панцирь краба на песке?
Фил, перечитав все свои учебники и проштудировав все статьи на насущную для нас тему, которые сумел найти, пал духом. Даже со своим медицинским образованием он не смог вникнуть в природу моего недуга глубже, чем позволяли слова «неизвестная этиология», «крайне вариативное течение», «непредсказуемо» и «не поддается лечению». Он ездил на конференции, посвященные неврологическим заболеваниям. Однажды он отвез меня в группу поддержки больных рассеянным склерозом, но мы развернулись и уехали сразу, как только увидели инвалидные коляски. Он проводил «еженедельные дежурные осмотры», проверяя мои рефлексы и мышечный тонус конечностей. Мы даже переехали в дом с бассейном, чтобы я могла каждый день упражнять мускулатуру. Но в то же время мы старались не акцентировать внимания на том, что это здание – одноэтажное, с широкими дверными проемами – легко приспособить для удобств человека в инвалидном кресле.
Мы разговаривали на собственном секретном языке, словно адепты тайной секты, посвятившие жизнь поиску средства от болезни или хотя бы выявлению признаков ее развития. Это помогало нам немного снизить постоянное напряжение. Постепенно мы научились не говорить о будущем, избегая как мрачных прогнозов, так и призрачных надежд. Мы не цеплялись за прошлое, за размышления о том, что навлекло на меня беду, – вирус или генетика. Вместо этого мы погружались в заботы текущего дня, празднуя маленькие победы над шероховатостями жизни: приучение Тессы к горшку, исправление ошибки на счете нашей кредитной карты, обнаружение причины странного шума в машине, когда переключаешь мотор на третью скорость. И это стало нашей константой, событиями, которые мы могли выделить и которые поддавались управлению в жизни, полной непредсказуемых вводных.
Я не вправе винить Фила в том, что он делает вид, будто у нас все нормально, ведь я нуждалась в подобном притворстве больше, чем он. Вот только сейчас я не могу сказать ему, что я чувствую на самом деле, каково мне. Знаю только, что просыпаюсь каждое утро в холодном поту: вдруг, пока я спала, мое состояние ухудшилось? И что есть дни, когда я одержима страхом потерять что-нибудь. Например, пуговицу. А если это действительно происходит, мне кажется, что пропажу необходимо найти, иначе моя жизнь никогда не станет прежней. И есть дни, когда я считаю Фила самым невнимательным мужчиной на свете просто потому, что он забыл про какой-то пункт из списка покупок. И есть дни, когда я раскладываю свое нижнее белье по цветам, словно так можно что-то изменить.
Все это нехорошие дни.
А в хорошие дни я думаю, как мне повезло. Да, повезло – по моим новым стандартам. За прошедшие семь лет у меня было только одно серьезное «обострение», под которым мы сейчас подразумеваем мою неспособность удержать равновесие, особенно когда я расстроена или тороплюсь. Но я все еще могу ходить. Я выношу мусор. И иногда мне удается забыть о болезни – на несколько часов или почти на весь день. Конечно, в такие дни становится еще хуже, когда я обо всем вспоминаю. Часто самым неожиданным образом. Я вспоминаю, что живу в туманной стране, называемой Ремиссией.
Мое непрочное душевное равновесие грозит нарушиться каждый раз, когда я вижусь с мамой. Потому что именно в эти моменты мне тяжелее всего. Я до сих пор не сказала ей, что очень больна.
Я хотела. Даже несколько раз собиралась. Когда мне только поставили диагноз, я сказала:
– Ма, помнишь, у меня были небольшие проблемы с ногой? Так вот, слава богу, это оказался не рак, но…
И она тут же рассказала мне о своем покупателе, который накануне скончался от рака, и о том, как долго он мучился, и сколько венков заказала его семья к похоронной церемонии.
– Я давно заметила эту бородавку, что росла у него на лице. И посоветовала, мол, сходи к врачу. А он все говорил, да ладно, это просто пигментное пятно, старость – и ничего с ним не делал. Так к тому времени, как он умер, у него разъело весь нос и щеку! – А затем строго добавила: – Вот почему ты должна быть очень осторожной!
Когда родилась Клео, что произошло без осложнений, как для меня, так и для нее, я снова попыталась поговорить с мамой. Но она перебила меня – на этот раз, чтобы посетовать, что мой отец не дожил до внуков. А потом пустилась в бесконечный монолог о том, что он не заслужил судьбы, которая ему досталась.
Папа умер от рака желудка, когда мне было четырнадцать. И долгие годы спустя мама пыталась найти причину этого заболевания, словно надеясь этим что-то исправить.
– Он был таким хорошим человеком, – причитала мама. – Так почему же он умер? – Иногда она винила во всем Бога, утверждая, что отец умер потому, что был служителем церкви. – Он выслушивал все жалобы, – говорила она. – Принимал на себя чужие проблемы, пока они его не убили. Ай! Йинг-гай[1]1
«Надо было» (китайск.).
[Закрыть] ему найти другую работу!
Мама говорила йинг-гай всякий раз, когда упоминала о том, что надо было сделать мне. Йинг-гай служило и запоздалым упреком самой себе: почему она не изменила ход событий, почему не сумела избежать потерь? Для меня йинг-гай означало, что мамину жизнь наполняют сожаления.
Со временем эти сожаления не исчезали. Наоборот, они росли по мере того, как мама искала и находила все больше возможных причин папиной смерти. Однажды она даже поделилась своей собственной версией воздействия окружающей среды: оказывается, электрик, чинивший проводку на кухне, был болен.
– Это он встроил болезнь в наш дом, – объявила мама. – Да, правда. Я только что узнала, что электрик тоже умер от рака. Йинг-гай найти кого-нибудь другого.
А еще у нее была теория девяти несчастий, которую я считала воплощением предрассудка. Мама когда-то слышала, что если в жизни человека произойдет восемь несчастий, то с девятым он умирает. И если ему не удастся распознать эти восемь несчастий и вовремя их предотвратить, то девятое наверняка станет роковым. Она бесконечно размышляла, в чем же заключались папины восемь несчастий и почему ей не хватило ума их заметить и предотвратить.
И по сей день я не могу спокойно слушать ее теории, в которых немыслимым образом смешиваются религия, медицина, предрассудки и ее собственные измышления. Она абсолютно не воспринимает чужую логику, потому что считает логику как таковую лживым оправданием трагических событий, ошибок и несчастных случаев. А мама уверена, что случайностей не существует. В ее представлении любую беду можно отвести. Она – своеобразная китайская версия Фрейда, или того хуже. У всего есть свои причины. Все можно предотвратить.
Например, в прошлый раз, когда я была в ее доме, я задела портрет папы, и он упал, при этом стекло разбилось. Мама убрала осколки с причитаниями:
– Почему же это произошло?
Я думала, что вопрос риторический, но она потребовала ответа: g – Ты знаешь почему?
– Случайно, – ответила я. – Я просто задела его локтем.
И, разумеется, ее слова подстегнули мои страхи. Я принялась судорожно размышлять: уж не говорит ли моя неуклюжесть о начале обострения.
– Почему именно этот портрет? – бормотала она себе под нос.
Поэтому я так и не смогла ничего рассказать маме. Сначала мне не хотелось выслушивать ее теории по поводу моего заболевания, его причин, и того, что ей надо было сделать, чтобы его предотвратить. Я не хотела, чтобы она постоянно мне о нем напоминала.
А сейчас, когда прошло столько времени, сам факт того, что я так ей ничего и не сказала, делает мою болезнь вдесятеро тяжелее. Теперь я вспоминаю обо всем этом каждый раз, когда вижу ее, когда слышу ее голос.
Мэри об этом знает, и именно поэтому я все еще на нее злюсь. Не потому, что она выпрыгивает из собственной шкуры, чтобы избежать разговоров о моем здоровье. Я зла на нее потому, что она рассказала о нем своей матери, моей тетушке Хелен.
– Я должна была ей сказать, – бесцеремонно отмахнулась кузина. – Она все время твердила: «Передай Перл, чтобы она чаще навещала мать. Всего один час пути. Пусть Перл предложит матери переехать к ним с Филом, ей будет не так одиноко». Ну, и мне пришлось сказать маме, что я не могу советовать тебе такого. Она спросила, почему. – Мэри пожала плечами. – Ты же знаешь мою мать. Я не могу ее обманывать. Разумеется, я заставила ее поклясться, что она ничего не скажет твоей матери. Потому что ты обо всем скажешь ей сама.
– Я способна водить машину, – возразила я, – и совсем по другим причинам не предлагаю маме жить с нами вместе. – Я жгла Мэри взглядом. – Как ты могла так поступить?
– Она ничего не скажет, – повторила та. – Я взяла с нее слово. – А затем добавила с некоторым вызовом: – К тому же тебе давно следовало ввести свою маму в курс дела.
Не то чтобы мы с Мэри поссорились, но после этого разговора наши отношения значительно охладели. Ведь она знала, что ничего хуже и придумать нельзя. Девять лет назад она поступила со мной таким же образом. Моя первая беременность закончилась выкидышем, и потом мама месяцами твердила о том, как много я пью кофе, и как мои утренние пробежки способствуют выкидышам, и как Филу надо следить, чтобы я побольше ела. Поэтому, забеременев во второй раз, я решила подождать и поставить мать в известность не раньше четвертого месяца. Однако на третьем месяце я совершила ошибку, доверив свой секрет Мэри. А Мэри поделилась со своей матерью. А тетушка Хелен не стала ничего говорить моей матери. Она поступила иначе. Когда мама с гордостью объявила Квонам, что я беременна, тетушка Хелен с гордостью показала ей маленький желтый свитер, который связала для будущего новорожденного.
Я выслушивала упреки и причитания даже после рождения Тессы.
– Почему ты сказала Квонам, но не собственной матери? – сокрушалась мама. Бывало, она накручивала себя до настоящей злости и сетовала, что я выставляю ее дурой перед родней. – Нет, только подумайте! Тетушка Хелен делала вид, что так удивлена этой новостью! Сама невинность! «Ах, я вязала свитер не для ребеночка Перл! Это так, на всякий случай!»
Пока тетушка хранила молчание, что не мешало ей обращаться со мной как с инвалидом. Когда я приходила в гости, она усаживала меня и шла искать подушку, чтобы подложить мне под спину. Она гладила меня по руке, спрашивая, как дела, и заверяя, что всегда относилась ко мне как к родной дочери. Потом вздыхала и делилась со мной какими-нибудь плохими известиями, словно пытаясь этим утешить меня в моем несчастье.
– Твой бедный дядюшка Генри чуть не лишился работы в прошлом месяце, – говорила она. – Сейчас везде урезают бюджет. Кто знает, что будет дальше? Только не говори своей матери. Не хочу, чтобы она переживала.
Но переживала в результате я: а вдруг тетушка Хелен считает свои разглашенные маленькие тайны своеобразным платежом за мою? И, возможно, полагает, что этот обмен дает ей право как-нибудь «случайно» обронить в разговоре с моею матерью:
«Ох, Уинни, я думала, ты знаешь о трагедии своей дочери!»
И я с ужасом ждала дня, когда мама позвонит мне и начнет задавать один и тот же вопрос тысячей разных способов: «Почему об этом знала тетушка Хелен? Почему ты никогда ни о чем мне не рассказываешь? Почему ты не позволила мне предотвратить это несчастье?»
Что я ей отвечу?
За ужином нас посадили за «детский стол», с той только разницей, что на этот раз «детям» было между тридцатью и сорока. Настоящие дети, Тесса и Клео, сидели с моей мамой.
На празднике Фил оказался единственным европейцем, однако это никому не мешало. Обе бывшие жены Бао-Бао – «американки», как их называет тетушка Хелен. Видимо, она открыла для себя новую расу. Должно быть, тетушка вне себя от восторга от того, что нынешнюю невесту Бао-Бао зовут Мими Вань и что она не просто китаянка, но и отпрыск состоятельной семьи, которой принадлежат три туристических агентства.
– Она похожа на японку, – сказала мне мама, когда мы приехали и были представлены Мими.
Не знаю, с чего она так решила. Лично мне кажется, что Мими выглядит просто очень странно. Не считая того, что она неприлично молода. По-моему, ей не больше двадцати, хотя, возможно, дело в ее волосах, выкрашенных в оранжевый цвет, или в проколотом носе. Я слышала, что она училась на парикмахера-стилиста и теперь работает в модном салоне «Красный слон». Хотя мама слышала другое:
Мими в салоне доверяют только мыть клиентам головы и подметать состриженные волосы.
Бао-Бао сменил стиль и вообще очень изменился со дня нашей последней встречи. Волосы зачесаны назад и залиты гелем. Костюм из ткани, напоминающей акулью кожу, переливается всеми цветами радуги. А под ним простая черная футболка.
Каждый раз, когда кузен представлял гостям Мими, я позволяла себе поглазеть на серьгу в ее носу. Интересно, что происходит, когда девушка подхватывает насморк.
Бао-Бао поднимает бокал:
– Как поживает моя любимая кузина? Хорошо выглядишь. Мне нравится стрижка. Короткая. Симпатично. Мими, что ты думаешь о прическе Перл? Правда неплохо?
У него забавная привычка раздавать комплименты, словно поощрительные призы на вечеринках: по штуке каждому. Не исключаю, что, не знай я о нем так много, он мог бы мне даже понравиться.
– Привет, Фил, братишка! – кричит Бао-Бао, наливая еще шампанского. – Вижу, ты набрал пару фунтов. Жизнь явно хороша. Может, ты уже готов к той новой системе, о которой я тебе рассказывал? Вот где отдача децибелами за каждый доллар!
Бао-Бао продает стереосистемы и телевизоры в «Хороших парнях». Он так искусен в мастерстве убеждения, что после беседы с ним глаза и уши покупателей оказываются способны распознать разницу между стандартной моделью и ее обновленной версией на пятьсот долларов дороже. Фил как-то сказал, что если Бао-Бао воодушевится, то сможет продавать Библии шиитам.
Позади нас за столом для «взрослых» сидит мужчина по имени Лу Фон, он же дядюшка Лу. Он поворачивается и поднимает пластиковый стаканчик с имбирным элем.
– Как удобно для Мими! – говорит он. – Ей всего лишь надо добавить к своей фамилии букву «К», и она получит мужа! Поменять «Вань» на «Квон», поняли? – Дядюшка Лу громче всех смеется над собственной шуткой. Потом разворачивается к соседям по столу, чтобы повторить ее уже для них. Рядом с ним сидит его жена, Эдна. Эти люди много лет ходят в ту же церковь, но их не связывают близкие отношения ни с Квонами, ни с моей семьей. Кажется, их пригласили потому, что Эдна Фон отвечает за заказ цветов для святилища, и она всегда покупает их в «Дин Хо». Разумеется, с двадцатипроцентной скидкой.
Тетушка Хелен – за тем же столом. Ради торжественного случая на ней атласное нежно-розовое китайское платье, которое явно тесно и уже украшено жирными пятнами на коленях и выпирающем животе. Всякий раз, когда тетушка протягивает руку, чтобы подлить себе чаю, ткань угрожающе натягивается под мышками, и я пытаюсь угадать, какой из швов лопнет первым. Ее жидкие волосы были недавно подвергнуты химической завивке – видимо, в угоду заблуждению, что это придаст им объем. В результате волосы выглядят пересушенными и не скрывают кожи головы.
Прямо напротив тетушки Хелен сидит мама в новом синем платье, которое она сшила своими руками. Мало того, она сама придумала фасон, заявив, что ей «не нужны выкройки». Платье получилось простого А-образного силуэта с пышными, как у принцессы, рукавами, что придает почти болезненную худобу и без того сухощавой маминой фигуре.
– Какой красивый шелк! – восхищается Эяиа Фон.
– Полиэстер, – с гордостью информирует ее мама. – Можно стирать в машинке.
Клео соскальзывает со своего стула и забирается на руки к маме.
– Ха-бу, – говорит она, – я хочу есть палочками.
Мама прокручивает «ленивую Сюзанну»[2]2
Круглый, вращающийся вокруг своей оси поднос, который обычно ставят в центре стола. По одной версии, был изобретен в 1700-х годах, по другой -я его изобрел в XVIII веке американский президент Томас Эдисон, чья дочь жаловалась, что за столом ее обслуживают в последнюю очередь и она всегда остается голодной.
[Закрыть] и опускает палочки в блюдо с закусками.
– Это медуза, – поясняет она и подносит дрожащую ленточку ко рту Клео.
Я наблюдаю, как моя девочка широко раскрывает рот, как птенец, и мама опускает в него угощение.
Клео жует и улыбается.
– Видишь, тебе понравилось! – радуется ее бабушка. – Когда твоя мама была маленькой, она утверждала, что на вкус это напоминает резину!
– Не надо мне это говорить! – вдруг взвизгивает Клео и начинает реветь. Наполовину прожеванный кусочек медузы свисает с оттопыренной губы.
– Не плачь, не плачь, – воркует тетушка Хелен с другого края стола. – Вот, смотри, здесь ароматная говядина, а? Объедение! На вкус как гамбургер из «Макдоналдса». Попробуй, тебе понравится.
И Клео, все еще безудержно всхлипывая, тянется за ломтиком говядины и запихивает его в рот. Губы мамы сжимаются в тонкую линию. Она отводит взгляд.
В этот момент мне становится жаль ее, преданную собственной памятью и моим детским увлечением вкусом резины. Я размышляю о способности ребенка причинить матери невыразимую боль самыми немыслимыми способами.
Вечер заканчивается хуже, чем я ожидала. В течение всего ужина я наблюдала, как мама и тетушка Хелен действуют друг другу на нервы. Они спорили на китайском, не пересолена ли свинина, не пережарена ли курятина, не многовато ли водного каштана положили в блюдо под названием «Счастливая семья», чтобы замаскировать нехватку в нем гребешка. Фил пытался вести вежливую беседу с моим кузеном Фрэнком, который курит не переставая. Эту привычку Фил ненавидит со всей присущей ему страстью. Люди, без особых оснований считающиеся старыми друзьями семьи, произносили тосты в честь невесты и жениха, которым явно предстояло развестись не позже чем через два года. На моем лице застыла одеревенелая улыбка, пока Мэри и Дуг пытались разговаривать со мной так, словно мы по-прежнему не разлей вода.
Чаще, чем на всех остальных, я бросаю взгляды на маму, сидящую за соседним столом. Мне кажется, ее переполняет одиночество. Я остро ощущаю его и думаю о непреодолимой пропасти, которая нас разделяет и лишает способности делиться самым важным в жизни. Как до такого дошло?
Внезапно все это – и цветочные украшения на пластиковых столешницах, и мамины воспоминания о моем детстве, и вся семья – становится каким-то ненастоящим, превращается в декорацию, вызывающую пронзительную грусть. Все эти бессмысленные позы и старые обиды, все болезненные тайны – зачем только мы их храним? Мне остро не хватает воздуха и хочется бежать куда глаза глядят.
На мое плечо опускается рука. Тетушка Хелен.
– Не очень устала? – шепотом спрашивает она.
В ответ я качаю головой.
– Тогда пойдем, поможешь мне разрезать торт. Иначе мне придется платить за это ресторану.
Конечно, мне интересно, о чем она собирается посекретничать.
На кухне тетушка Хелен разрезает роскошный белый торт на маленькие квадратики и раскладывает их на бумажные тарелки. Слизав с пальцев взбитые сливки, она кладет свалившуюся клубнику на место.
– Лучший торт во всем Сан-Франциско! – объявляет тетушка. – Мэри заказала его в пекарне «Сунн Чи» на Клемент-стрит. Знаешь это место?
Я снова качаю головой, продолжая раскладывать по тарелкам вилки.
– Ну, может, ты тогда знаешь кое-что другое? – произносит тетушка Хелен неожиданно жестко. – О моей болезни?
Перестав резать пирог, она поднимает на меня глаза и ждет реакции. Я удивлена внезапной переменой тона и искренне недоумеваю: о чем идет речь?
– Неважно, – язвительно бросает она и возвращается к пирогу. – Я и так все знаю.
И вот так, на кухне, тетушка Хелен рассказывает, что два месяца назад ей пришлось обратиться к врачу. В один из дождливых дней она упала с крыльца и ушиблась головой о перила. Моя мать, которая как раз оказалась рядом, отвезла ее в больницу. На рентгене не обнаружили ни переломов, ни гематом, как и у тетушки Ду. Однако снимок выявил маленькое затемнение в черепе, и врачи продолжили обследование.
– Так я обо всем узнала, – торжественно объявила тетушка Хелен, постукивая пальцем по голове. – Господь коснулся меня своим пальцем вот тут и сказал: «Тебе пора!» У меня опухоль мозга.
Я резко втягиваю в себя воздух, и тетушка быстро добавляет:
– Ну, конечно, доктора провели еще пару исследований, чтобы все выяснить наверняка. И сообщили мне, что она доброкачественная, – последнее слово она проговорила с интонацией человека, выигравшего в лотерею. – Что она не страшная и удалять ее не надо.
Я вздыхаю, и она продолжает:
– Твоя мать сказала: «Тебе повезло, с тобой все в порядке». Мои дети, дядюшка Генри – все мне говорят, что я проживу сто лет. Но ты-то как думаешь, что они имеют в виду на самом деле?
Я опять качаю головой.
– Ну, смотри: почему это Бао-Бао внезапно решил жениться? И почему Мэри говорит, что летит домой, и везет с собой всю семью? Говорит: давайте соберем родню? Почему Фрэнк подстригся сразу, как только я его об этом попросила? – Тетушка торжествующе улыбается. – Даже твоя мать… Вот сегодня она сказала мне в магазине: «Иди, ты же готовишь банкет в честь помолвки сына». Пообещала, что сама сделает все венки. Что ты качаешь головой? Это чистая правда!
Ее лицо становится серьезным.
– Вот я и сказала себе: эй, что за перемены? Что это все ко мне такие добрые? Так внезапно? И дети мои стали вдруг меня уважать! С чего бы это? Они все знают. Все знают, что я умираю. Они не говорят, но я думаю, что мой конец уже близок.
Я расставляю тарелки на подносе.
– Ах, тетушка Хелен, я уверена, что с вашим здоровьем все в порядке. Если доктора сказали, что опухоль доброкачественная, значит…
Она останавливает меня, подняв руку:
– Не надо со мной осторожничать. Я не боюсь.
Я не юная девушка. Мне почти семьдесят три.
– Я не осторожничаю, – пытаюсь протестовать я. – Вы не умрете.
– Ну ладно, все пытаются скрыть от меня эту правду. Хотят быть добрыми со мной перед смертью.
Я тоже могу делать вид, что ничего не знаю.
Меня начинает одолевать сомнение. Я не понимаю, то ли тетушка Хелен на самом деле больна, то ли материнское воображение искажает благие намерения детей. Однако меня удивляют ее слова о внезапной перемене в их поведении. Такой маневр вполне в духе Квонов: раскрывать чужие секреты и изображать полное неведение.
– Не беспокойся за меня, – говорит она, похлопывая меня по руке. – Я рассказала тебе об этом не для того, чтобы ты за меня беспокоилась. Я сказала тебе об этом, только чтобы ты поняла, почему я больше не могу хранить твой секрет.
– Какой секрет?
Она тяжело вздыхает.
– Перл, деточка, это страшное бремя для моей души. Мне так давит на сердце то, что твоя мать ничего не знает. Как я смогу отлететь на небеса, когда меня тянет к земле такая ноша? Нет, ты должна сказать матери, Перл. О своем рассеянном неврозе.
Я слишком потрясена, чтобы посмеяться над ее ошибкой.
– Так будет правильно, – убежденно продолжает тетушка Хелен. – Если ты не можешь, я сама скажу ей – перед китайским Новым годом. – И она поднимает на меня взгляд, полный решимости.
Мне хочется схватить тетушку за плечи и хорошенько встряхнуть, чтобы она перестала играть в свои игры.
– Тетушка Хелен, вы знаете, что я не могу рассказать маме. Вы же знаете, какая она.








