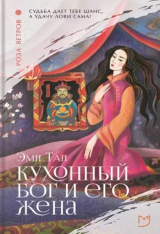
Текст книги "Кухонный бог и его жена"
Автор книги: Эми Тан
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 29 страниц)
– Я пела эту песню в Синсиа, пока его не разбомбили. И танцевала под нее.
И она начала петь и танцевать, словно я – сотня ее зрителей. Это была американская песня о любви, где говорилось о сердце, разбитом много раз. Я сразу поняла, что у Минь очень приятный голос. Китайцам такие нравятся. Ее руки извивались, как ветви, постепенно замедляясь, когда песня подходила к концу. Нет, правда, Минь была хороша.
– Вставайте, лентяйка! – вдруг сказала она. Заведя граммофон заново, она еще раз поставила ту же песню и стащила меня со стула. – Сейчас я покажу вам, как танцевать танго.
– У меня не получится! – запротестовала я, но на самом деле мне очень хотелось научиться. Я видела фильмы с Джинджер Роджерс и Фредом Астером, и мне нравилось, как Джинджер утанцовывает от проблем. Ее ноги в чечетке порхали над сценой, как птицы.
Но мы танцевали не так. Минь шла вперед, я назад, быстро, потом медленно. Она склонила мою голову сначала одним образом, потом иначе, и я вскрикивала и смеялась. В тот вечер мы ставили эту песню много-много раз. В другие дни она учила меня основным шагам вальса, фокстрота и линди-хопа. Кухарка и горничная смотрели на нас и хлопали.
Я тоже кое-чему научила Минь. Как писать собственное имя, как заштопать дырку, чтобы ее не было видно, как правильно говорить. Вообще-то она сама попросила меня научить ее хорошим манерам. После того, как поругалась с Хулань.
Та спросила ее, где Минь собирается жить, когда от нас уедет. И девица ляпнула:
– Не ваше дело!
Весь вечер Хулань не смотрела на девушку, делая вид, что ее стул пуст, и все время шумно принюхивалась. В конце концов я спросила:
– Ты унюхала что-то испортившееся?
Потом я объяснила Минь:
– Когда тебе задают вопрос, нельзя отвечать «не твое дело». Это плохие манеры.
– А почему я должна отвечать ей? Это у нее плохие манеры, раз она задает такие вопросы.
– Даже если так, в следующий раз, когда она спросит, скажи: «Пусть эта проблема вас больше не беспокоит». То же самое, что «не ваше дело», даже сильнее.
Минь несколько раз повторила эту фразу.
– Ух ты, здорово! – рассмеялась она. – Я говорю прямо как леди.
– И когда смеешься, – добавила я, – прикрывай рот ладонью, чтобы не показывать зубы. Смеяться как обезьяна некрасиво. Это показывает весь твой рот изнутри.
Она снова рассмеялась, на этот раз прикрыв рот.
– И еще: когда ты станешь актрисой, тебе стоит взять имя мисс Золотое Горлышко. Это хорошее имя, очень культурное.
Она кивнула, а я показала, как писать ее новое имя.
Однажды, когда Минь прожила с нами уже три или четыре недели, тетушка Ду, проходя по коридору, надолго задержалась возле моей комнаты. Она спросила о моем здоровье, о здоровье мужа и Данру, и, наконец, мне пришлось пригласить ее выпить со мной чаю. Мы долго сидели за столом. После вежливых бесед о здоровье тетушки Ду, Хулань и Цзяго гостья замолчала, хотя чай прихлебывала очень шумно.
– Я должна тебе кое-что сказать, – вдруг объявила тетушка Ду. Потом вздохнула и снова замолкла.
– Ты – хороший человек, – снова начала она, потом опять задумалась. – На самом деле ты очень доверчива. – И тетушка снова остановилась. Потом застонала: – Ай-ай-ай! – Она погрозила мне пальцем. – Посмотри на себя! Ты наивна до глупости. Ты знаешь, что твой муж делает с этой Минь?
Разве я могла признать, что все знаю? Поэтому сделала вид, что слышу об этом впервые.
Тетушка Ду снова вздохнула:
– Видимо, придется мне сказать об этом прямо. Ты такая наивная. Так слушай, сяо нин[15]15
Девочка (кит.).
[Закрыть]. Они тут крутят шашни, и давно. Ты за дверь, он – в ее постель. Ты спать – он в ее постель. Стоит тебе закрыть глаза, как она раскрывает руки и раздвигает ноги. Теперь эта девица беременна, а ты даже не знаешь! Она думает, что он сделает ее наложницей. Сказала, что он ей уже это пообещал. Она объявила об этом всем, кроме тебя. И что ты будешь делать? Примешь, потому что окажется слишком поздно что-то менять? Станешь растить ребенка наложницы мужа вместе со своим? Не будь такой глупой, сяо нин, открой глаза.
– Это вы мне скажите: что я могу сделать? Мне не остановить мужа, вы сами видите, какой он.
– Если не можешь остановить мужа, останови девицу. – Она поставила чашку на стол и встала, чтобы уйти. – Очень жаль, что именно мне пришлось тебе об этом говорить. Но я старая женщина и не люблю оставлять дела надолго. Их надо делать, пока я жива.
Когда тетушка Ду ушла, я задумалась о ее словах. Оказывается, все обо всем знали. И ждали, что я что-нибудь скажу или сделаю. Например, накричу на Минь:
«Это неприемлемо! Забирай свой позор, и вон из моего дома!»
Но потом мне пришло в голову, что, может, и хорошо, что она беременна. Теперь у меня есть повод сказать Вэнь Фу, что я от него ухожу. Если он хочет сделать Минь наложницей, то я скажу ему, что он волен взять ее в жены! И все будут счастливы!
В тот день я обдумала, как именно поступлю. Не буду ни спорить, ни обвинять. Попрошу у Вэнь Фу развода, чтобы он подписал бумагу перед двумя свидетелями, которые подтвердят, что мы больше не муж и жена. Потом заберу Данру, остаток своих денег, и мы с сыном сядем на поезд, идущий на юг. Там пересядем на судно до Хайфона и оттуда, как только станет безопасно, доберемся до Шанхая. Может быть, меня и не сочтут опозоренной. Война изменила людские представления о морали. И никто не станет особенно задаваться вопросом, почему женщина уехала с мужем, а вернулась домой без него. Как же повезло, что Минь дала мне предлог для обретения свободы!
Едва Вэнь Фу переступил порог, я сообщила ему: – Я должна тебе кое-что показать на другом берегу озера. – Это был наш код, которым мы пользовались, когда вокруг было слишком много ушей.
Мы сели на скамью возле озера, и я показала ему документ, который составила сама. Там говорилось, что он со мной разводится. А потом, сразу и без объяснений, я сказала:
– Я ухожу. Ты можешь жениться на ней. Хулань и Цзяго подпишут бумаги, будут нашими свидетелями.
Вот и все. Никаких криков, никаких ссор.
Я думала, что Вэнь Фу будет благодарен. Я давала ему разрешение жениться на Минь! И знаешь, что он сделал? Посмотрел на документ и тихо сказал:
– Я этого не писал. Я не прошу развода.
Он разорвал бумагу в клочья и бросил в озеро. И я знала, что он сделал это не для того, чтобы показать мне, как он меня любит и сожалеет о том, что сделал, нет. Вэнь Фу сделал это, чтобы показать, кто тут хозяин. Потому что, уничтожив мой шанс на свободу, он наставил на меня палец и прошипел:
– Я сам скажу, когда захочу с тобой развестись. А ты не указывай мне, что делать.
На следующее утро тетушка Ду пришла меня поздравить. Она сказала, что Минь больше нет. Она слышала, как девушка уходила из дома рано утром.
Как мне было жаль это слышать! Я не требовала ее ухода, я вовсе не ненавидела ее. Так я и сидела в своей комнате, и мне было так одиноко и грустно от того, что ее больше нет рядом. И еще грустно потому, что я упустила свой шанс.
Днем Хулань болтала о фасоне платья, которое шила, а тетушка Ду заговорила об эпидемии холеры, и о том, как беженцы боятся обязательных прививок, и как один мужчина умер, сделав двадцать прививок за других людей, которые ему за это заплатили. Я сидела в кресле, вязала и делала вид, что слушаю их. Но мне было совершенно не интересно. Я посмотрела на граммофон, потом на пластинку и наконец сказала:
– Эта девушка, Минь, оставила кое-что из своих вещей. Жаль, я не знаю, куда она отправилась.
Хулань в ту же секунду показала, как быстро распространяются сплетни:
– Жена Чзаня на рынке сказала, что она пошла в то место, рядом с железнодорожной станцией, гостевой дом «Девять драконов».
Там я и нашла ее на следующий день – в захудалом заведении, меблированном узкими кроватями с веревочными матрасами и скамьями вместо столов. Минь была очень тихой. Возможно, смутилась, увидев меня. Она попросила прощения за причиненные неудобства и поблагодарила за то, что я принесла ей пластинку. А потом пожала плечами:
– Иногда надеешься на одно, а получается совсем другое.
Я спросила ее, на каком она месяце, и Минь смутилась еще сильнее.
– Пусть эта проблема вас больше не беспокоит, – произнесла она.
– Тебя научила этой фразе я. Поэтому мне так отвечать не нужно.
Я протянула ей немного денег, и она сказала:
– Проблема уже решена. Я все сделала этим утром. Прошло хорошо, никакой крови, все чисто.
Я все еще протягивала ей деньги. Она улыбнулась и приняла их. Потом поблагодарила и спрятала деньги в коробочку. Перед тем как уйти, я призналась, что мне всегда нравилось, как она поет и танцует.
Неделю спустя Хулань сказала:
– Помнишь эту Минь? Так вот, она уже уехала с очередным мужчиной, назвавшись его сестрой. Так быстро! Да что она за девушка такая! И сколько же у нее родни?
Я вовсе не осуждала Минь. Ну да, ее представления о приличиях отличались от моих, но я думала о другом. Хорошо, что мне больше не надо о ней беспокоиться. Ее сердце быстро исцелилось.
Так что на самом деле ей повезло. Ей удалось вырваться, а я осталась с Вэнь Фу. Иногда мне снилось, что все сложилось иначе. Я была Минь, и я вернулась в Шанхай на работу в «Огромном мире», жила ее прежней жизнью, и пытка раздирала меня на части до тех пор, пока я не переставала себя узнавать.
17. ЧЕТВЕРО ВОРОТ
В следующем году Вэнь Фу ничуть не изменился. Но я менялась, шаг за шагом. Для Хулань и других, наверное, я оставалось прежней, но только потому, что тщательно скрывала свои чувства. Я делала вид, что все время занята ребенком и что мне некогда беспокоиться о чем-то другом.
Летом 1941-го мне нравилось сидеть в саду с Данру на руках, дожидаясь грозы и молний. Я говорила ему:
– Слушай, сейчас будет «бум»! А теперь, смотри, вон там! Ах, как красиво!
Ему было десять месяцев, и он умел хлопать в ладоши.
Тем летом было тепло по утрам, но перед тем, как разгоралась полуденная жара, приходили грозы. Потом шел дождь, всегда днем, и земля начинала благоухать. А девочки бежали во дворы, торопясь снять белье с веревок.
Могло показаться, что моя жизнь стала спокойной и ленивой и что мне было нечем заняться. Сплошной летний отдых. Но на самом деле единственными приятными моментами для меня были минуты, когда я играла с сыном. Я собирала в сердце эти теплые мгновения, чтобы пережить все остальное.
Данру был такой умница! Наверное, каждая мать так говорит про свое дитя. Но ты представь сама: когда ему не было и года, я спрашивала:
– Где мама?
А он показывал на меня и улыбался.
– Где Данру? – Он показывал на свой животик и улыбался.
– Где папа? – И он показывал на Вэнь Фу, только без улыбки.
Данру верил мне, каждому моему слову. Если он просыпался голодным и начинал плакать, я входила в детскую и говорила:
– Не плачь, не плачь. Я сейчас пойду вниз и принесу тебе что-нибудь вкусное.
И когда я возвращалась к нему, он так и стоял в кроватке, но без слез.
Так что я знала, что Данру вырастет хорошим человеком, доверчивым и заботливым. Он совершенно не был похож на отца.
Выгнав Минь, Вэнь Фу вернулся в мою постель. А еще он спал с самыми разными женщинами: местными девушками, проститутками, даже со школьной учительницей. Думается, мы все для него были на одно лицо, как стулья, на которые он садился, или палочки для еды. Если бы я хоть слово сказала против или вообще рискнула как-либо перечить ему, он устроил бы огромный скандал, и обязательно за ужином. Ради покоя в доме я старалась держать рот на замке, но внутри у меня все бушевало. И промолчать удавалось не всегда.
Однажды причиной для скандала действительно стало одно-единственное мое слово. Вэнь Фу попросил кухарку приготовить свое любимое блюдо: свинину со сладкой капустой. Я тоже любила это, но тем летом капуста уродилась невкусной, видимо, пила плохую воду. И когда Вэнь Фу спросил, понравилась ли мне еда, я решила ответить честно:
– Горько.
На следующий вечер он заказал мне то же самое блюдо, и больше ничего.
И с улыбкой спросил снова:
– А сегодня как оно тебе?
Я ответила так же, как прежде. И так вечер за вечером. Одно и то же блюдо, один и тот же вопрос, один и тот же ответ. Мне приходилось есть горькую капусту или оставаться голодной. Но я не сдавалась. Я дождалась, пока Вэнь Фу не устал от этой капустной игры. И за две недели выяснилось, что мой желудок крепче его дурного нрава.
Это может показаться глупостью: такое противостояние из-за невкусной капусты. Я могла солгать: «Сегодня еда просто восхитительна», но мне казалось, что уступка равносильна признанию, что моей жизни настал конец.
Итак, наши отношения становились все хуже. Кстати, хорошо помню, что в то время все вокруг приходило в упадок, по всей стране. Многие – например, пилоты, приходившие к нам на ужин и маджонг, – говорили о войне, словно о какой-то эпидемии, распространявшейся по земле и заставлявшей людей лгать, мошенничать и ненавидеть друг друга.
Мне казалось, это началось год назад, когда внезапно закрыли Бирманскую дорогу и сюда перестали доходить грузовики с боеприпасами. Люди кричали:
– Какие могут быть самолеты-истребители без керосина? Как армия защитит нас без оружия?
Все злились, оттого что чувствовали себя беспомощными. Эту дорогу закрыли не японцы, а англичане. Они ею управляли и решили прикрыть, когда не смогли выбрать, какое правительство поддержать: японское или китайское. На принятие решения у них ушло целых три месяца. И когда они наконец сказали, что поддерживают Китай, кто им поверил? Нет, все, конечно, сделали вид, что рады их возвращению. А что еще оставалось?
Американцы были ничем не лучше. Они провозглашали китайцев своими лучшими друзьями. Летом даже приезжал Шеннолт с обещаниями привезти самолеты, чтобы нас защищать. Но на следующий день мы услышали, что американские компании заключают крупные сделки с японцами, продавая им топливо и металл на самолеты, те же, которые сбрасывали бомбы на Китай. Что бы ты почувствовала, услышав это? Как много пилотов, и в том числе наших друзей, погибло! Уже не было в живых половины третьего выпуска и почти всех, кого зачислили на последующие курсы, шестой и седьмой. Все совсем еще мальчишки. Вечерами пилоты рассказывали о новых смертях, новых павших героях. Сколько же горьких и злых слез мы пролили!
Но худшее ждало нас впереди, когда китайские лидеры поклонились японцам. Второй по рангу лидер Гоминьдана заявил, что Китаю надо сдаться и поддержать японское правительство. Это было равносильно приказу разрыть могилы наших предков и бросить кости псам. Кто мог до такого додуматься? Но нашлись те, кто додумался, и с каждым новым разом мы все больше теряли надежду. Иногда нам даже казалось, что мы терпели и боролись лишь ради этого унижения.
На рыночной площади часто проводились собрания, где ругали предателей и выкрикивали лозунги, чтобы поддержать боевой дух людей. Однажды я сама оказалась на таком собрании. Армейский капитан кричал в громкоговоритель, что китайский народ не должен сдаваться.
– Мы должны стремиться к сопротивлению японцам, – говорил он. – Даже если ради победы нам придется пожертвовать всей кровью хань[16]16
Китайская империя, в которой правила династия Лю, и период истории Китая после империи Цинь перед эпохой Троецарствия. Свидетельством успеха ханьской внутренней политики стало то, что она просуществовала дольше любой другой империи в китайской истории. Ее правление и институты послужили образцом для всех последующих. Более того, основная этническая группа китайцев по имени государства стала называться хань.
[Закрыть] до последней капли.
Мы с Хулань удивлялись этим речам, потому что, кроме нас, в толпе не было ни единого носителя крови хань. Толпа состояла из представителей различных племен: мяо, бай, ии, хуэй, бирманцы и другие бедные горные народы и беженцы. Их вынудили спуститься с гор, чтобы послужить войне и отдать своих сыновей в солдаты и рабочие. С ними обращались как с ничтожествами, как со скотом, которому доверено только переносить грузы. Но они стояли тут, слушая патриотические речи о китайцах хань на языке, который не был им родным, хлопали в ладоши и громко приветствовали оратора. Я тогда подумала, что в горах эти люди, видимо, вели очень тяжелую жизнь. Мне вспомнилась одно мудрое высказывание, известное здесь каждому: если не можешь изменить свою участь, измени к ней отношение. Наверное, эти люди так и сделали, перестали винить во всем судьбу и поверили, что тоже стали Хань. И теперь у них появилось то, ради чего стоило сражаться. И я решила, что у этих людей есть чему поучиться.
После того дня на площади я стала понемногу менять свое отношение к жизни. Я не чувствовала, что готова умереть, нет, еще нет. Но думала так: если мне суждено скоро умереть, то я больше не буду страдать в этом браке. А если не умру, то найду способ из него выбраться.
Примерно в то же время начала меняться и Хулань. Но в ней поменялось не отношение к жизни. У нее вырос аппетит. Она с каждым днем ела все больше и больше.
Сначала я подумала, что Хулань беременна, но почему-то молчит об этом. Я знала, что ей безумно хочется иметь детей, она никогда этого не скрывала. Когда бы я ни жаловалась ей на Вэнь Фу, или на войну, или на то, как я скучаю по дому, она отвечала:
– Будь у меня такой сын, как у тебя, я бы все перенесла с благодарностью.
Но сына у нее по-прежнему не было, а она продолжала тянуть в рот все, до чего могла добраться. Она всегда ощущала голод. И я не говорю о тяге к нежнейшему тофу или ароматной жирной свинине, словом, к чему-то конкретному. Нет, она видела нищих, сотнями и тысячами входящих в город каждый день, замечала, как они истощены, как открывают рты, будто надеясь поймать что-нибудь съедобное, как кожа свисает с их костей, и ей становилось страшно.
Кажется, что она представляла, что станет такой же, если ей будет нечего есть.
Мне запомнилась молодая нищенка, прислонившаяся к стене, ведущей в старую часть города. Хулань смотрела на нее, а девушка – на Хулань, и во взгляде ее было что-то жестокое и неистовое.
– Почему она так на меня смотрит? – спросила Хулань. – Как изголодавшееся животное, готовое сожрать меня, чтобы спасти свою жизнь.
Каждый раз, когда мы проходили мимо, Хулань утверждала, что девушка становится все тоньше и тоньше. По-моему, в этой нищенке она ввдела себя в прошлом, оставшейся в далекой деревне. Как-то Хулань рассказала, что ее семья чуть не умерла от голода.
– Каждый год наша река выходила из берегов. Иногда понемногу, а иногда сильнее. В один год воды было столько, что казалось, будто перевернулся огромный чайник. Когда вся эта грязная вода залила поля, весь урожай погиб, и есть стало нечего. Остались только сухие лепешки из сорго. У нас не хватало чистой воды, чтобы распарить их, поэтому мы так и ели их сухими и твердыми, смачивая только своей слюной. Мама делила всю еду на части, сначала мальчикам, а потом, вдвое меньше, – девочкам. Однажды я так проголодалась, что съела всю лепешку сама. Когда мама об этом узнала, она побила меня с криками: «Какой эгоизм! Съесть всю лепешку!» И потом она не кормила меня целых три дня. Я так плакала, у меня так болел живот! И все эти мучения мне пришлось перенести за одну сухую лепешку сорго, о которую зубы можно было поломать!
Ты бы подумала, что раз Хулань помнит эти жесткие лепешки, то не станет жалеть монет или даже еды для миски нищего. Нет, я не говорю, что сама подава – ла им все время. Просто Хулань не сделала этого ни разу. Она старалась съесть как можно больше сама. Копила жир на теле так, как некоторые копят деньги на счету, чтобы потом воспользоваться ими в крайнем случае. Вот что я имела в виду под тем, что Хулань изменилась. Когда-то она была очень щедрой, но теперь, увидев бедственное положение других людей, вспомнила, что не так давно была такой же, как они. И, возможно, все еще может такой стать.
Этим летом Вэнь Фу и Цзяго уехали в Чунцин. Цзяго сказал, что там они будут обучать людей, прибывших защищать новую столицу. Он точно не знал, когда они вернутся, но приблизительно через два или три месяца.
Перед отъездом мой муж хвалился важностью своей работы: обеспечение воздушных и наземных сил радиосвязью, чтобы можно было вовремя предупредить о приближении японцев. И когда он это говорил, я задумалась: как ему доверили такое важное дело? Ему, известному лжецу? Я радовалась его отъезду.
После того как мужчины уехали, Хулань стала внимать каждому слуху.
– Говорят, японцы собираются снова бомбить Чунцин, причем скоро! А может быть, и Куньмин! – как-то сказала она и принялась за приготовление большого обеда для себя.
Услышав раскаты грома, Хулань выбежала во двор и посмотрела на небо, ожидая увидеть бомбардировщики, спрятавшиеся за дождевыми тучами.
– Положись на уши, пока не видят глаза, – посоветовала я. – Гром всегда раздается со стороны больших Бирманских гор, на западе. А бомбардировщики прилетят с севера или с востока.
– С японцами никогда не знаешь наверняка, – с умным видом изрекла Хулань. – Они думают не так, как китайцы.
А потом она снова выбежала во двор, чтобы уличить меня в ошибке.
Так было несколько раз. Однажды я купала на кухне Данру, и вдруг до меня донесся ее вопль:
– Летят! Все, кончились наши дни!
Я подхватила на руки Данру, замочив платье, и выбежала на улицу, чтобы посмотреть, куда она показывала. Там, в небе, виднелась стая птиц. Их строй напоминал строй японских истребителей.
Я с облегчением рассмеялась:
– Это птицы! Единственное, что они могут на нас сбросить, лишь испачкает нам головы.
Хулань казалась оскорбленной в лучших чувствах.
– Почему ты надо мной смеешься?
– Не над тобой.
– Я видела, как ты смеялась.
– Ну конечно, я смеялась. Ты же сказала мне, что мои дни кончены, я выбегаю и вижу, что еще жива. На небе только птицы. Вот я над этим и смеюсь.
– Они выглядят прямо как самолеты, даже сейчас. Сама посмотри. Любой мог бы ошибиться.
По мне, эти птицы выглядели как птицы. И в тот момент я подумала, что у Хулань, наверное, портится зрение. Она начала обвинять меня в том, что я что-то не так вижу, а раньше просто подтрунивала надо мной.
Однажды Хулань отложила спицы для вязания и вмиг потеряла их. Когда я их нашла, она долго смеялась и сказала, что, должно быть, их проглотило привидение, а потом выплюнуло обратно. Но в следующий раз она потеряла иголки, нахмурилась и заявила:
– Наверное, это твой сын их куда-нибудь затащил.
Я задумалась, каково это – прожить жизнь, ничего не видя в ясном свете и не замечая собственных ошибок. Но с другой стороны, с какой стати она взялась винить моего сына в собственной невнимательности? И почему я должна терпеть ее придирки, когда это она перепутала птиц с бомбардировщиками?
В следующий раз, когда мы с Данру и Хулань отправились на рынок, я отвела ее к торговцу, продававшему очки.
Крохотный магазинчик в новой части рынка появился после начала войны. У продавца на столе лежало несколько пар очков, а остальные размещались в нескольких корзинках. Те очки, что на столе, как объяснил продавец, нужны были только для того, чтобы определить остроту зрения.
Хулань надела первые, посмотрела на нас с Данру и рассмеялась:
– Ой, я сейчас как будто снова оказалась на той горной дороге. От этих очков у меня голова кружится.
Данру в полном молчании и с беспокойством наблюдал за ней.
– Что, думаешь, куда спряталась тетушка Хулань? – спросила она малыша. Он улыбнулся и стянул очки с ее лица.
Мы обе рассмеялись, и Хулань примерила еще три разные пары. Но, надев на нос четвертую, затихла и не дала Данру стянуть и эту тоже. Она посмотрела вверх и вниз, сняла очки, потом надела снова, подошла к дверям и посмотрела на лавочки через дорогу.
– Я вижу чудесный шарф, – сказала она. – И бобы, которые надо купить.
Продавец был очень доволен. Он показал Хулань корзинку, в которой были нужные ей очки, и предложил ей выбрать. На некоторых красовалась золотистая оправа, а некоторые казались сделанными из дешевой жести. Потом я заметила, что у каких-то недоставало дужки или из-под стертой позолоты виднелся сероватый металл.
– Это же старые очки, – сказала я продавцу.
– Конечно, старые, – согласился он. – А где сейчас взять новые? Весь металл идет на военные нужды, а не на такие вещи.
Он повернулся к Хулань:
– Вот, мисс, эти особенно хороши, британские. А те, что сейчас на вас, подешевле. Признаюсь, они из Японии.
Это известие не обеспокоило Хулань и Данру, увлеченно перебиравших оправы. Но меня очень смущало, что в корзинках, возможно, лежат очки мертвецов.
Хулань выбрала очки с круглыми стеклами, без оправы, лишь с небольшим островком металла, удерживающим их на переносице, и золотистыми дужками. Я сказала, что в них она похожа на ученого, и ей это очень понравилось.
По пути домой она все время то снимала очки, то надевала снова.
– Ты это видишь? – спрашивала она меня.
– Корзина с красными перцами.
– А это? – Она указывала вниз по дороге.
– Мужчина продает каменный уголь.
– А за ним?
Она будто устраивала мне проверку зрения!
Так Хулань и рассматривала все на рынке, с очками и без. По дороге нам попался военный грузовик, возле него которого стояли солдаты. Данру смотрел на них во все глаза, и я задумалась о том, что он сейчас видит. Солдаты были совсем молодыми, еще мальчиками, только что призванными на службу, судя по тому, как на них висела форма. Многие из них выглядели гордыми и восторженными. Кто-то любовался своими новыми ботинками. Скоро этот грузовик отвезет их в места, о существовании которых они раньше не подозревали. Но сейчас в их лицах я видела детскую доверчивость, как у Данру.
Мужчина постарше прокричал приказ, и солдатики выпрямились и полезли в грузовик, чтобы встать там, в кузове, опираясь на деревянные поручни. Только тогда я увидела матерей, бабушек и сестер, плачущих и машущих им с другой стороны дороги. На них были тюрбаны и яркие юбки, самая нарядная одежда. Они спустились с гор, чтобы попрощаться. Кто-то из молодых солдат улыбался и радостно махал в ответ, но кто-то был напуган. У одного дрожали губы, которые он по-детски прикусил, пытаясь сдержать слезы.
Я смотрела на этого юношу, по сути, еще ребенка, и думала о том, куда он едет и что будет с ним дальше. Наверное, он и сам думал о том же.
– А это видишь? – снова спросила Хулань, указывая на корзину грибов, моих любимых. И вскоре я забыла о молодых солдатах.
В то утро Хулань стала большим экспертом по грибам. Теперь, когда она хорошо видела, она быстро обнаруживала все недостатки товара: примятые, перестоявшие или поломанные. К счастью, выбор был богатый, и все свежее. В Куньмине грибы круглый год росли в тенистых складках почвы возле холмов, окружающих город. Я выбрала несколько штук на длинных ножках и с крупными шляпками. Не помню, как они называются, но до сих пор помню их вкус. Если их посолить и обжарить в горячем масле, то они становятся такими нежными, такими легкими, что их можно есть целиком, и шляпку, и ножку, ничего не надо выбрасывать. В тот день на рынке мне их очень хотелось. Я собиралась приготовить их с острым перцем, который долго вымачивается в масле, пока не потемнеет. Я как раз думала об этом блюде и уже тянулась к банке с перцами, как раздался вой сирен и заговорили репродукторы:
– Пип! Пип! Пип! Внимание! Внимание!
Эти звуки повторялись снова и снова. Люди отреагировали на них так же, как в Нанкине, когда японцы сбросили листовки. Я схватила Данру и выронила все остальное: и грибы, и перцы. Люди вокруг нас тоже бросали пожитки на землю и с криками разбегались в разные стороны, к городским воротам. Именно это советовали делать голоса из репродукторов:
– Бегите к ближайшим городским воротам, и прочь от города!
– Ближайшие! А где ближайшие? – кричали люди.
Хулань поправила очки.
– Сюда! – крикнула она, указывая на юг.
– Нет, сюда ближе, – прокричала я в ответ, показывая на север.
– Некогда спорить!
– Поэтому я и говорю, что надо бежать на север. Если поторопимся, то успеем.
И я бросилась к северным воротам, больше не тратя времени. Через пару минут я увидела, что Хулань бежит рядом со мной. Когда появились японские самолеты, мы все еще бежали. В небе появились и бомбардировщики, и истребители, мы видели, как они подлетают, и знали, что они оттуда, с неба, тоже видят нас. Видят даже, как нам страшно. Они могли решать, какой город бомбить, каких людей расстреливать.
Я видела, как они приближаются. И если бы не берегла дыхание для бега, то непременно сказала бы Хулань:
– Видишь, они прилетели с востока, как я и говорила!
А потом мы обе увидели, как самолеты разворачиваются, все сразу. Они полетели в другом направлении, а мы остановились. Спустя несколько секунд мы услышали взрыв бомбы, потом еще одной, и еще. Земля под ногами вздрогнула. А потом все кончилось. Мы не умерли. Над юго-восточной частью города поднимался дым. Данру хлопал в ладоши.
Как только сирены замолчали, мы отправились обратно. Люди, ликуя, поздравляли друг друга:
– Какая удача! Удача!
Вскоре мы уже снова были на рынке, многолюдном как никогда раньше. Люди, выжившие во время налета, решили не откладывать покупок. Кусок мяса или пара обуви перестали быть для них лишней тратой или роскошью. Ведь жизнь могла оборваться в любую минуту, под вой следующей сирены.
Мы с Хулань вернулись к торговцу, чтобы купить грибы, которые нам так понравились. Торговец сказал, что во время бомбежки ничего не потерял, что весь его товар цел и невредим. Мы поздравили его, и он предложил нам хорошую иену. Все ощущали прилив щедрости.
– Ее сын такой умница, – сказала Хулань, показывая на Данру. – Ему нет еще и года, но когда завыли сирены, он не плакал. А когда стали падать бомбы, он решил, что это гром от молнии. Он повернулся, подождал молнии, а когда все закричали, стал хлопать в ладоши.
Я была очень горда тем, как Хулань рассказывает о моем сыне, и подбросила его в воздух, чтобы он рассмеялся.
– О, да ты у нас настоящий пилот!
– Какой хороший мальчик! – сказала Хулань.
– И такой умница!
– И такой умница!
Всю дорогу домой мы с Хулань во всем соглашались друг с другом. Как хорош Данру, как повезло, что мы живы, как дешево мы сделали покупки на рынке!
В тот вечер мы отпраздновали удачный исход первой бомбежки роскошным ужином и большим количеством ароматного чая. Тетушка Ду и служанки хохотали, в который раз рассказывая, где они сидели или стояли, когда завыли сирены. На десятом круге истории стали глупыми и смешными, и мы все продолжали хохотать, пока слезы не потекли из глаз.
Я несла вниз ночную вазу, – говорила горничная. – И вдруг – бабах! А потом – бубух! И на пол упала бомба! Пахучая катастрофа!
– Ты думаешь, это ты испугалась? – вторила тетушка Ду. – Я гналась за курицей с топориком в руках, и вдруг оказалось, что это курица гонится за мной!
– Так мы и стояли, Уэй-Уэй и я, спорили о том, в какую сторону бежать, – дождалась своей очереди Хулань. – Вот точно вам говорю, когда бомба уже над твоей головой, не время спорить, куда бежать ногам!
Спустя два дня бомбардировщики прилетели снова. И мы снова побежали к городским воротам, и снова вернулись домой невредимыми, чувствуя себя настоящими счастливчиками. В тот вечер мы тоже праздновали, но уже не так шумно. Мы опять делились друг с другом забавными историями, только до слез больше не смеялись.








