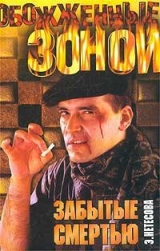
Текст книги "Забытые смертью"
Автор книги: Эльмира Нетесова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 25 страниц)
– Она – красавица! Не зря за ней целых три года ходил, – признался Митенька.
У Тоськи лоб испариной покрылся. Лицо побледнело. Она как-то странно оглядела брата и сказала чужим, сдавленным голосом:
– Хотя да, вырос ты. Уже совсем большой. Я как-то забыла совсем об этом.
В тот день она допоздна отмывала, белила, чистила Митькину комнату, иногда оглядывалась на брата, смотрела на него, будто увидела впервые.
Митька не обращал на нее внимания. А вечером пошел на работу. Когда вернулся, Тоськи не было.
Сестра пришла на следующий день. Утром, едва Митька встал с постели. Он был в прекрасном настроении. И долго рассказывал, как режиссер театра предложил ему роль в спектакле.
– Я буду играть нищего. Самого себя! Ты только послушай! Артистом стану. Настоящим! Режиссер сказал, если получится, возьмет в труппу – на гастроли!
Тоська, возившаяся у плиты, уронила ложку на пол. Не знала, что ответить.
– Ты знаешь, если все хорошо сложится, перейду я в дом жить. Вместе с Ниной. За меня – артиста она, конечно, пойдет замуж. Станем все вместе жить, чего тебе одной скучать в таких хоромах? Да и нам здесь тесновато будет. Ну, а не захочешь жить с нами, сюда переберешься. Одной много ли надо? – строил планы Митька.
– Ты вначале женись, – подала кашу в миске. Сама, пригорюнившись, села у стола.
Горбун ел с жадностью. Сегодня он решил учить свою роль.
Тоська молча убрала со стола. А Митька все рассказывал, как обрадует он Нину, сказав о предстоящей работе артиста.
– Небось за нищего не пошла бы! А за артиста любая побежит замуж, – выдавила, скривив губы, сестра.
– Она не с артистом, со мною, с нищим, дружила и не брезговала! – вступился за девушку Митька. И сел к окну с текстом роли. Но… Вскоре почувствовал слабость, тошноту, рези в желудке. А через минуты – жутко заболела голова. Строчки поплыли перед глазами.
– Ты ляжь, отдохни. Это радость по тебе ударила. Такое бывает, – тащила Тоська к постели, пытаясь уложить в нее насильно. Но Митька, теряя сознание, вышел на улицу, подышать воздухом. Думал легче станет…
Он не помнил, как упал в пыль, как оказался в больнице. Его промывали со всех сторон. Заставляли пить какой-то раствор – от него кишками едва не вырвало. Клизмы раздували кишечник, как пузырь.
Митька орал от боли, раздиравшей все тело. Ему делали уколы один за другим. Парню казалось, что он умирает, и горбун не понимал случившегося с ним.
– Потерпи, Митя, крепись, милый. Ты такой сильный, держись! – узнал голос Нины, и девичья рука легла ему на грудь.
– Спасибо тебе, – едва нашел в себе силы, и тут же новый приступ скрутил Митьку в штопор.
Он хотел увидеть глаза Нины. Зеленые троячки. Но вместо них густая ночь нависла над головой.
Митька глох и слеп от боли. Он лежал на больничной койке смятым комком. Не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. Потливая, скользкая слабость вконец одолела. Как хочется пить… Но губы не разодрать. Они не слушаются, словно чужие стали.
– Митя, попей, – доносится до слуха, и железная ложка стучит по зубам, тихо сочится вода по капле на одеревеневший язык.
Горбун с трудом проталкивает воду внутрь.
«Отчего так болит горло?» – пытается он вспомнить. Но снова потерял сознание.
Лишь на пятый день, придя в себя полностью, узнал, что произошло. Не хотелось верить следователю, Нине, но сказанное ими подтвердилось…
Змеюка Тоська, стерва облезлая, хромоногая курица, чума болотная, а не сестра, вылила Митьке в кашу ртуть из двух градусников. Отравить решила брата. Уж очень не хотелось ей лишаться дома, к которому давно привыкла и считала своим.
Десять лет по приговору суда поехала она отбывать на Печору.
В зале суда она молчала. Отказалась отвечать на вопросы обвинения. Не воспользовалась правом последнего слова.
Да и куда ей было открыть рот, если горожане, собравшиеся в зале суда, обзывали и грозили ей так, что скамья под задницей казалась горячей сковородкой.
– Столько лет мальчишку заставляла побираться, а сама вон какую жопу отожрала на милостынях! Сука облезлая, чтоб ты сдохла! Мало денег, крови захотела? Откормил пацан на свою шею старую блядь!
– На куски курву!
– На каленое железо! Пока не рассыплется в прах!
– Смерть ей! Какой срок?
Едва Тоська пыталась открыть рот, ее освистывали со всех сторон – громко, зло.
Уж чего ей не желали, каких гадостей не наговорили. Особо старались нищие. Они в день суда заявились. Своего собрата жалели во все горло. Их невозможно было успокоить, угомонить. Выставить на улицу никто не посмел.
Митька ничего не просил у суда для сестры. Смягчить или ужесточить приговор не требовал. Оставил все на волю самих судей, удивляясь, что снова жив остался.
Придя в себя после больницы, вышел на работу, взялся учить роль, которую предстояло сыграть в театре.
Жил он теперь в доме единственным и полновластным хозяином.
Митька был жадным человеком. А потому ни с кем не общался, даже с ближайшими соседями.
В свою комнатенку пустил на квартиру нищего – Ваську-козла. И ежемесячно брал с него плату.
Когда Митька впервые выступил в спектакле в роли актера, зал, стоя, аплодировал ему, узнав в артисте известного городского нищего. Успех спектакля был неожиданно громким. Митьку не просто узнала, но и признала публика. Его забрасывали цветами. И режиссер театра сдержал слово, взял Митьку в труппу. Он, на удивление, оказался способным актером. И сам режиссер драмтеатра вскоре признал, что, видимо, благодаря артистическим данным Митька был удачливым, преуспевающим побирушкой.
Горбуна такой вывод не обидел. Он постепенно свыкался со своим новым положением в обществе, еще не понимая, что актер и нищий мало чем отличаются друг от друга.
Успех обоих зависел от признания толпы. А она – многолика и не всегда справедлива. Она меняет надоевших кумиров. А потому одинаково безжалостно бьет назойливого нищего, освистывает, материт надоевшего актера.
Зритель, как капризная бабенка, всегда хочет перемен, новых острых ощущений, смешных сцен.
И Митька старался. Он понимал – ему никак нельзя сорваться, оплошать, иначе зритель живо напомнит ему, кто он, и вернет в прошлое, втопчет радость, разобьет хрустальную мечту, которая была дороже жизни.
Нина и впрямь не заставила себя долго уговаривать. Едва Митеньку признала публика, назвав его кумиром сезона, девушка согласилась выйти за него замуж.
Увидела воочию, сколько поклонниц появилось у ее ухажера. Он для них перестал быть горбуном и нищим. Ему даже любовные записки приходили из зала. И девушка решила обойти всех.
Теперь она была на каждом спектакле. Сидела в первом ряду. И ловила на себе завистливые взгляды незадачливых поклонниц мужа.
Он настоял, чтобы она оставила работу. Сказав: мол, не к лицу жене актера работать в больнице нянькой.
На самом же деле работы хватало и дома. Нина едва успевала.
Случалось, выматывалась так, что еле на ногах держалась. Но вечером, не глядя ни на что, шла в театр. Нарядные вечерние платья, модные туфли, украшения, тонкие духи – все имела она. И деньги… Для нее ничего не жалел горбун. Она была его радостью. Единственной, постоянной.
От нее у него не было секретов. Она одна жила в его сердце полновластной хозяйкой. Он дышал, жил, он любовался ею. Она была для него выше любого признания, дороже аплодисментов, денег. Она была его судьбой.
Он помогал ей во всем. Был самым нетребовательным и кротким. Может, потому все пять лет жили они душа в душу. И казалось, никто и ничто не может нарушить их покой, омрачить радость. Но судьба свое подкараулила. И когда Митенька, обрадованный, услышал, что Нина ждет ребенка, уже через месяц случился выкидыш.
Жену еле спасли. Митька не находил себе места. Утешал, успокаивал, убеждал, что дети у них будут. Чтобы жена немного забылась, отправил ее на курорт. Отдохнуть, подлечиться. Она согласилась с радостью.
Митька проводил Нину до самого купе. Просил звонить, сообщать о здоровье. Если понадобятся деньги, обещал выслать тут же.
Нина уехала на месяц. Митька все дни пропадал в театре. Новый сезон режиссер задумал комедийным, и в предстоящих спектаклях Митьке достались второстепенные, незначительные роли.
Горбун страдал. Он мучительно переживал угасающую популярность. Публике он надоел. Она теперь предпочитала видеть на сцене полураздетых сисястых девок с могучими задницами, умеющими дергаться в ритм немыслимой музыке. Спектакли перестали быть интересными и напоминали скорее представление балагана, где полуголые раскрашенные девки, подергивая ляжками, пытались перевизжать, перехрипеть одна другую. Такие представления пользовались громадным успехом и собирали полный аншлаг.
На спектакли умные приходили немногие истинные ценители. И мало-помалу ставить их стало делом безнадежным, бессмысленным.
Понемногу загрустили актеры, ругая своих зарубежных собратьев, навязавших зрителю дешевый гастрольный репертуар, ставший модным повсюду.
Труппа актеров заметно изменилась. Изменились и спектакли. Классику вытеснили за старомодностью.
Все чаще оставались без ролей недавние любимцы публики. Они тоже состарились, как детские игрушки, доживающие свой век в забвении, так и артисты – все чаще оставались за кулисами.
Митька только тогда понял, что помогало ему держаться в театре. Ведь заработок актера всегда был смехотворно низким. Прожить на него, не голодая, не мог никто. Удерживали на сцене лишь признание и восторг зрителей. Когда и это стало угасать, работа потеряла смысл. И актеры начали терять форму. Иные стали выпивать. Другие в хандру впали.
Но Митенька еще держался.
Он изо всех сил убеждал себя, что веяния моды пройдут и. зритель снова затребует серьезных спектаклей, что нынешняя чехарда – скоротечная болезнь. Но… Начался новый сезон, а перемен в репертуаре театра не наметилось.
Горбун сник. Он подсчитывал уже каждый месяц, сколько протянут они с Ниной на старые сбережения. Их оставалось совсем немного. А тут, словно подслушав его, подошел к Митеньке режиссер театра и, изысканно извинившись, сказал:
– Времена для театра наступили тяжелые. Настоящее испытание. Не все с ним справляются. А тут приказ пришел из Министерства культуры. Требуют сократить труппу за счет неперспективных актеров. Вы меня поймите правильно. Я бы с дорогой душой оставил. Но… У тех – образование, стаж работы, сотни ролей сыграны. Вас я взял на свой страх и риск. Не скажу, что ошибся. Талантливый вы человек. Но я не могу оставить вас, а сокращать их. Посыпятся жалобы, кляузы, проверки. Они нам все нервы измотают. И все равно проиграем. Уж лучше сразу. Самому. Вы меня поняли? – спросил он, виновато улыбаясь.
– Понял, – ответил Митенька и, ссутулившись, вышел из театра, дрожа всем телом от услышанного.
– Нина, меня сократили. Я больше не работаю в театре. Не нужен стал. Изменился репертуар. А у меня, как ты знаешь, нет образования, нет прав, чтобы потребовать оставить меня, – глянул Митька в лицо жене. Та ничего не ответила. – Ты не расстраивайся, я подыщу себе работу. И все наладится. Ведь тебе не обязательно иметь в мужьях артиста? Главное, мы друг у друга! Правда же? – улыбался Митька, веря, что Нина, конечно, согласится.
– Ты снова побираться станешь? – глянула она на него колюче.
– Это почему? Неужели ты думаешь, что меня никуда не возьмут и я не сумею заработать на нас двоих?
– Ну кому ты нужен? Где найдется для тебя работа? Здоровые, сильные мужики – в неприкаянных. Ты же глянь на себя! Что сумеешь? Да и не умеешь ни черта! Только побираться и кривляться! – отвернулась к окну.
– Ну это ты зря. Я еще на многое способен. Не старик. Рано меня со счетов сбрасывать. Работы никакой не боюсь и не стыжусь. А и без претензий выбирать буду, где больше заработок, – не обиделся на жену.
– Знаю я твой заработок. Завтра же христарадничать пойдешь. А все потому, что жил по-идиотски. Ничему не учился. Только побираться. В твоем возрасте мужики все умеют, а ты – только рожи корчить да людей пугать.
– Наверное, не только это, если ты за меня замуж вышла.
– Я? Да я из жалости! Думала, привыкну, заставляла себя примириться с тобой. Поначалу получалось. А потом поняла – не смогу. Ты – вечный фигляр! Клоун и в жизни, и на сцене. Я устала от тебя. Как от комара, возомнившего себя соколом. Я терпела, сколько могла. Больше нет моих сил, – глянула в лицо зло.
– Из жалости жила пять лет? Сильна! Сколько знаю, из жалости лишь милостыню подают. Выходит, и ты не лучше тех?
– Скоро вернешься на паперть! Деньги к концу подходят. Зачем тебе нужна семья, какую обеспечить не мог? Я лучшие годы свои тебе отдала. И что теперь?
– Мы вместе тратили. А что до семьи, так у нас ее, выходит, не было! Ты свободна. Забирай оставшееся и уходи.
– Адом?
– Его до женитьбы сестра купила. На подаяния. Он – мой!
– Не хочешь ли ты выставить меня с пустыми руками?
– Дом не отдам. Сама – на все четыре уходи! – встал Митенька.
– Уродина! Образина! Да я, если б не ты, могла бы прекрасно свою судьбу устроить! Ты все отнял – тень с погоста!
– Нина! Держи себя в руках. Мое терпенье не испытывай! Не ты ли говорила, что любишь меня? Выходит, врала? Давай расстанемся спокойно.
– Переходи в комнатенку. А дом оставь. Тогда все будет спокойно. Ведь это непорядочно – мучиться с тобой столько лет и уйти с голым задом.
– Значит, ты все годы не женой, проституткой мне была, коль плату требуешь! Чем ты лучше воров, коли с нищего суму снимаешь? Как я должен к тебе относиться? Соответственно поведению. Как к бляди! Пошла вон, курва! – схватил ее за воротник халата и выволок во двор.
– Гуляй, сучня! – вытолкал на улицу. И сел, обхватив руками голову.
Митька весь дрожал от негодования. Он не находил себе места в доме. И в то же время ему никого не хотелось видеть.
Он попытался отвлечься в огороде, занялся цветами, подмел двор. Едва вошел в дом, услышал стук в дверь. Тихий, робкий.
– Одумалась, стерва, приползла просить пощады! Сейчас сопли пускать станешь? Ну уж нет! Хватило с меня, наслушался! Век тебе не прощу и не забуду! – подошел к двери, открыл ее. Увидел на пороге Тоську.
Седая, состарившаяся, она виновато опустила голову и попросила:
– Впусти, Митя. Хоть на ночь. Ради Бога не гони меня. Я вам не помешаю.
– Входи, – открыл дверь сестре. Та неуверенно перешагнула порог. Села в уголке неприметно.
– Вырос ты, мальчик наш. Совсем уж мужчиной стал. Детки имеются? Где жена?
– Тебе это к чему? Ты любого на тот свет отправишь. И не икнешь, – оборвал вопросы.
– Не надо попрекать, Митя, прошлым грехом. Я за него перед Богом все годы маялась. Кровью своей очистила прошлое. Большего наказания, чем дал Господь, никто уже не добавит. А и перенести мое лишь чудом сумела. Все муки ада прошла.
– Жрать хочешь, страдалица? – перебил ее Митька.
– Если дашь, не откажусь.
– Пойди умойся с дороги для начала. А я пока на стол накрою, – предложил сестре.
Когда Тоська поела, понемногу разговорились.
– Разошлись, выходит? Жаль. Еще хуже, что из-за денег приключилось все. Неужели человеку надо пройти мое, чтобы понять, как мало они стоят. Иль работа твоя, к примеру. Одно званье. В одном я помогу тебе, Митенька. В зоне кое-что заработала, скопила. И тут, в доме, припрятано. От прошлого. Оно твое. На жизнь тебе хватит. Нуждаться не станешь. За тем и пришла, чтобы вернуть тебе то, что в детстве ты не от людей, от Господа получил.
– А плату за свое какую потребуешь? – не поверил Митька.
– Какую плату? Мне ничего уже не нужно. Я пришла совсем не за тем.
– Что нужно тебе? – насторожился Митька, не ожидая ничего доброго.
– Прости меня, Митенька, детка ты наша горемычная.
– Не причитай. Я еще живой. Чего взвыла?
– Отпусти мне грех мой. Прости, ради всего святого!
– И дом отпиши! Так, что ли?
– Не нужен он мне, Митенька! Ничего не надо. Ни дома, ни денег. В монастырь я ухожу. Навсегда, от всех. И от тебя, родной мой. Но не могу в монастырь войти, пока тобой не прощена. Отпусти грех. Не поминай лихом, – потекли слезы по выцветшим впалым щекам.
– Давно простил. Иначе и на порог не пустил бы. Бог с тобой…
– Сохрани тебя, Господи! Спасибо, Митя! Дай тебе Бог здоровья и радостей! – вытирала Тоська слезящиеся глаза.
Она попросила разрешения залезть в подвал. И, позвав брата, попросила отбить доску от пола. Там она отбросила в сторону землю, достала ведро. Из него выволокла шелковые чулки – забитые деньгами, связанными в пачки.
– Ого! Да тут целое состояние! – изумился Митька.
– Твои они. Ты их принес. Я только обменивала на крупные. Прости, что тогда тебе не сказала. Не до того было, сам знаешь, – прибила баба доску и тяжело вылезла из подвала.
– А с чего ты в монастырь уйти решилась?
– Иного пути нет, – поджала губы.
– Живи здесь, со мной. Места хватит нам, – предложил горбун.
Тоська отрицательно мотнула головой. Сказала тихо:
– Если разрешишь дух перевести – на том спасибо великое. А остаться насовсем – не могу. Слово дала Господу. Не хочу нарушить…
Митька, повеселев от Тоськиного дара, вначале и слушать не хотел ни о каком обете сестры. Но та вечером разговорилась:
– О зонах мне раньше слышать доводилось всякое. Но чего стоили все те слухи в сравнении с увиденным и пережитым? Я же попала в зону усиленного режима. За тяжесть преступления. Ну и погнали меня вместе с двумя десятками баб лес валить. Я в то время не то дерево спилить, дрова рубить не умела. А тут вогнала меня бригадирша в сугроб по пояс, под дерево, велела спилить березу. Я ж не знала, за какой конец пилу держать надо. И что с нею делать. А бригадирша долго не разговаривала. Видит – стою. Сунула в ухо – пили. Я в вой, из сапог вывалилась. Тут охрана подоспела. Узнали, в чем дело. Штык в спину и бегом в зону – на целый месяц в шизо. На хлеб и воду. Баланду – раз в неделю давали. В камере изолятора колотун такой, что до утра две бабы прямо на полу дуба врезали. От холода замерзли. Я с испуга чуть не рехнулась. Молила Бога выйти живой из штрафного изолятора. Уж я эти деревья решила зубами перегрызть, если пилой не сумею. Но из шизо я не вышла – выползла чуть живая. Вся простыла. Насквозь. Кашель допек. Меня из-за него с барака чуть не прогнали. Одно спасенье – в работе. Хоть нет опаски в сугробе замерзнуть. Так три недели прошли. И угораздило меня, дуру, попросить бригадиршу о других сапогах, меньшего размера, чтоб не выскакивать из них, не вываливаться. Да и в тех работать быстрее смогла бы. Не ждала для себя беды, – вздохнула Тоська и уставилась за окно пустыми, будто замерзшими, глазами. – Бригадирша велела мне разуться. Сняла я сапоги свои и жду, когда она их заменит. А бригадирша хлесь мне в рыло и орет: «Валяй, какие есть! Не хотела в резине, босая вкалывай! Тут тебе не хаза! Ишь губищи отвесила!»
И побежала я босиком по снегу. По сугробам. А мороз – под сорок жмет. Вскоре ноги онемели. Вначале с них кровь шла. И следы за мной тянулись от дерева к дереву. Кровяные. А бригадирша-зверюга хохочет: «Что? Потекла, пропадлина? Вкалывай, курвища!» И до самой темноты гоняла, что белку, от дерева к дереву. Лишь в бараке вернула мои сапоги. Да уже поздно, обморозилась я в тот день. А куда деваться? Бабы в бараке против бригадирши не то брехнуть, дышать боялись. Да и кому охота получать кулаком в зубы. За себя боялись. За меня подавно вступиться было некому.
– А сама что ж в морду ей не дала? – удивился Митька.
– Одна попыталась. Какая со мной вместе в зону прибыла. Охрана ее насмерть забила. На сапоги взяла. Одну впятером. На глазах у всех. После того даже перечить ей желанье у всех пропадало.
– Тебе же десять лет дали, а ты уже на шестом – дома! Как тебе удалось? – вспомнил Митька.
– Зачеты помогли. По половинке вышла. Если бы полный срок звонковать пришлось, ни за что не выдержала б, – призналась Тоська.
– Выходит, научили тебя лес валить?
– Не только его. И в шахте вламывала. На обогатительной фабрике. По четырнадцать – шестнадцать часов в день. Там я заработала зачеты себе. И вышла по половинке срока. А уж как мне это далось, вспомнить больно. По две смены на холоде и сквозняках. Дышать этой угольной пылью даже здоровому человеку не под силу. Бывало, откашляешься, а изо рта черные сгустки, В груди все печет, хрипит. Будто в угольной топке все перегорает.
– А как же тебе удалось с лесоповала уйти? – спросил Митька.
– Рысь на меня в тайге кинулась. Видишь шрам на шее? Ее следы. Чуть насмерть не загрызла. Охранник вовремя подоспел. Рысь убил. Заодно мне руку прострелил по нечаянности, я ею рысь отдирала. Вот и попала в больницу. Оттуда меня уже на шахту списали.
– А где легче было?
– Везде одинаково, Митя. Легче на том свете будет.
– Откуда знаешь?
– Туда все уходят. И никто не возвращается. Видно, лучше там. Да и я себе смерти не раз просила. Но, видно, не слышал Бог, покуда ты не простишь. И вот как-то прихватило меня один раз. Заложило нос и горло. Ни вздохнуть, ни выдохнуть. Воздух встал посередке, как кляп. Слезы из глаз. А ни крикнуть, ни позвать на помощь. Один страх. Нешто на том все? И тут, словно на смех, сосулька сверху сорвалась. С провода. И по спине огрела. Да так, что я на ногах не устояла. Со всех концов мигом откашлялась. И жива осталась. Но поняла, Бог спас! Увидел. Помолилась я тогда, дала обет, как из зоны выйду – уйду в монастырь до конца жизни. Вот только прощенья твоего мне недоставало.
– А ты думаешь, ждет тебя Бог в монастыре? Зачем ты ему нужна?
– Богу, может, я и не нужна. Но мне Господь нужен. Ведь для чего-то спасал? Значит, видел, жалел. Такое не бывает впустую. Выходит, скоро к себе заберет. А мне душу очистить надо. Покаянием. Молитвами. Постом и смирением. Без того нельзя ни жить, ни умирать.
– Не узнаю я тебя, Тоська!
– И хорошо. Значит, удалось мне себя переломать. Единому еще научиться хочу – на судьбу и людей не сетовать. Я получила свое…
Митьке стало жаль сестру. А она, улыбнувшись робко, протянула ему свою сберкнижку:
– Тут мое заработанное. Тебе под завещание отписано.
– Не нужно. Самой пригодится. Хоть и в монастыре. Не одним святым духом жить станешь. Есть надо. Вот пригодятся деньги, – отдернул руку.
– В монастырь я понесу только душу свою. Все земное, суетное там обуза и помеха. От него едино – соблазн. С меня хватит. Слишком много на мне грехов, слишком мало жизни. Успеть бы отмолить…
– И все ж подумай, Тося. Может, забота о ближнем Господу угоднее?
– Я этими руками едва не сгубила тебя. Не смею теперь ими хлеб тебе подавать. Очиститься надо. Ибо посягнувший на жизнь ближнего есть грешник. Прости, Митенька, не юродствую, не кривляюсь, для себя я все решила. Да и знамение было мне перед самым освобождением. Сон увидела. Маманю нашу и тятеньку. И вроде идут они по лужку, а трава под их ногами такая яркая да зеленая. А маманя все цветочки рвет. Ромашки. И венок из них плетет. Я враз голову подставила. Кому ж венок, как не мне? Но маманя на меня с укором глянула. Сердито в сторону отодвинула и говорит: «По твоей голове другой венок плачет. Из цветов мертвых, бумажных. Не стоишь ты венков счастья и радости. Я его для Митеньки приготовила. А тебе другой подарок припасла. Вот, возьми!» И кинула мне одежду монашенки. «Смиренье – доля твоя, кайся, грешница! Слезами, постом и молитвами живи до конца дней…» Сказала она это, и исчезли оба. Только одежда черная на моем плече осталась. А значит, нельзя иначе. Вот только смою с себя пыль дорожную, постираю, что возьму себе – бельишко сменное. И в путь. Прости, что немного стесню, потревожу тебя на малость. Но ведь больше никогда не увидимся. Став монашкой, я откажусь от земного. Все равно что умру для тебя и всех, кого знала. Тебе еще жить. А мною уже все пройдено. Последние шаги остались. Я еще плачу, я еще люблю, но уже не живу… Для тебя меня нет. Для других и подавно. Прости меня, пока я еще Тоська. Прости навсегда…
Утром, когда Митька встал, сестры уже не было в доме. На столе лежала записка, написанная усталой рукой.
«А ты все такой же, как в детстве, Митюшка мой родной. Я молилась за тебя всю ночь. Ты спал. Спасибо, что не прогнал, не оттолкнул. Ты очень сильный! Ведь только сильные умеют прощать! И ты – наш соколенок! Не верь, не горб, это крылья у тебя за спиной. Большие и крепкие! Совсем как у взрослого. Но ты не ищи меня. Я ушла навсегда. Так надо. Мне пора. Я не хотела говорить, что пришла лишь на одну ночь. И ты не знал, что я ухожу. Ты спал спокойно. Пусть будет безмятежной твоя судьба! Да сохранит тебя Бог! Прощай…»
Митька выглянул во двор. Следы на росистой траве вели от порога к калитке. Горбун вышел на улицу. Но нет, Тоська ушла давно.
Митька увидел деньги, сберкнижку сестры. И только тут поверил: она не шутила, она ушла навсегда, не оставив даже адреса…
Спрятав деньги и сберкнижку в Тоськин тайник, Митька решил поискать сегодня работу для себя.
Но, едва глянув на него, Митьке отказывали с порога. Две недели мотался он по городу, пока не понял: не возьмут его никуда. Он был хорош для города в должности клоуна. Другого у него не приметил никто. Город словно запамятовал, что и клоуну хочется есть, надо на что-то жить. Это никого не волновало. Натешился зритель. И теперь он мог смириться с Митькой-нищим. Но это было давно. И человек не захотел вернуться на паперть.
«А может, и мне уйти в монастырь?» – мелькнула внезапная мысль. И горбун, сам не зная зачем, пришел на кладбище, где не был уже много лет.
Могилы отца и матери заросли травой. Он привел их в порядок, очистив от сорняков и мусора, присел на скамью.
– Что так убиваешься? Разве этим поможешь горю? Крепись, браток! Нам, мужикам, держаться надо, – легла внезапно на плечо широкая рука.
Митька оглянулся.
Федор Никитин указал на две недавние могилы.
– Мои… И тоже душа болит.
Слово за слово – разговорились, познакомились. А через две недели получил Митька вызов. В Якутию. Не обманул человек. Не подвел. И горбун стал собираться в дорогу.
Дом он решил сдать под охрану милиции. Ведь не на всю жизнь, года на три поехать в Якутию хотел. Был уверен, что в городе о нем никто не вспомнит, а за годы отсутствия и вовсе забудут.
Митька даже деньги пристроил на вклад. Все на одну сберкнижку. Оставил себе лишь на дорогу и всякие непредвиденные расходы на первое время.
Вечером, упаковав чемодан, сел к столу. Грустно стало.
В этом городе он родился. А пришла минута расставания, даже прощай сказать некому. Никто не будет писать ему, ждать и вспоминать горбуна.
Лишь осиротелый дом, старея от одиночества, будет видеть в холодных снах своего хозяина у теплой печки, солнце в окнах и отзвучавший смех…
Нет, никто не тревожил Митьку. Нина даже не напоминала о себе. Она высказалась один раз.
«Вовремя все случилось. И Тоська… Вот умница! Приедь она на день раньше, так бы и жил в дураках, веря в брехню о том, что любим. Уж лучше сразу рвать. Хорошо – не опоздал, не все потеряно. Хотя… А на что надеяться? На новую жену? Да чем она лучше? Все то же повторится. Так зачем лишний раз себя терзать пустыми мечтами? Они как сказка о крыльях, спрятанных в горбе. Сколько ни маши руками – в небо не поднимешься».
Митька решил не тянуть время и отправиться в Якутию самолетом. Хотелось быстрее сменить обстановку, окунуться в новую жизнь. С билетом в кармане он вернулся домой, зная, что завтра улетит отсюда надолго.
И вдруг в дом без предупреждения вошла Нина.
Что надо? Мне нечем оплачивать постельные услуги! – бросил через плечо.
– Я за разводом. Дай согласие.
– Возьми скорее. Я уезжаю. Совсем забыл, что надо развестись. Не то от тебя жди чего хочешь – качнул головой.
– Уезжаешь? А дом?
– В нем остается сестра. Она освободилась. Да и какое тебе дело до дома моего? – покраснел за собственную ложь горбун.
– А то ведь на развод не соглашусь, нарожаю на твою шею! Так что подумай. Попробуй докажи обратное.
– Зачем пришла? Хватит паясничать! Давай уходи, коль по-человечьи проститься не умеешь. Ведь не увидимся больше. Тебе, когда одумаешься, даже извиниться будет не перед кем. Мы не встретимся никогда. Во всяком случае, я этого не захочу. Давай простимся тихо, – предложил Нине спокойно. И женщина только теперь приметила чемодан, поверила.
– Насовсем уезжаешь?
– Надолго. Может, навсегда…
– Зачем?
– Заново начну. Все сначала. Может, получится
– И далеко ли?
На север. Он велик. Нашлось и мне там место. Взяли на работу. Завтра улетаю.
– Так быстро? А я как же?
Согласие на развод получишь. Это я гарантирую. Не держу. Не получилось… Может, с другим будешь счастлива. Дай тебе Бог! Я любил тебя без взаимности. Пусть другой не познает этого. Я был счастлив с тобой. Пусть любовь в этот раз тебя не обойдет.
– Я хотела тебя полюбить. Но не смогла. Прости. Не нужно мне ничего. Ты уезжаешь. Прожив пять лет, мы не остались даже друзьями и расстаемся чужими людьми. Судьба нас за это еще накажет, – вышла она из дома, забыв попрощаться.
А вечером следующего дня Митька уже был в Якутске.
Приехав на деляну горбун расположился в палатке так, будто жил в ней многие годы и никогда не знал лучшего.
Люди быстро привыкли к нему, ценя его незлобивость, отходчивость. Он умел растормошить любого, прогнать хандру рассмешить всех до колик в животе, до слез.
Лесорубы всегда ждали, когда к вечернему костру, на недолгий мальчишник, придет Митька Он появлялся всегда внезапно, из-за какого-нибудь дерева куста. И, скорчив рожу так, что бурундуки икать со страха начинали, вопил на всю тайгу оглашенно:
– Бугор! Эй, бугор! Когда отхожку поставим? Зверюги все мужичье отгрызли!
А ты не шастай по кустам! Нe то припутает тебя какая-нибудь лохматая вдовушка. За своего облысевшего от блядок, примет. Что делать будешь? – хохотали мужики.
– Что с нею делать, я как-нибудь соображу. Беда в другом, как от нее потом смыться?
И до глубокой ночи рассказывал мужикам о всяких случаях из своей жизни.
– Вот я в детстве думал, что самые счастливые на свете– это богатые. У них харчей – кладовки трещат. Об одежде не думают. Так мне казалось, покуда зеленым был. Но однажды пришел я на кладбище. Там старуха возле могилы копошилась. Вся серая, замызганная, глянуть – срам один. Юбка – латка на латке. На ногах калоши, пропахшие помойкой. Я-то к ней направился милостыню попросить, а тут своим поделился. Сели мы в ограде на скамейку возле могилы, а бабка хлеб, что я ей дал, слезами поливает. Спросил, отчего плачет? А бабуля вздохнула и говорит: «Не думала, дитятко, что под гроб подаянием нищего мальчонки радоваться стану. Ты ж меня небось за побирушку принял одинокую. У меня же три сына имеются. Все тут в городе живут. Все начальники, богатые. А толку?.. Все прячутся, чтобы кто не увидел, не пришел украсть иль попросить. Едят при закрытых дверях, спят чуть ли не с топором в руках. Дышать громко и то боятся. А жадные – спасу нет. Мне, старой, даже в праздники масла не дают. Мясо забыла, когда ела в последний раз. Сахару – ложку на стакан кипятка. Даже мыла не дают в баню. И сами так-то. А для чего живут, копят, ума не приложу. Какая радость от тех денег, какие не кормят и не греют? Нет в их жизни праздников. Уж лучше нищим быть. Так хоть бояться не за что. Спи вволю. Все равно украсть у тебя нечего. Оно и сам здоровее. И подачки от чужих людей куда сытней, чем сыновьи заботы. Так-то, детка! Не проси у Бога богатство. От него едино – морока и болезнь. Проси здоровья себе. А о другом Господь сам позаботится».








