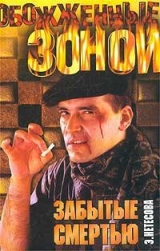
Текст книги "Забытые смертью"
Автор книги: Эльмира Нетесова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 25 страниц)
Я говорю о тебе! Но ведь то же самое относится и ко мне! Постарайся поверить не только мне, но и себе самому. Я больше не могу без тебя. Забудь все! Бери себя в охапку и неси ко мне. Не рви письма. Ведь в нем – мой адрес. Ты его когда-то очень хватишься. Не надо выбрасывать и терять последнее. Самих себя. Я это знаю по себе. Найти – всегда труднее.
Мне тяжело. Ведь вылечившись полностью, я не могу считать себя счастливой, покуда несчастен ты – горе мое и счастье. Рискни, приедь. Я жду…»
Леха не верил своим глазам. Он перечитал его. Обматерил грязно и громко не только Юльку, но каждую строку, каждое слово письма.
– Курва наглая! – орал он, дубася кулаками по стволу березы, словно это она, а не Юлька прислала письмо.
Рыжая белка искрой метнулась на соседнюю елку, удивленно на мужика уставилась. Чего кричит, чудак? Потерял пару? Да, одному в тайге не выжить. А мужик вцепился в ствол пальцами. Головой прижался. Плачет. Один. В глуши, чтобы никто не видел, не осмеял.
«Неужели ты, сука, права? Тварь грязная, подзаборная! Зачем встретилась мне на пути, за грехи какие забыть тебя, подлую, не могу! Ты вылечилась! А я – сдыхал! Поверить просишь? Но во что? В то, чего никогда не было! Я любил! Но и это тобой оплевано. Что ты знаешь обо мне? Как живу? А в душу мою заглянула? Нет в ней места тебе! Все отболело! И ты ушла!»
Леха стоял рядом с березой, ссутулясь, чернея лицом.
«Зовешь? Да только нет к тебе дороги. Одна пропасть меж нами. Чтобы одолеть, родиться надо заново. А я уж не могу и не хочу…»
Он довел себя до изнеможения. Он курил до полуночи, не решаясь вернуться в палатку, чтоб никто ничего не заметил, не задавал бы вопросов. Леха ни с кем не хотел говорить и видеться.
В палатке все спали глубоким сном, когда одноглазый вернулся из тайги. Он тихо разделся, лег на раскладушку, но не уснул до самого утра.
Едва рассветная заря забрезжила в тусклом оконце, Леха встал. Искупался в Алдане. И – чудо: словно не было мучительной ночи.
Весь день он обдумывал письмо Юльке. Оно складывалось в мозгу по слову, по строчке.
Вначале хотел отматерить ее так, чтобы помнила до конца жизни каждое слово своей биографии. Все ей припомнил бы. Но… Спохватился, отверг:
«Я не доставлю радости тебе, чтобы убедилась и увидела, как мучаюсь до сих пор, как болят душа и память. Как невыносимо мучительно жить оплеванным. Ты это письмо считала бы доказательством победы надо мною. Ведь так ты пишешь в своем письме. Но, отняв у меня все, имеешь ли сама право на радость? Нет, я ее не доставлю тебе никогда!»
И вечером, едва поужинав, он сел за письмо.
«Здравствуй, Юлия! Ты верно высчитала. Письмо твое я получил. Не скажу, что ждал его, но и особой неожиданностью для меня оно не стало».
Леха закурил, чтоб дрожащие руки не выдали усталость, настроение. И немного погодя продолжил:
«Ты пишешь, что сумела вылечиться от всего. Я рад за тебя. Искренне желаю оставаться здоровой до конца жизни. Это самое большое твое счастье и богатство. Ничто другое его не заменит.
Как понимаю, ты довольна работой и жизнью, новой квартирой, сумела восстановиться после заключения полностью. И теперь тебе не хватает лишь самой малости – забавной игрушки для утешения, так сказать, для души. И ты решила выбрать меня. – Чуть не сорвалась рука приписать к этому крепкое мужицкое словцо. Но Леха вовремя сдержал себя. Продохнул негодование и продолжил: – Я не гожусь на роль забавы! Слишком стар для легкомысленных утех. И – в сказки верить перестал, и мечтать разучился. Выветрила всю эту дурь из меня Колыма. Все лишнее выжала, выморозила. Да так, что уже не отогреют никакие условия, прошлое и радужные обещания. – Чуть не послал Юльку магом, но спохватился. – Любил ли я тебя? Теперь и сам не знаю. Ведь любя – не сопоставляешь, не сравниваешь. Любовь, как все считают, слепа. А я жалел не раз, что упустил, забыл ту, первую, какую любил и помню до сих нор. Я обманул ее тем, что не вернулся. И за это сурово наказан судьбой.
Мне нет к ней обратной дороги. Как не бывает возврата в юность. Но в случившемся виню лишь себя.
К тебе я был привязан душой. И, что греха таить, дорожил нашей семьей. Держался за нее. Считал, что это обоюдно. Ведь знал, что ты не девушка, но никогда за все годы не напомнил о том, не спросил и не позорил. Хотя и слышал о блудных кошках, каких сколько ни корми, на улицу потянет. Я верил тебе. Потому что сам не изменял.
Возможно, мне было бы легче перенести твое непостоянство, имей я женщин на стороне. Но в том-то и беда, что можно вылечить болезнь, но не предательство. И тут бессильна медицина.
Случается, и это глушат в себе иные мужики. Но эти – не прошли через Колыму. Их не упекали туда распутные бабенки. Ведь Магадан – это не просто наказание! Это игра со смертью. Попасть туда невиновным и отбыть срок – это уже не предательство, не бабья подлость. Это изощренная жестокость, на какую не способен даже зверь! Он убивает сразу, ты – мучила меня Колымой годы. И хотя отнять жизнь не удалось, искалечила судьбу.
О какой любви ты говоришь сегодня? Почему не вспомнила о ней, когда я отбывал на Колыме?
Тогда ты была еще больна? Но чем? Конечно, не любовью. И уж тем более не ко мне.
Ты просишь прощения у меня за прошлое. Убеждаешь вернуться и начать все заново, забыть пережитое. Но для этого мне надо умереть и родиться заново. Поверь, я такого себе не пожелаю. С меня достаточно. Слишком грязный букет преподнесла мне твоя любовь. Мне от него до гроба не отчихаться. И уж куда там заново начать, дай Бог не видеть тебя никогда в жизни.
Не надо иллюзий, я не вернусь к тебе. И адрес твой беречь не буду. Ты спокойно отправила меня на смерть, как заправский могильщик. Кто ж к таким возвращается, кто верит?
Прости, не стану упрекать. Ведь все случившееся осталось в прошлом. Мне не в тягость мое нынешнее. Я не одинок. Не жалей и не беспокойся за мою судьбу. Я ею доволен. К тому же я не чувствую себя неполноценным, не комплексую и, думаю, смогу при желании иметь семью. Но не с тобой. – Отдернул руку, едва не написавшую бранное слово. – Не пиши мне больше. И не вспоминай. Забудь, как горе. Так легче и проще. Не ищи адресов моих и не интересуйся. Ведь сумел же я справиться со своей бедой, какую звал именем твоим.
Я знаю, чего ты боишься. Уходят годы. И на тебя уже не обращают внимания бывшие поклонники. На смену тебе выросли молодые! И ты остаешься за бортом. Это обидно, если учесть твой характер. Но что поделаешь? Не вечна молодость. Придет еще и твое время. Недолго ждать. И вот тогда оно предъявит счет. Дай Бог выдержать тебе эту проверку, не свихнуться и устоять. Я искренне этого тебе желаю.
Ну, а меня забудь. Как те увядшие букеты, какие я тебе носил в юности. Знай, не цветут розы на снегу Колымы, вянут на пепле, осыпаются рядом с седой головой, а погибнув, не оживают. Все на свете живет один раз. И умирая – не воскресает. Прощай».
Леха перечитал письмо. Сам удивился собственной выдержке. Немного длинновато оно получилось. Но переписывать не стал. Трудно было за себя поручиться.
Он заклеил его в пожелтевший, старый конверт. Старательно вывел адрес, где его еще ждали. Заставил себя написать даже имя и отчество, обматерив его при этом много раз. Не написав обратного адреса, передал письмо Николаю, вернувшемуся из отпуска. Тот спешил в село.
Леха сел к костру рядом с Фелисадой, достал Юлькино письмо, бросил в огонь голубые листки. Они мигом вспыхнули и рассыпались в пепел. Повариха удивилась:
– Что это ты сжег?
– Прошлое. Горе свое, – усмехнулся Леха.
Глава 6. ГОРБУН
Горбун Митька, глянув на сгоревшие в костре листки бумаги, сразу понял, чье письмо сжег одноглазый Леха. Он не спрашивал – зачем и почему тот безжалостно и без раздумий расстался с единственной за все годы весточкой. Значит, так надо. И, вздохнув, что еще кто-то оборвал последнюю нить, опустил на грудь голову. Грустно, тяжко стало. Уж сколько лет минуло, как работают мужики вместе, а никто не ушел из бригады, не вернулся в прошлое – к прежней семье, не обзавелся новой. Все не получалось. Словно приговоренные к одиночеству жили здесь мужики, одичалые от горя и глуши.
Митенька с грустью на Кильку глянул. Тот недавно из села вернулся. Теперь в себя приходит. Кулаки хрустят. Едва сдержался. Что поделаешь? Хорошо, что все вовремя. Мог опять в беду влететь. Да судьба уберегла, пощадила. Зная, что не бесконечны силы человечьи и есть предел мужицкому терпению.
Килька о поездке в село сказал коротко. Да и то лишь потому, что на деляне уже всерьез поговаривали о его свадьбе с Дарьей. Он уже сам начал привыкать к этой мысли в отпуске. Потому и заторопился в село. Видно, свыкся с мыслью, решился…
– Я еще не расписался с нею, не был в постели, ни о чем не договорились. А ее семейка забросала меня условиями. Мол, в село переезжай. Иначе говорить не о чем. Что за семья, если муж за сотню верст от дома работает? Нечего с холостыми мужиками работать, за ними дурная слава далеко пошла. Сплошь алкаши и кобели. Даже сказать стыдно, где зять работает, – сплюнул Килька.
– Ну, это мелочь! – отмахнулся Никитин и добавил: – Тебе с Дарьей жить. На родню забить можно. Главное, как она – баба!
– От них не оторвалась и моею не стала. Но сказала, что от отца не уйдет никуда. Напомнил, как она со мною просилась, когда в отпуск уезжал. Голову угнула. Покраснела. Но ответила, что если и выйдет за меня замуж, то при условии моего переезда в село. Насовсем. Ну и еще чтобы я, покинув бригаду, с ее отцом работать бы стал. Напарником. На охоте. Пушняк промышлять. Я и спросил, мол, вы зятя по заказу хотите? Старик головой кивнул. И ответил, гад: «Мне помощник нужен. Здоровый, сильный. Чтоб меня, старого, в доме заменил. Кормильцем стал для всех. Меня уже силы подводят. А детей на ноги надо поставить. Вот и хотим взять в дом помощника». Послал я их всех в жопу и без оглядки из дома выскочил. Хорошо, что вовремя раскололись. А мне, дураку, наука, не лезть в хомут, не оглядев упряжку и груз.
– Ладно, Килька, не горюй! Ни хрена не потеряно. Да и прав по-своему дед. Ему стареть страшно без помощника. Вот и высказался начистоту. Поставь себя на его место. Тогда поймешь, ничего обидного он не сказал и не предложил тебе, – встрял Петрович.
– Запрячь меня с рогами вздумали. Чтоб на всех вкалывал. И чтоб всегда на виду, как на поводке барбоска! Лесорубом я им не нужен! А они мне с чего понадобились? Может, я весь отпуск заставлял себя к ним заглянуть по возвращении! Они о том узнали?
– Так подожди! Ты ей предложение сделал иль нет? – перебил Никитин.
– Не успел.
– Тогда чего кипишь? Остынь! И жди… Время само все на свои места расставит. Тебе стыдиться нечего. Ты в гости пришел. А старик поторопился. Но у него дочь. И девка с характером. Это о себе еще не раз даст знать, – рассмеялся Никитин.
Килька все еще злился на старика и клялся каждому пеньку на поляне, что никогда в село не поедет. Не оглянется на дуру Дарью, забудет ее, вырвет из памяти.
Митька молча жалел Кильку. Сказать всегда просто. А чтобы выполнить, сколько бессонных ночей надо пережить, сжимая в кулак сердце.
Горбун смотрел на пламя костра. Сколько горьких историй и случаев рассказано здесь, на этом месте, даже ели пожелтели от сострадания. И только люди, не переставая, чинят зло друг другу, забывая, что жизнь – всего миг на земле…
Митьку выгнала из дома сестра. Среди ночи. Пьяная, схватила в охапку и выставила за дверь лишь за то, что посмел уснуть в ее постели. Не успев согреться – обоссал. Переночевав на чердаке, мальчишка попытался вернуться домой, но дверь оказалась на замке.
Хотелось есть. И Митька пошел на базар, пусть не поесть, хотя бы посмотреть на жратву. К полудню вовсе из сил выбился. Сел на тротуаре, поджав под себя худые грязные ноги, скинул кепчонку, решив перевести дух. Он прижался спиной к горячей стене дома и подергивался от голода и страха перед неминучей ночью. Пустит или нет в дом сестра? А если пустит – побьет до смерти или не приметит спьяну?
Мальчишка закатил глаза от страха, невольный стон сорвался с губ, по худым щекам ползли слезы. Он устал от жизни, которую еще не начал. Он смотрел на небо. Большое и синее. Где-то там, быть может, живут теперь, пригретые Богом, его родители. Может, видят его, может, скоро сжалятся и заберут к себе. Он их не помнил. Знал по рассказам сестры. Она говорила, что отец и мать умерли от голода, оставив ей в наказанье урода Митьку. И все просили не обижать его – калеку. Потому что и его Господь видит.
Митька так хотел увидеть Бога, что целыми днями смотрел на небо и просил пусть небольшой, но настоящий кусок хлеба.
Когда он оторвал взгляд от легких облачков, увидел, что вокруг него собрались люди. В кепке, которую он оставил на асфальте, полно денег. А какой-то мужик сует ему в руку стакан мороженого.
Сердобольная старушка, отломив кусок батона, подала Митьке. Он проглотил его тут же торопливо. И люди, охая и ахая, полезли в кошельки.
– Бедный ребенок. За что ему такая доля? – сетовали вслух.
– Где мать, отец?
– Умерли. От голода, – скрипнул Митька пересохшим горлом.
Рубли и трешки, звонкий дождь монет посыпался в его кепку. Митька рассовывал по карманам непрошеное подаяние. А оно текло рекой. Карманы распухли и отяжелели. А люди, жалея уродство и малый возраст, не могли пройти мимо Митьки, не положив в его кепку и свою толику.
К вечеру Митька еле дотащил мелочь до мороженщицы и, обменяв ее на бумажные деньги, немало удивился. Целую кучу денег заработал, не шевельнув и пальцем.
Мальчишка долго стоял возле стены, не зная, как ему поступить с деньгами, пока пожилая мороженщица не подсказала:
– Беги, дурак, домой, покуда тебя не ощипала блатная кодла. Они и деньги отнимут, и душу вытрясут.
Митька здорово струхнул и со всех ног кинулся домой. В знакомую дверь он заколотился обеими кулаками, боясь, что кто-то вот-вот нагонит, схватит за шиворот и отнимет подаяния.
Сестра, еле держась за стену, с трудом открыла Митьке дверь.
– Где тебя носит, зараза горбатая? – Отвесила затрещину, вогнала мальчишку в угол.
– Не дерись, тогда скажу, – шмыгнул сопатым носом и, подтерев его рукавом, задрал нос, глянул на кудлатую пьяную бабу, занозисто продолжил: – Я теперь богатее всех стал. И если прогонять станешь, любой меня к себе возьмет. И кормить будет колбасой с пряниками.
– Это за то, что ты их койки не только обоссывать, а и обсирать будешь? – расхохоталась та громко.
– А вот за что! – вытащил Митенька пригоршню денег, крепко сжатую в кулаке.
– Украл? – ахнула сестра, бледнея, и схватилась за полотенце.
– Нет, не украл! Заработал!
У Тоськи глаза на лоб полезли. Хмель как рукой сняло.
– Где заработал, как? – изумилась откровенно. И Митька решил помурыжить.
– Вначале чаю мне налей. Да сладкого, с булкой. А потом спрашивай, – сел к столу уверенно.
Тоська в удивлении рот раззявила, потянулась к деньгам. Но Митька сунул их в карман.
– Дай пожрать, – потребовал настырно. И, только наевшись от пуза, разговорился с сестрой за чаем. Признался, где взял деньги. Сказал, сколько их у него.
Тоська даже вспотела, пересчитывая деньги. Руки ее тряслись, как в лихорадке:
– Митенька, родный, да ссы ты мне хоть на голову, слова не скажу! Прости меня, дуру! Это до чего я тебя довела, кровинка горемычная! Христарадничать стал. Эх, жизнь проклятая!
– Чего воешь? Не я один! В городе полно побирушек. А я просто сидел. Не просил. Сами подали. Я у Бога просил. Хлеба. Он и дал…
– Я ж на фабрике за месяцы столько не зарабатывала, сколько ты в один день принес, – призналась Тоська.
– Брось пить. Если б не это, нам хватало бы на хлеб, – одернул Митька.
– Зато теперь у нас на все хватит…
– Водку не покупай. Не то больше ни копейки не отдам, – пригрозил мальчишка на будущее.
Но Тоська не удержалась. И к вечеру набралась так, что снова уснула на полу. Утром клялась бросить выпивоны. Не ругала Митьку за мокрую постель. Молча возилась у плиты и корыта. Митьке наскучило сидеть в доме, и он незаметно шмыгнул в дверь, пошел на кладбище навестить могилы отца и матери. В переполненном трамвае доехал «зайцем» до ближайшей остановки и поплелся знакомой дорогой, загребая пыль босыми ногами.
Посидев у родных могил, Митька, как всегда, пожаловался отцу с матерью на сестру-пьянчугу, на несносную жизнь, на горбатую судьбу, отнявшую вместе с родителями все радости детства. Просил забрать его с белого света.
Митька плакал искренне. Он просил отца и мать сжалиться над ним хоть раз в жизни и забрать от пьяницы сестры. Мальчишка кланялся могилам, искренне веря, что родители видят и слышат его.
Посидев около могил немного, он встал И, шатаясь, пошел по дорожкам кладбища, вышел и сел у ворот перевести дух и немного успокоиться. Так он делал всякий раз.
На грязном лице его еще не обсохли слезы. И горбун сидел, вздрагивая от недавних рыданий, шептал молитву, какой научила сестра, прося у Бога для родителей царствия небесного.
Он знал, что обращаться к Господу мужчина обязан с непокрытой головой, а потому отложил кепку в сторону – на траву.
Был воскресный день. И люди с утра шли на кладбище со всех концов города. Другие – уже возвращались.
И снова в кепку Митьки посыпались деньги. Разные. Одни бросали их мальчишке мимоходом, другие просили помянуть родственников. Все жалели зареванного, грязного, горбатого мальчишку, худого и дрожащего, как лист на ветру.
Митька не думал попрошайничать у кладбища. Он хотел отдохнуть. Но… Заметив, как щедры подаяния, решил не торопиться.
И лишь под вечер, когда кладбище опустело, мальчишка решил вернуться домой.
Он думал, что Тоська опять накинется на него с пьяной бранью, навешает оплеух и отправит спать не евши, как всегда. Но сестра, на удивление Митьки, встретила его трезвой. И спросила с порога:
– Жрать хочешь?
– Конечно, – ответил, не задумываясь. И сразу сел к столу.
– Руки вымой и лицо. Сразу видать, на кладбище был. Ишь, как рожа заревана. Небось всю меня перед родителями обосрал, жаловался? – спросила мальчишку.
Тот молча выволакивал изо всех карманов милостыню. Сложил на стол в кучу.
– Ты на погосте побирался? А что как мать с отцом увидят? С ума сошел!
– Какая разница, где побираться? Я не отнимал, не просил, так получилось. Наверно, меня нищим родили, если за человека никто не считает, – закинул дверь на крючок.
Тоська считала деньги. Руки подрагивали.
– Хорошо заработал. Почти столько же, сколько вчера. А я думала, что ты не будешь теперь побираться.
– Я не хотел и не думал…
– Кормилец мой, – всплакнула Тоська и достала из стола колбасу и сыр, хлеб и масло, даже чай с конфетами пили они в тот вечер.
Тоська созналась, что сегодня она впервые в жизни купила себе шелковые чулки и парусиновые туфли. А Митьке – рубашку и сатиновые шаровары. И теперь они могут, если захотят, побывать в деревне, где много лет, заколоченный, доживает свой век отцовский дом.
– Не хочу, все деревенские меня дразнят, – отмахнулся Митька. Отказался и от прогулок за городом.
– Меня там узнать могут, кто подавал. Подумают про меня всякое. Еще и побьют, – осторожничал мальчишка.
А наутро, едва поев, поспешил к кинотеатру, где больше всего собиралось народа.
Митька и сам не соображал, что толкает его туда – на люди. Он впервые пошел в кино. И хотя контролерша брезгливо сморщилась, пропуская горбуна, мальчишка уверенно прошел в зал. И диво – он впервые увидел фильм о нищем. Не все понял. Но главное – дошло. Вздумал и сам попробовать свои силы. Стал у двери гастронома. Глаза закатил, сдвинул в сторону рот, затрясся, загнусавил, прося подаяние.
Люди в ужасе шарахались в стороны.
– Смотри, какой страшный урод! И как таких жить оставляют? – взвизгнула бабенка, нечаянно задевшая Митьку.
Тот упал. Сделал вид, что ушибся очень больно, и заплакал так горько, что баба от стыда и жалости половину денег в кепке оставила. Да и как иначе, если вмиг толпа собираться стала, на нее зашикали со всех сторон, посыпались угрозы и мат.
Митька слушал, забывая вытирать слезы, прятал деньги во все карманы. Посетовав на жизнь, выгнавшую детей нищенствовать, пожалев пацана, толпа разошлась. А к Митьке подступили двое милиционеров.
Мальчишка и без того боялся их, здесь же, закатив глаза, забрызгал слюной, из штанов потек зловонный ручеек.
– Тьфу, сукин сын! Слова сказать ему не успели, а он и обосрался, хорек горбатый!
– Давай его в отделение отведем! – предложил второй. И взял Митьку за ухо. Тот завизжал на всю улицу, задергался. И снова к нему подступила толпа.
– Чего к убогому лезете? Слабо воров ловить, к ребенку привязались. Чего от него надо? – обступили зеваки всех троих в кольцо. Чьи-то руки потянулись к милиционерам. Посыпались угрозы, требование отпустить мальчугана.
Милиционеры растерялись. На их вопросы – кто он, где родители и дом, Митька ничего не отвечал. Визжал, плакал, кривлялся, изображая неимоверную боль, жаловался всему свету, что его убивают.
Рука милиционера выпустила ухо, но Митька не торопился убегать. Ему понравилось приносить домой деньги. И пусть всего один раз в день поесть досыта колбасы и конфет, услышать, что стал кормильцем.
Толпа отстояла Митьку, подав ему полную кепку милостыни. Горбун, едва люди стали расходиться, приметил, что милиционеры не ушли, стоят в стороне, ждут, когда он останется один. И Митька решил обхитрить их и заковылял рядом с мужиками, защитившими от милиции.
Заметив, что улица стала пустынной, мальчишка нырнул в первый проулок и задними дворами пробрался домой.
Тоське он рассказал все. Та посетовала, пожалела брата и посоветовала не соваться в центр города, где нищих всегда гоняет милиция. Но сегодня она уже не отговаривала Митьку, не просила сидеть дома и не попрошайничать. Ей понравилось считать деньги, прибавляющиеся с каждым днем.
Тоська даже про выпивку забыла. Наверное, от жадности. Да и понятно. За два дня у нее появилось такое, чего раньше не могла себе позволить.
Хлеб и масло, колбаса и конфеты, молоко и селедка, даже туалетное мыло купила баба. Приобрела себе впервые в жизни настоящее нижнее белье и новый расклешенный халат в белый горошек.
Она слушала Митьку, смеясь. Когда же мальчишка скорчил рожу, с какой он побирался сегодня у гастронома, Тоська даже вскрикнула в ужасе, не на шутку испугавшись:
– Ну и харю состроил! Да на тебя только глянешь и потеряешь душу вместе с кошельком. Кто ж научил так морду корчить? – спросила брата.
– Никто. Сам.
Тоська громко удивлялась. И говорила, что у Митьки прирожденный талант попрошайки.
Мальчишку это не обидело. Он каждый день приносил сестре деньги. Больше или меньше, но они шуршали в его карманах каждый день.
Других побирушек била городская шпана. Отнимала все деньги до копейки. Трясли их и воры, и милиция. Митьку не трогал никто. Его безобразное рыло отпугивало даже милицию. Завидев его, трезвели отпетые алкаши. Ни у кого не шевельнулась мысль, не поднялась рука на чудовищную образину, от которой в ужасе отскакивали бродячие псы и кошки. С ним стерпелась и молча смирилась, как с неизбежным злом, городская милиция.
Его скрюченные ноги и руки узнавали горожане даже в глубоких сумерках. И потому каждый Митькин шаг сопровождался шуршанием и звоном монет, сердобольными и сочувственными вздохами.
Чем старше становился мальчишка, тем отвратительнее было его лицо. Казалось, Митька так и родился в сальном вонючем тряпье и никогда не носил на плечах ничего нового, чистого.
Его сестра давно уже купила на окраине города просторный кирпичный дом, обставила его, сделала настоящими хоромами. Но Митька виделся с нею все в той же замызганной, тесной комнатенке и не желал появляться вблизи дома, купленного сестрой.
Для всех горожан Митька жил один в подвальной комнатенке, еле сводя концы с концами на жалкие подаяния. Глянув на него, ни у кого не возникало вопросов – почему он не учится и не работает?
Его руки, скрученные в неимоверную спираль, а ноги – в немыслимые кренделя, убеждали каждого в полной немощности существа, которого никто не считал полноценным человеком.
С возрастом Митька отточил свое умение до полного совершенства. Он знал, где и когда можно получить хорошее подаяние. И теперь не представлял себе жизни без попрошайничества. Он побирался каждый день, в любую погоду, без выходных и праздников. Митька втянулся в свое ремесло и очень полюбил деньги.
Нет, не все он отдавал сестре. Едва повзрослев, понял, что и самому не грех иметь про запас. И начал копить, пока не зная для чего.
Но однажды переоценил свои возможности. И, просидев без шапки на холоде целый день, простыл. И ночью, хорошо что Тоська навестила, забрали Митьку в больницу на «скорой помощи».
Там его отмыли, уложили в чистую постель в просторной белой палате. Около него неотлучно дежурила сиделка – молодая девушка. Вся в белом, как в облаке, из которого виднелись лишь глаза, зеленые, как трехрублевки.
Митька, едва пришел в себя, влюбился в нее без памяти. Он звал ее днем и ночью, он готов был сутками не отпускать ее от себя. Митька прикидывался умирающим. И девчонка в страхе вскакивала за врачом, но горбун цепко держал ее за руку. Ночью он не смыкал глаз, лишь бы она не ушла. Он измотал, измучил сиделку, пока та не свалилась с ног.
– Я люблю тебя, – говорил он сиделке, дремавшей на стуле. Та уговаривала его уснуть, успокоиться. Она не смеялась над признанием Митьки, считая его больным бредом. Нина… Это имя стало ему дороже всех на свете. С этим именем он засыпал и просыпался. Научился мечтать, грезить наяву, томиться ожиданием ее прихода на дежурство.
Митька потерял голову. Да и немудрено. В тот год ему исполнилось восемнадцать лет. Нина, сама того не зная, стала первой любовью, самым большим сокровищем нищего.
Она уже знала о Митьке все. И потому старалась реже видеться, избегала парня. Ведь все ровесницы, работавшие вместе с Ниной в больнице, смеялись в открытую, называя ее горбатой любовью, невестой на паперти.
Нина стала прятаться от Митьки, но тот своим особым чутьем находил ее. Он брал на измор, забывая, что взаимность в любви не милостыня, ее ни выпросить, ни вымолить невозможно. Но Митька был настырен. Он пролежал в больнице до полного выздоровления. А едва выйдя из нее, узнал, где живет Нина.
Митька ходил за нею тенью по пятам. Едва девушка просыпалась, горбун уже стоял под ее окном. Он сопровождал на работу и встречал с дежурств, плетясь следом неотлучным хвостом. Вначале это девчонку злило. Потом смешить стало. А позже – привыкла к Митьке как к неизбежности.
Однажды к ней в потемках пристали на улице двое. В подворотню потащили девчонку, заткнув ей рот. И едва успели прижать к стене дрожащую Нину, как за спинами крик услышали. Безобразное рыло, плюясь и дергаясь, вопило не своим голосом, зовя на помощь прохожих.
Обоих парней скрутила толпа. Измолотила, измесила вдребезги. До бессознания измордовала. И благодарная девчонка в тот день впервые поцеловала в щеку своего спасителя. А через месяц он отвадил от нее ухажера, напугав его до икоты в подъезде Нининого дома.
Девушка не раз пыталась избавиться от назойливого Митьки. Она ругала его, гнала, просила оставить в покое, не позорить своими ухаживаниями. Но горбун, словно глухой, не слышал просьб. И постепенно девчонка привыкла к нему, перестала стыдиться и бояться Митьки. А тот не терял времени даром. Желая понравиться Нине, он во многом преуспел. И устроился декоратором в театре. Правда, не забывая при этом просить подаяния во время дежурств Нины в больнице.
В театре он постиг многое и восполнил пробелы в воспитании. Он уже не сморкался оглушительно под окном девчонки, когда хотел напомнить о себе, а лишь покашливал негромко. Не шаркал ногами, идя следом. Не ковырялся в носу, ожидая Нину. Он даже сумел преодолеть собственную жадность и хоть раз в месяц дарил девчонке цветы. Та вначале отказывалась, выбрасывала, отталкивала, потом стала брать. Это ободрило. И Митька осмелел. Теперь он покупал ей то кулек конфет, то мороженое. И уже не плелся следом, а шел рядом с Ниной, провожая с работы домой. А однажды предложил контрамарку в театр. И – чудо: Нина согласилась.
Митька млел от счастья. Из театра они возвращались поздним вечером. Шли плечом к плечу. Горбун не кривлялся. Был учтив, предусмотрителен. И Нина впервые увидела его одетым в костюм, скрывающий жуткий горб. Митька выглядел вполне нормальным человеком. Он рассказывал много смешных историй из своей жизни. Нина слушала с интересом.
– Знаешь, в каждом деле свой талант нужен. Взять хотя бы меня. Я и не думал быть побирушкой. Но когда им стал, заметил, что нищие тоже разные. Вот мне милостыня легко давалась. Я знал, где и как ее просить. А другим она приходит с муками. Вон Васька, какой у базара побирается, половины моего никогда не взял. Хоть на весь базар орет, надрывается. Слюнями всех забрызгает, никогда не моется, не бреется. Его так и прозвали – Козел. Он своим воплем отпугивает всех. Идет какой-нибудь хмырь с сумками, потеет, надрывается. А Козел ему в самое ухо: «Подай, говорю!» Мужик от него в сторону. Бандитом, ворюгой посчитал. Где уж милостыню, били его за это сколько раз.
– А тебе попадало?
– Пытались один раз. Пацаны. Обобрать меня хотели. На кладбище, – усмехнулся Митька.
– Ты их одолел? Прогнал?
– Ага! Они и теперь за версту обходят. Портки небось и нынче воняют. Так я их пугнул, свое рады были выложить. Страх кишки вывернул. Я как скорчил рожу, они враз требовать разучились. Потеряли дар речи. И стреканули от меня с визгом. После них асфальт машины с неделю отмывали.
Нина звонко рассмеялась. Она позволила взять себя под руку. И Митька в тот вечер оказался интересным собеседником.
– Если б ты не побирался, а работал бы, жил бы, как все люди, мы могли бы дружить с тобой, – сказала она на прощание. И Митька в тот же день, не задумываясь, дал ей слово больше никогда не просить милостыню.
Слово свое он сдержал. И на следующий день велел Тоське привести в полный порядок комнату. Отмыть, побелить, навести в ней уют.
Сестра ушам не поверила.
– А жить как? – раскрыла рот.
– Как все. Работать будем. Да и сбережений хватает. Заведи хозяйство. Как раньше – в деревне…
– Отвыкла я, Мить. Перезабыла начисто. Ну, сад и огород, куда ни шло. И нынче имею. А вот скотину…
– Хватит, Тоська! Не ной. Не перегнешься! Не то верну тебя в комнату, сам в доме жить буду! Без жалоб! – пригрозил сестре.
Та с лица позеленела:
– Ты – в дом? Да что сумеешь? Там ведь руки нужны, а не твои крючья! Тебе что проку от него?
– Женюсь я скоро! Что сам не умею, жена поможет.
– Да какая дура за тебя пойдет? – не верила Тоська.








