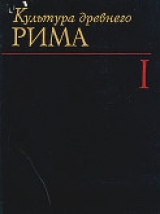
Текст книги "Культура древнего Рима. Том 1"
Автор книги: Елена Штаерман
Соавторы: Михаил Гаспаров,Н. Позднякова
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 38 страниц)
Сенека настойчиво повторяет, что человек как частица космоса подчиняется господствующей в нем необходимости. Мудрый и добродетельный в мировой республике подобен храбрым и дисциплинированным солдатам, стойко терпящим, в отличие от дезертиров, опасности и раны (De provident., 1–5). Свобода состоит в добровольном повиновении законам природы, необходимости. Безумный заставляет тащить себя и принуждать, подобно нерадивому солдату, когда можно идти, добровольно повинуясь богу, как царю (De vita beata, 15). Судьба, фатум – это необходимость всех вещей, и ее не может изменить никакая сила, но человек перестает ее бояться, когда благодаря науке поймет все действующие причины (Quest nat., II, 38; VI, 3). Мы служим великой республике богов и людей, утверждает Сенека, когда исследуем природу мира, бога и добродетели, совершенствуя себя, чтобы лучше служить людям. Лишь в крайнем случае, достигнув совершенства, философ может уйти в себя, ибо природа создала пас не для созерцания, а для действия. Но тот, кто ее познает, ее почитатель и обожатель (admirator et cultor), кто изучает ее законы и сообщает их людям, всем народам и векам, приносит больше пользы, чем тот, кто водит армии своего родного города и устанавливает для него законы; тем более, что во всех республиках всегда преследовали мудрых и добродетельных, творили подлости и жестокости, противные мудрецу, которому, следовательно, надо посвятить себя не маленькой республике, вроде Афин или Карфагена, а всему миру, не гонясь за одобрением невежественного народа, а стремясь лишь к собственному сознанию правильности своих поступков и намерений (De provident., 1–5; De constant, philos., 30–32; Ep., 23, 25, 29).
Как видим, у Сенеки постоянно сказывается противоречие между одним из основных постулатов стоицизма – признанием соответствующего природе единства мира, изначальной общности людей, долга людей служить друг другу, трудиться так или иначе для общей пользы, ставить общественное выше частного, и весьма мизантропической оценкой людей я мира в целом. В конце концов, пишет он, наш гнусный мир будет разрушен пожаром и наводнением, когда богу будет угодно создать мир более совершенный. Все живое погибнет, но затем снова возродится, землю заселят невинные люди, но таковыми они останутся недолго и затем снова испортятся, ибо для трудно достижимой добродетели нужен руководитель и вождь, пороку же научаются сами (Quest, nat., III, 28–30). Вместе с тем, вразрез с идеей возрождающего все человеческие пороки круговорота, ему не чужда и идея прогресса. Призывая κ занятиям очищающей душу «высокой» наукой о мироздании (в противоположность бесполезному изобретению новых силлогизмов, изучению всяких мелких подробностей в области истории, литературы, техники и т. п. – Ep., 88; De brevitate vit., 13–14), он замечает, что, хотя очень многое нам неизвестно, мы уже знаем больше, чем раньше, а в будущем люди узнают еще больше (Quest, nat., VII, 31).
Противоречивая оценка мира и людей π вытекающая из нее оценка долга человека сказались также на отношении Сенеки к проблеме свободы. С одной стороны, он твердо стоит на позиции, согласно которой как счастье, так и свобода дается только познанием и добродетелью, если обладающий ими человек настолько тверд духом, что не утратит спокойствия ни при каких превратных обстоятельствах. Для этого он должен научиться не бояться смерти, напротив, утешаться мыслью, что, если жизнь станет совершенно непереносима, он всегда может из нее уйти, обретя в смерти свободу. Он не должен ни к чему привязываться, ибо легче не иметь, чем потерять, не гоняться за излишним, привлекающим только порочных и невежественных людей. «Перестань надеяться – и ты перестанешь бояться», – цитирует Сенека философа Гелатона. Поборов страсти, человек становится свободным, ничему не служит, ничего не желает, ничего не боится; это свобода не по квиритскому праву, а по праву природы, избавляющему человека от вечного рабства (Ep., 4,5, 6, 48, 51, 65; Quest, nat., Proem., III; De tranquil, anim., 8, 10). Он советует приучать себя к мысли о бедности, время от времени живя на два acca, как живут тысячи рабов и бедняков (Ep., 18).
При такой жизненной позиции, естественно, не имеют значения для философа форма правления и то, что мы понимаем под политической свободой, поскольку значение имеет только свобода внутренняя. Катону, пишет Сенека, следовало спокойно перенести изменения в республике, осознав что все раз возникшее должно погибнуть, в том числе и великие люди, и великие государства (Ер., 71, 91). Тридцать тиранов щадили Сократа, а, став свободными, Афины его убили, так как в счастливой и процветающей республике царят зависть, ненависть и тысячи других пороков (De tranquil, anim., 3). Мудрый человек будет избегать гнева могущественного, как моряк избегает бури. Но не надо это делать открыто: бежать – уже значит осуждать. От народа можно защититься, не желая того, чего желает он, ибо враждуют соперники. Во всех случаях следует не оскорблять власть, не возбуждать зависти; лучше и спокойнее возбуждать ие зависть, а презрение, подчиняться добровольно в без страха, ибо тот, кто боится, – раб (Ep., 14, 66, 105).
Безропотная покорность власть имущим для Сенеки такая же догма, как добровольное подчинение законам природы, необходимости, в конечном счете – богу. Мы родились в царстве, говорит он: повиноваться его владыке, богу, сносить то, что свойственно смертному, не волноваться из-за того, что не в нашей власти, – это и есть свобода (De vita beata, 14–16). Оскорбления от сильных надо сносить с веселым лицом, ибо они повторят свой поступок, если увидят, что он на вас подействовал, если они поймут, что вы обижены, опечалены. Даже молчание может оказаться опасным. В трагедии «Эдип» на слова Креонта: «Да будет мне позволено молчать, какая есть свобода меньше этой? Что можно там, где и молчать нельзя?» – Эдип отвечает: «Царю и царству больше, чем язык, вредит порой свободное молчание» (стк. 577–581. Перевод С. Соловьева). Освободить от бесчеловечного тирана может смерть, но пока чаша терпения не переполнилась, надо сносить все, не гневаясь, так как тяжелее то рабство, против которого негодуют, и иго тяжелее ранит сопротивляющегося, чем покорно подставляющего шею (De ira, III, 16). Мудрый мысленно говорит и судьбе, и людям: что бы ни сделали, этого слишком мало, чтобы вывести меня из диктуемого разумом спокойствия. Гнев мне вредит больше, чем обида (Ibid., III, 25).
Вместе с тем иногда Сенека скорбит об утрате свободы политической, как он ее понимает, его герои – боровшийся за нее Цицерон, тот же Катон Утический, Сократ. Теперь, говорит он, когда свобода погибла, Катоны, нападающие на Цезаря и Помпея, неуместны, теперь борются не за свободу, а за то, кто будет господином Рима; но не все ли равно, кто? (Ep., 14). Философу лучше всего жить с великими людьми прошлого – Сократом, Катоном, который оставался верен себе в порабощенной республике. Он умер, чтобы быть свободным. Ради свободы, дающейся нелегко, надо отказаться от всего. Кто высоко ценит свободу, должен низко ценить все прочее (Ep., 104). Он восхищается Сократом, который при грозящих отовсюду опасностях не скрыл свою добродетель, не похоронил себя заживо, ибо лучше умереть, чем жить, как мертвец (De tranquil anim., 3). Не следует печалиться из-за судьбы таких великих людей, как Сократ, Цицерон, Помпей, Катон. Если они встретили свою судьбу достойно, ими надо восхищаться, если нет – они не стоят сожалений. Для Катона и других смерть была шагом к бессмертию (Ibid., 15). Велики π дух в схватке с судьбой – Катон, открывающий себе смертью путь к свободе, – зрелище, достойное Юпитера (De provident., 2).
Сочетание проповеди покорности и безразличия κ форме правлении как внешнему обстоятельству с тоской по «свободе» прошлых времен и, можно сказать, завистливое восхищение теми, кто за нее боролся, обусловливались общими взглядами Сенеки на современное положение и историю Рима. Раннее младенчество Рима, писал Сенека, было при Ромуле, породившем и до некоторой степени воспитавшем город. Этот город был ребенком при других царях, его расширявших и формировавших учреждением дисциплины и разных институтов. При Тарквинии, став как бы подростком, Рим не смог долее терпеть рабства и сбросил его, предпочтя повиноваться не царям, а законам. С Пунических войн Рим вошел в возраст сильного юноши и, уничтожив своего соперника – Карфаген, простер свои руки на все земли и моря, подчинил все пароды. Когда уже не осталось никого, с кем вести войну, Рим обратил свои силы против себя самого. Тогда, с гражданскими войнами, началась его старость, и он, как бы впав в детство, вернулся к власти одного. Утратив свободу, которую он некогда защищал под водительством Брута, Рим так одряхлел, что не имеет сил сам себя поддерживать и должен опираться на тех, кто им правит (Fragm. 28). Римский народ, замечает Сенека в другом месте, пе понимает и не может понять, что он губит себя богатством и что то, что он отнял у всех, тем легче отнимут у него (Ep., 87). Возможно, приводя в пример падение многих великих империи (Ep., 71, 91), Сенека полагал, что и Рим ожидает такая же судьба, как естественное следствие все той же «порчи нравов». Отсюда необходимость единоличного правления, отношение к которому у Сенеки также было двойственным и, несомненно, зависело от его личного положения и отношений с правящим принцепсом.
В трактате «О милосердии» он уверял, что все граждане счастливы, пользуются безопасностью (securitas), наивысшей свободой, видят самую радостную форму республики, восхищаются милосердием принцепса, его заботой об общем благе и готовы его защищать ценой своей жизни. Принцепс, как душа телом, правит множеством людей, сохраняет их своим духом, умом, предусмотрительностью (consilio). Он – цепь, связующая республику, ее живой дух (spiritus Vitalis), без которого все эти тысячи людей были бы сами себе в тягость. Он должен быть к ним милостив, как душа к телу. Великодушие тем более украшает принцепса, что никто не смеет противиться его воле. Без принцепса кончился бы римский мир – pax Romana – и счастье столь многих пародов. Если Рим перестанет ему повиноваться, придет конец и господству Рима. Принцепсов или царей, хранителей (tutores) люди предпочитают сами себе, ибо для нормального человека общественное выше частного и ему наиболее дорог тот, в кого обратилась республика (in quem se res publica convertit). Цезарь настолько слился с республикой, что разделить их невозможно без вреда для обоих, ибо ему нужны силы, а ей голова. Он должен относиться к гражданам так, как хотел бы, чтобы боги относились к нему. Наказания необходимы, иногда очень жестокие, постигающие не только виновного, но и его близких. Однако спешить с ними не следует, как не торопится карать детей отец, авторитет которого подобен авторитету принцепса, поскольку республика – это огромная фамилия во главе с pater families. Жестокость царя нарушает законы природы, его создавшей. Украшающее принцепса милосердие – это умеренность, несмотря на возможность мстить, мягкость высшего к низшему в наложения наказаний, противоположная жестокости. Не следует прощать человека, заслужившего кару, по можно при смягчающих вину обстоятельствах ее уменьшить. Главная цель – исправить сошедшего с правильного пути, разумно выбирая наиболее действенные κ тому средства (De clement., I, 1–7, 14, 19, 21–23; II, 3–7). Власть жестокого царя недолговечна, он гибнет, когда терпящие поодиночке соединятся перед лицом общей опасности. Так погибали жестокие цари Персии и Македонии, император Калигула. И pater familias, жестокий к рабам, будет убит ими, несмотря на грозящие им страшные кары. Больше людей погибло от гнева рабов, чем от гнева царей (De ira, III, 16; De clement., I, 26; Ep., 4, 47, 107).
Так рисуется некая идиллическая картина отношений между власть имущими и подчиненными, «отцом отечества» и гражданами, pater familias и рабами. Имеющий власть должен быть снисходителен, никого не угнетать, печься в первую очередь о благе подчиненных, об их благосостоянии и морали, подавая личный пример, сочетая наказания и поощрения, благодетельствуя им. Они, со своей стороны, должны его чтить как высшее существо, защищать, не роптать, не сопротивляться, повинуясь добровольно, следуя установленному высшим разумом закону. Беззаконные поступки не подобают императору и господину и превращают их в тиранов, ненавистных для подчиненных.
В общественном благе каждый имеет свою часть, замечает Сенека в другом месте (De clement., II, 6). Общественное, коллективное с давних пор считалось собственностью римского народа, при принципате персонифицированного императором. В модифицированном виде продолжались некогда имевшие место столкновения между крупными землевладельцами, желавшими укрепить свои нрава собственности, и представленным популярами народом, считавшим себя вправе, в качестве верховного собственника, распоряжаться землей, ее переделять. Сенатская знать раннего принципата не только претендовала на участие в управлении, в первую очередь провинциями (возмущаясь данным провинциям правом некоторого контроля над наместниками, тогда как раньше они дрожали при одном имени римского гражданина. См., например, речь Пета Тразеи на эту тему – Tac. Ann., XV, 20–21), не только на долю в государственных доходах (наделение обедневших сенаторов имуществом из казны, равным сенаторскому цензу. – Ibid., I, 75; II, 38; XII, 52), но и на неприкосновенность своей частной собственности. В «Панегирике» Траяну Плиний Младший превозносит императора за то, что тот перестал считать всю империю своею собственностью и отказался от практики «тиранов» отбирать земли у владельцев и делить их между своими приспешниками (Paneg., 50).
Подробно об этом говорит Сенека в сочинении «Об благодеяниях», отвечая на вопрос, как можно дарить что-либо мудрецу, если, согласно стоической доктрине, мудрому принадлежит весь мир, или другу, если у друзей все должно быть общим. Ничто не мешает тому, замечает Сенека, чтобы нечто принадлежало и мудрецу, и тому, кому это дано и отведено (cui datum assignatum est). По гражданскому праву все – собственность царя (omnia regis sunt), и все же то, что в целом принадлежит царю, расписано между отдельными господами, и каждая вещь имеет своего владельца. Так, мы можем дарить царю и дом, и рабов, и деньги, и при этом не кажется, будто мы дарим ему нечто из его же собственности. Царю принадлежит власть над всем, отдельным лицам – собственность (ad reges enim potestas omnium pertinet, ad singulos proprietas). Мы говорим о границах (fines) афинян или кампанцев, имея в виду то, что потом соседи разделили частными межами. Вся земля принадлежит той или иной республике, а затем каждая часть имеет своего господина, поэтому мы можем дарить нашу землю республике. Несомненно, что раб и его пекулий – господские, однако раб делает господину подарки. И из-за того, что раб не имеет ничего без согласия господина, его дар не перестает быть даром, если он дает добровольно то, что у него можно было бы вырвать против его воли.
Хороший царь владеет всем благодаря империю, отдельные лица – благодаря доминию. Вещь может быть твоя, а пользование мое. И ты пе тронешь плодов, если тебе это запрещает твой колоп, хотя они родились в твоем имении. По царскому обычаю царь владеет всем в своем сознании (cuncta constientia possidet), а собственность на отдельные вещи рассеяна. Цезарь имеет все, все в его империи, но его собственное в его патримонии. II то, что присуждено кому-либо как чужое (tanquam nt alienum adiudicatur), принадлежит ему по-иному (De benef., VII, 4–6). Отсюда следовал вывод, что хороший властитель не должен отбирать то, что из его собственности выделено другому, будь то имущество гражданина или пекулий раба.
Обычное для стоиков, как, впрочем, и для других античных философов, представление о едином мировом разуме, мировой душе, соединяющих индивидуальные души, умы (что и обусловливает единство космоса при приоритете целого, исходного, над частью, над вторичным), здесь нашло, так сказать, свое практическое преломление. Правитель – аналог всеобъемлющего, все соединяющего, всем владеющего высшего принципа, но он не должен нарушать им же установленный закон, права каждого на отведенную ему часть. Понятие закона, права, сливающегося с законом всекосмической необходимости и ранее, как мы видели, игравшее столь большую роль, приобретает еще большее теоретическое и практическое значение. Для Цицерона хранителем institia должен был быть некий vir bonus; для Сенеки это уже совершенно определенный принцепс, душа и разум республики, и как таковой имеющий право на добровольное повиновение граждан, на их самопожертвование ради его блага, идентичного благу целого.
Но, с другой стороны, реально правящий принцепс, как и общество, сформировавшееся в условиях единоличного правления, вызывает неодобрение Сенеки. Правитель, которого Сенека называет царем, – тиран; общество состоит из способных на любые подлости льстецов, честолюбцев, корыстолюбцев, среди которых не место мудрым и добродетельным. Характерно, что свое отвращение κ современности он переносит на Александра Македонского, бывшего образцом для многих римских императоров. Насколько более достойно, пишет Сенека, прославлять деяния богов, чем разбои Филиппа, Александра и других, прославившихся тем, что губили пароды, и бывших не меньшим бедствием для смертных, чем потопы и пожары. Для него теряет смысл история, описывающая деяния царей или, например, воинственного Ганнибала. История имеет лишь тот смысл, что учит спокойно переносить превратности судьбы, показывая, как быстро гибли великие империи и могущественные люди (Quest, nat., III, Proem.).
Философские труды Сенеки у многих вызывали неодобрение, да и вообще, по его словам, философия в его время была не в чести. Он сетует на упадок многих философских школ – академиков, скептиков, пифагорейцев, римской стоической школы Секстиев (Ibid., VII, 32).
Императоры I в. к философам относились скептически. Некоторые из философов – тот же Сенека, впоследствии Гельвидий Приск, Музоний Руф – явно принадлежали к оппозиции, а те, кто следовал советам Сенеки молчать, когда все выражают восторг, также казались опасными. Философов высылали, как писал Тацит, чтобы «уничтожить голос римского народа, свободу сената, самосознание человеческого рода… чтобы но встречалось более ничего честного» (Agric, 2). Вместе с тем сам Тацит считал, что излишнее увлечение философией не подобает римлянину и сенатору, и одобрял мать Агриколы, предусмотрительно отвратившую его в юности от излишнего занятия философией (Ibid., 4). В высших кругах сохранял силу идеал жизни не созерцательной, а деятельной с обязательным прохождением всех ступеней сенатской карьеры, с теми, однако, поправками, которые по сравнению с временем конца Республики вносил принципат.
Написанная Тацитом биография его тестя Агриколы должна была иллюстрировать этот идеал. Агрикола был внуком всадников, сыном сенатора, казненного Калигулой за отказ выступить обвинителем Марка Силана. Ов начал свою деятельность воинским трибуном в восставшей Британии; после квестуры был послан в Азию, где при жадно грабившем богатую провинцию проконсуле Сальвии Титиане оставался неподкупным. Став претором при Нероне, он приобрел любовь парода устройством игр, но воздерживался от других дел, так как «тогда бездеятельность заменяла мудрость» (Ibid., 6). Примкнув к Веспасиану, он снова был послан в Британию и, хотя считал, что с восставшими британцами обходятся слишком мягко, сдерживал свой пыл, будучи опытным в повиновении и умении соединять честное и полезное. Свои заслуги он не превозносил, приписывал их своему начальнику Петилию Цереалу, избегая таким образом зависти, и составил себе хорошую репутацию. Веспасиан включил его в число патрициев и назначил наместником Аквитании, где он проявлял строгость, воздержанность и часто милосердие, что не уменьшило его авторитета. Он не вмешивался ни в какие интриги, не вступал в ссоры с коллегами (Ibid., 7–9).
После консулата был назначен наместником Британии, где пробыл шесть лет и проявил опытность и мудрость правителя и мужество полководца, был справедлив к солдатам и провинциалам, оружием и снисходительностью подчиняя британцев римской власти, приобщая их к тому, что именуется humanitas, хотя и является частью их рабства (Ibid., 21). Победы Агриколы в Британии вызвали зависть Домициана, не терпевшего, чтобы имя частного человека возвышалось над именем принцепса, и, чтобы не раздражать его еще больше возможными приветствиями друзей и почитателей, Агрикола, отозванный из Британии, въехал в Рим ночью и ночью же явился во дворец, затем удалился от дел, жил скромно и просто, никому не бросаясь в глаза, избегая ненависти принцепса. Умеренность и осторожность Агриколы смягчили Домициана. Самое лучшее и безопасное, утверждает Тацит в «Анналах», – это идти своим путем где-то посередине между излишней дерзостью и безобразной угодливостью (Ann., IV, 20).
С другой стороны, Тацит, несомненно, восхищался теми, кто решался протестовать против всего происходящего картинно обставленным самоубийством. Один из его любимых героев – Пет Тразея. Когда сенаторы состязались в низкой лести Нерону после убийства Агриппины, Тразея, до тех пор обычно молчавший, вышел из сената, что подвергло его опасности (Ann., XIV, 12). Когда Нерон принудил κ самоубийству Борея Сорана и Тразею Пета, он как бы убивал самую добродетель. Тразее инкриминировалось, что он не приносит обетов за Нерона, не посещает сенат, вызывает раздражение своим печальным и строгим видом, что его противопоставляют Нерону, как Катона Цезарю, что он, подражатель Брута, вдохновляет тех, кто стремится к перевороту, и избрал своим лозунгом «свободу». Одни советовали ему пойти в сенат и произнести речь, которая потрясет и сенат и парод, ибо лишь трусы умирают молча. Другие ему выступать с речью пе советовали, чтобы не навлечь мести Нерона на его семью. Тразея избрал последний путь и, приказав вскрыть себе вены, достойно и спокойно встретил смерть.
Как видим, Тацит солидарен с Сенекой, считавшим, что мудрец, вынужденный уйти от государственных дел и безмолвно принимать все происходящее, может быть еще полезен людям, подав пример своей смертью. Очень высоко Тацит оценивал зятя Тразеи, стоика Гельвидия Приска, изгнанного после смерти Тразеи, затем вернувшегося и выступившего против обвинителя своего тестя, известного своим влиянием и доносами Эприя Марцелла. Хотя его выступление ничем не кончилось, сенат высоко оценил его мужество, а сам он неуклонно продолн;ал бороться за то, что считал достойным и честным, и наконец был сослан Веспасианом, а затем казнен (Hist., IV, 5–7).
Тацит сходен с Сенекой и в двойственном отношении к единоличной власти. «Тиранов» и «тиранию» он обличает со страстной ненавистью, несмотря на свое намерение писать «без гнева и пристрастия». Его блестящие по глубокому психологизму характеристики людей и ситуаций определили на многие века отношение историков, писателей и просто знакомых с историей Рима читателей к императорам династий Юлиев – Клавдиев и Флавиев и κ современному им обществу, до конца развращенному господством обезумевших от неограниченной власти над миром деспотов (лишь в последние десятилетия стали появляться исследования, старающиеся объективно оценить деятельность этих императоров и их окружения). С другой стороны, Тацит признавал необходимость и неизбежность установления единоличной власти и кое в чем ее благодетельность. Еще в его раннем диалоге «Об ораторах» он, с одной стороны, сетует на упадок ораторского искусства, не питаемого более великими событиями времен «свободной республики», когда ораторы выдвигались в первые ряды граждан и стояли в центре кипучей политической жизни, свободно выражая свои мысли, но вместе с тем он признает, что вся эта борьба оптиматов и плебса, мятежи, шумные политические процессы, гражданские войны были великим бедствием для республики.
Свои мысли о мелочности и ничтожности всего происходящего в его время по сравнению с прошлым, высказанные в «Диалоге об ораторах», Тацит развивает в «Анналах»: прежние историки описывали великие войны и победы, борьбу оптиматов и плебса, столкновения великих мужей, ему же приходится рассказывать о мелком и недостойном внимания, об однообразных казнях и рабской покорности, о мелких стычках вместо расширявших империю войн, о печальном положении дел в Риме (Ann., IV, 32; XV, 19). Он сокрушается о гибели свободы, когда «карали за дела, а не за слова» (Ibid., I, 72), когда не было царской власти, свергнув которую, Брут установил свободу, когда существовало «справедливое равенство», погибшее в правление Августа, при котором в рабство устремились сенаторы и всадники и те, кто были наиболее знатными, оказались наиболее льстивыми и бесчестными (Ibid., I, 4, 7; II, 82), когда можно было свободно выбирать магистратов и сенат участвовал в управлении (Ibid., I, 35, 81). Вместе с тем он не только решительно высказывался против неуместных притязаний на свободу, выражающихся в «дерзости» и злопыхательстве, но, как и Сенека, считал, что вся история Рима с неизбежностью вела к установлению принципата.
Древние люди, пишет он, жили без пороков, не нуждаясь ни в наградах, ни в наказаниях, стремясь к добру. С исчезновением равенства исчезли скромность и стыд. Им на смену пришли честолюбие и насилие, а с ними и единоличная власть. Некоторые, почувствовав отвращение к царской власти, предпочли ей законы. В Риме их вводили и сами им повиновались первые цари, затем децемвиры, старавшиеся охранять свободу народа. Однако впоследствии справедливое право (aequum ius) погибло, так как законы стали издавать в пылу борьбы сословий и навязывать их силой, отсюда – Гракхи, Сатурнин, Друз, возмущение плебса. Сулла ненадолго дал передышку, отменив прежние законы, но когда мятежник Лепид снова вернул власть народным трибунам, несправедливые законы умножились, плебс волновался, республика все более портилась, начались гражданские войны. Когда многое честное гибло, не было ни обычая, пи права. Август, укрепив и обезопасив свою власть, отменил то, что приказывал, будучи триумвиром, и дал законы, которыми римляне пользуются благодаря праву и принцепсу, хотя доносчики, распространившиеся по Риму и Италии, внушают страх (Ann., III, 26–28). Когда римляне жили скромно, повторяет Тацит в другом месте, легко было соблюдать равенство. Но когда были покорены все пароды, возросла жажда богатства и власти, началась борьба между сенатом и плебсом, гражданские войны, в ходе которых и плебей Марий, и аристократ Сулла уничтожили свободу, заменив ее своим господством. Помпей действовал скрытно, по был не лучше их. С тех пор борьба шла только за власть. Гнев богов соединился с бешенством людей (Hist., II, 38). Режим Августа, по словам Тацита, был принят выявившей после проскрипций знатью, предпочитавшей безопасность при новых обстоятельствах прежним опасностям, и провинциями, подозрительно относившимися к власти сената и народа. После битвы при Акции стало необходимым передать всю власть одному человеку (Ibid., I, 1).
Тацит и Сенека (и как отчасти в свое время Цицерон) понимали необходимость единоличной власти, по не принимали той формы, которую она получила при Юлиях – Клавдиях и Флавиях, что и вызывало их тоску по «свободе». Это противоречие, свойственное, конечно, не им Одним, а многим представителям высших сословий, нашло свое разрешение при Антонинах, когда, по словам Тацита, каждый мог «думать, что хочет, и говорить, что думает» (Ibid.). Новая, начавшаяся с прихода к власти Нервы политика, обусловливалась главным образом неким компромиссом между принцепсами и сенатом, что стало возможно благодаря значительному изменению состава последнего, пополнению его людьми из италийских городов, затем из провинций, людьми, гораздо менее связанными с традициями римской аристократии и высоко оценивавшими преимущества единоличного правления. Для них основной интерес сосредоточивался уже не на воспоминаниях о прошлом, которое не было их прошлым, а на настоящем, на фигуре некоего идеального принцепса, способного их удовлетворить. И сам Тацит, объясняя, почему он взялся за неблагодарный труд описывать столь незначительные по сравнению с древностью события, рискуя при этом вызвать неудовольствие и тех, чьи предки потерпели при Тиберии, и тех, кто принимает описание чужих злодеяний как намек на свои собственные, пишет, что всегда полезно знать, что представляют собой те, в чьих руках власть. Когда она была У плебса и сената, надо было знать характер черни, чтобы ее усмирять, а также характер оптиматов. Когда же власть в руках одного, надо изучать и сообщать о деяниях правителей, ибо мало кто сам способен отличить честное от бесчестного, полезное от вредного и большинство судит о таких вещах на основании судьбы других (Ann., IV, 33).
Тацит в основном показывал, каким не должен быть принцепс. Другие старались объяснить, каким он должен быть. Некоторые наметки в этом плане мы видели уже у Сенеки. В «Панегирике» Траяну Плиний Младший рисует идеального принцепса, приписывая его черты этому императору: принцепса на землю посылает сам Юпитер, которому он должен подражать. Он должен быть не тираном, а гражданином, не господином, а отцом, радоваться не рабству, а свободе граждан, быть гуманным, скромным, доступным, не требовать неумеренных восхвалений, как то делал «тиран» Домициан. Принцепс должен получать свою власть не но наследству, как член семьи предыдущего правителя, а усыновляться своим предшественником, как самый лучший из граждан, любезный и сонату, и войску. Он должен стремиться к миру, но быть хорошим полководцем и притом не умалять заслуг других командиров, а выдвигать и поощрять их по достоинству. Ему принадлежит все, по он не должен присваивать то, что отведено частным лицам, не быть расточительным, уведомлять о своих тратах, первой своей обязанностью почитать заботу о всеобщем изобилии. Ему следует не поощрять доносчиков, не принимать доносы на господ от рабов, как то делали «тираны», а, напротив, обеспечить господам повиновение рабов, что будет только к благу последних. И хотя принцепс пользуется наибольшей свободой действий, он обязан не только блюсти законность, но и сам подчиняться стоящему выше него закону, предпочитая одобрение «лучших» одобрению черни.








