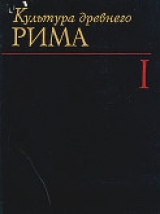
Текст книги "Культура древнего Рима. Том 1"
Автор книги: Елена Штаерман
Соавторы: Михаил Гаспаров,Н. Позднякова
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 38 страниц)
2. КРИЗИС И ПАДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ
Этому вопросу посвящена необозримая литература. Поэтому достаточно лишь суммарно охарактеризовать, так сказать, «программы» сталкивавшихся группировок, насколько они нам известны из сочинений Цицерона, Саллюстий, отчасти Сенеки Старшего, сохранившего кое-что из речей лидеров популяров (например, Лабиена, сочинения которого были впоследствии сожжены по приказу Августа. См.: Controvers., V, 33).
Для сенатской знати зло, приведшее к искажению идеала республики предков, началось со времени Гракхов с усилением власти народных трибунов (хотя Цицерон как-то заметил, что трибуны отчасти и полезны, так как их легче подкупить и переманить, чем весь народ) и своеволия народа, покушающегося на собственность частных лиц (т. е. крупных собственников). Покушение же на частную, выделенную из общественной, собственность противоречит, по словам Цицерона, данному самой природой закону более, чем любое другое злодеяние (De offic, III, о – 6), ибо земля досталась от возделавших свои наделы предков, а права первого оккупировавшего и обработавшего землю, как и права его наследников, – наиболее законный и неоспоримый титул владения – optimo iure (De offic, I, 7; De lege agr., Ill, 2). К этому добавлялись и другие аргументы: о возможности лучше вести хозяйство в более крупных имениях; о несправедливости переделов земли, отнимающих имение у человека, разбогатевшего благодаря трудолюбию и способностям, в пользу бездарного лентяя, что в конце концов лишит граждан стимула к труду[20]20
На этом тезисе построена одна декламация Нсевдо-Квпнтнлиана (262), идея которой, возможно, тоже восходит к I в. до н. э.
[Закрыть]; о том, что гражданам выгоднее получать раздачи и зрелища в счет арендной платы за ager publicus, чем возделывать розданные им участки, – утверждение, развиваемое Цицероном в речи к народу, направленной против аграрного закона Сервилий Рулла.
Сторонники этого направления противились всякому ограничению власти сената, даже со стороны всадников, всяким уступкам провинциям, ставшим фактически из «достояния римского народа» достоянием сената. Для обуздания своеволия народа они считали необходимым сплотить вокруг себя всех viri boni, т. е. зажиточных, благонамеренных, не стремившихся к переворотам граждан, под лозунгом «общей пользы», а также ограничить права народа на сходки и организацию «мятежных» коллегий (в первую очередь поквартальных коллегий культа Ларов), ограничить власть народных трибунов и усилить власть «лучших», «первых», принцепсов, или даже одного принцепса, фигуры в общем неопределенной, но во всем противоположной «тирану». «Тиран», попирающий все законы, конфискующий имущество богатых и знатных, изгоняющий их с родины и раздающий их богатства бедноте, освобождающий рабов, душащий «свободу» с помощью либертинов и наемных солдат, был постоянным пугалом для знати, обвинявшей в стремлении к «тирании» и «царской власти» любого своего противника. «Свобода» здесь понималась как всемогущий «авторитет» сената.
Противоположное направление – популяры – причину зла видели в начавшейся в период побед над Карфагеном и эллинистическими царями неумеренной тяге к богатству, роскоши, что приводило к скандальному обогащению немногих, захватывающих власть, и обнищанию огромной массы народа, закабаляемого, отстраненного от участия в управлении. Популяры обвиняли сенаторов в том, что они, стремясь к наживе, не гнушаясь подкупом, проигрывали сражения, ставя под угрозу власть Рима и позоря его имя своими чудовищными несправедливостями в отношении покоренных стран. Из их среды выходили вконец развращенные насильники, готовые ради своей выгоды и власти на любые злодеяния против народа. Богатые собственники – beati possidentis, владеющие необозримыми землями и массами рабов (из числа которых господские любимчики имеют пекулии, во много раз превосходящие имущество гражданина), безнаказанно творящие всякие беззакония, отнимающие землю у малоимущих соседей, – были постоянной мишенью нападок и обличений в речах и памфлетах популяров, повлиявших, возможно, не только на сочинения Сенеки Старшего, но и на ряд псевдоквинтилиановых декламаций, в которых выступают злодей-богач и честный, обиженный бедняк.
Те же мотивы обнаруживаются в сочинениях Саллюстий: богачи опутывают бедных долгами и заставляют отрабатывать в своих имениях, дарят их и отсылают в провинции как своих рабов – в нарушение законов, направленных против долговой кабалы. Именно они нарушили право собственности, присваивая себе обработанные чужим трудом земли, и законность будет восстановлена лишь тогда, когда они будут возвращены владельцам, народу, когда снова в силе будет запретивший кабалу закон, когда будет ограничена страсть к наживе. Добиться этого народ сможет, лишь снова обретя свое значение и власть, представленную грозной для магистратов властью народных трибунов, когда граждане избавятся от необходимости работать на других и снова станут свободными, когда каждый получит возможность выдвинуться благодаря не происхождению, а способностям. Для достижения этих целей народу предлагалось последовать примеру древних плебеев, удалившихся на священную гору, отказаться выполнять распоряжения сената и магистратов, дабы они поняли, что сильны лишь повиновением народа и без него они ничто.
Выше уже приводились факты, показывающие, что плебс был не чужд идее предпочтительности царской власти, способной обуздать в его пользу сенат. Допустимо предположить, что и образ «тирана», подобного тиранам Сицилии и Греции, мог не пугать, а привлекать низшие слои. Конфискация и передел имущества знати и ее изгнание вполне соответствовали их чаяниям. Не пугало их и освобождение рабов, принимавших активное участие в движениях городского плебса, особенно в движении Клодия, входивших в одни с плебеями коллегии и также заинтересованных в усилении власти народных трибунов, защищавших также и рабов, в расширении прав отпущенников. Подавления же «свободы» они не боялись, так как самой насущной для них была экономическая свобода и независимость, которую, как они думали, мог бы им дать выступивший против сената царь или «тиран».
Возможно, именно в это время, когда сенат запрещал, а парод отстаивал коллегии поквартальных Ларов, исконных гарантов справедливости по отношению к младшим членам фамилии и рабам, особую популярность приобретают рассказы о происхождении от Лара и рабыни Сервия Туллия и самого Ромула (Pint. Rom., 2), о рабском происхождении царя Анка Марция (Fest., s. v. ancilla), сицилийского царя Гиерона II (Iust., XXIII, 4, 4), персидского царя Дария, македонских парей Архелая и Аминты, Деметрия Фалерского (Aelian., Var. hist., XII, 43). Все эти примеры должны были иллюстрировать ту же мысль, что и соответственная интерпретация ценза Сервия Туллия, мысль о том, что никакое происхождение не должно мешать человеку подняться до любой высоты, – идея, диаметрально противоположная привязанности сенатской идеологии κ понятию nobilitas. Образ царя-народолюбца или «тирана» был, видимо, достаточно популярен на том уровне, на котором сближались свободнорожденные и несвободнорожденные труженики, что, скорее всего, объясняет популярность в этой среде и Клодия (с точки зрения Цицерона, типичного кандидата в «тираны»), и Цезаря (неизвестно, насколько справедливо обвинявшегося своими противниками в стремлении к царской власти). В этом смысле народу была близка и армия, состоявшая из граждан, шедших на войну в надежде получить землю и средства для ее обработки, т. е. достичь решения того же аграрного вопроса более эффективными методами, чем это мог сделать недостаточно организованный и встречавший сильное сопротивление сената плебс. Но в силу организации армии, ее корпоративного духа и привязанности к командирам, умевшим завоевать популярность богатыми раздачами добычи и земли, победами и личными качествами, последние приобретали в глазах своих солдат особое значение. Как уже неоднократно отмечалось, личность главнокомандующего, императора, к тому же обычно связывавшего себя с особым покровительством божества, чем далее, тем более отстраняла для его войска на задний план идею гражданской общины. Согласно интересной и хорошо обоснованной мысли С. Л. Утченко, соответственный процесс стимулировался и экономическими факторами: солдаты получали земельные наделы не от civitas и ее представителей, как некогда граждане, а от своего императора, имевшего силу заставить сенат удовлетворить их требования, а сама земля ветеранов рассматривалась ими уже не как часть земельного фонда ager publicus, а как их личная полная собственность, что имело особое значение для солдат-италиков, получавших римское гражданство, но в общем слабо связанных с Римом и его традициями[21]21
Утченко С. Л. Кризис и падение Римской республики, с. 178, 185–189.
[Закрыть]. У армии, представлявшей собой наиболее реальную силу, единоличный глава республики, ею же в этот ранг возведенный, мог вызвать еще меньше возражений, чем у широких масс гражданского населения.
О настроениях тех или иных социальных слоев провинциалов мы, к сожалению, знаем мало. Но, судя по отрывочным сведениям о расстановке сил в провинциях во время войн цезарианцев и помпеянцев, триумвиров, Антония и Октавиана, можно полагать, что оппозиция правлению сената была достаточно острой, за исключением, возможно, незначительной верхушки местных династов, богатейшей знати из италийских иммигрантов и романизованной туземной аристократии, наиболее привилегированных и управлявшихся аристократией городов типа Массилии. Широкие же слои, издавна привыкшие к власти царей, царьков, принцепсов, не могли возражать против перехода власти от грабившего и унижавшего их сената к правителю, способному установить мир, улучшить их положение, установить контроль над наместниками, дать им возможность восстановить свои хозяйства и продвигаться в число римских граждан.
Таким образом, установление единоличного правления было достаточно подготовлено. А поскольку, как уже говорилось выше, такая форма правления не противоречила самому пониманию республики как «дела народа», то она в глазах большинства не противоречила и свободе граждан, и самой идее гражданственности, хотя и та и другая разными слоями понималась по-разному. Как мы помним, для Цицерона свобода состояла в отсутствии необходимости подчиняться чужой воле, и стремление к такой свободе толкало одних на уход от общества, других на попытки захватить власть. Свобода в таком понимании сочеталась с соблюдением известного равенства среди правящего меньшинства. Цезарь вызывал возмущение оптиматов не только своей реальной политикой, полнотой своей власти, но и ее символами, резко выделявшими его из ряда прочих принцепсов, что противоречило традициям и добродетелям предков. На практике же свобода в этой среде означала право сената бесконтрольно распоряжаться римской державой и даваемыми ею выгодами, использовать, пуская в ход интриги, демагогию, подкуп, народных трибунов и народное собрание для укрепления своих позиций. Соответственно и гражданственность, т. е. непосредственная причастность к жизни общества, участие в решении его проблем, деятельность, направленная на достижение намеченных целей, и доля в полученных результатах, понималась как удел немногих, способных к тому по своему происхождению, богатству, образованию; остальные же должны были заниматься делами и вести образ жизни, подобающий им в соответствии с их сословной принадлежностью (Cic. De offic, III,6).
Для слоев, оппозиционных сенату, свобода, как уже упоминалось, заключалась в экономической независимости. Гражданственность мыслилась как активное участие всех граждан в народных собраниях (отсюда требование распределения италиков и либертинов по всем трибам), свободное участие в массовых организациях типа поквартальных коллегий и утверждение их роли в общественной и политической жизни. Можно полагать, что, несмотря на общеизвестные симптомы упадка комиций, подкуп голосов и тому подобные признаки разложения гражданского коллектива (вероятно, и преувеличенные Цицероном), дух гражданственности среди более или менее широких слоев народа еще не исчез, о чем свидетельствует хотя бы движение Клодия. Жил он и среди плебса италийских городов, что видно из активного участия коллегий в общественно-религиозной жизни (в предвыборных надписях из Помпей). Переход от «связей соучастия» κ «связям подчинения» и отчуждению уже намечался, но еще далеко не был завершен. Еще жив был интерес к большим социальным вопросам, к вопросам политическим, еще ставились некие общие цели борьбы и не исчезла надежда на их достижение. Все это постепенно угасает с установлением принципата.
3. РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ
Мы не будем здесь останавливаться на принципате Августа, все мыслимые точки зрения на который неоднократно высказывались в обширной литературе[22]22
В нашей литературе наиболее капитальным исследованием является работа: Машкин Н. А. Принципат Августа. Происхождение и социальная сущность. М.; Л.
[Закрыть]. Отметим кратко лишь то, что имеет значение для нашей темы. Август был выдающимся государственным деятелем, одним из первых понявшим в полной мере значение для монархического строя идеологического воздействия, осуществляемого не наивным методом самовосхваления восточных царей, а гораздо более топко. Пожалуй, основным в этом направлении были его усилия показать, что он удовлетворил чаяния всех участвовавших в конфликтах и гражданских войнах социальных слоев, нейтрализуя при этом все то, что могло угрожать новому режиму, и, напротив, подчеркивая все, что его укрепляло путем, так сказать, вливания нового вина в старые мехи.
Обращенными ко всем уставшим от бесконечных гражданских войн и приносимых ими бедствий были лозунги «мира» и наступившего «золотого века»; провозглашалось, что войны кончились, наступила эпоха спокойствия и процветания, Рим, наконец, выполнил предначертанную ему от века миссию, покорил все народы и справедливо правит ими к их же благу, весь обитаемый «круг земель» признал его величие, Рим и римские граждане стоят выше всех городов и пародов. Отсюда стимуляция римского патриотизма (например, требование, чтобы все римские граждане ходили в тоге), окончательное оформление «римского мифа» у Вергилия и Тита Ливия, реставрация древних культов и традиций, прославление будто бы вновь оживших римских добродетелей, осуждение «восточных суеверий». Все эти мотивы непосредственно связывались с личностью, заслугами, добродетелями самого Августа, который осуществил «римский миф». Сенаторское сословие было признано первым и наивысшим, заслуживающим всяческого почета.
Принцепс, «первый среди равных», якобы ничем не отличался от сенаторов и магистратов, кроме приобретенного заслугами масштаба своего авторитета – auctoritas, издавна связанного именно с сенатом. На деле реальную власть сенат утратил, а сенаторы всецело зависели от Августа. Народ формально также получил то, чего добивался: перенеся, по официальной версии, «свою власть и величество» на императора, ежегодно облекавшегося полномочиями народного трибуна, он, по видимости, занял подобающее ему главенствующее место. Император заменил его как верховная апелляционная инстанция и как источник права: отныне он, император, принимал законы, в частности и аграрные. Требование экономической независимости было формально удовлетворено массовыми раздачами земли ветеранам и выведением заморских колоний, в которых селились также плебеи и отпущенники. Но поскольку одновременно были сняты ограничения с крупного землевладения и заложены основы роста латифундий, а значительное число италийских собственников лишено земли в пользу ветеранов, обеднение крестьян, их превращение в колонов, батраков, а затем и кабальных (несмотря на lex Iulia de cessione bonorum) продолжалось, постепенно усиливаясь, а мероприятия в области аграрной политики зависели отныне только от императора, ставшего теперь верховным собственником земли, заменившим и в этом смысле римский парод. Благодаря службе в армии и в формировавшемся бюрократическом аппарате открылись некоторые возможности продвижения но социальной лестнице, но они ограничивались сохранением сословного принципа и во многом зависели не только и не столько от реальных заслуг и способностей, сколько от покровительства императора π близких κ нему или вообще влиятельных людей, т. е. от умения льстить, интриговать, приспосабливаться.
Были созданы многочисленные коллегии поквартального культа Ларов, но их культ был объединен с культом Гения Августа, а отправлявшие должности министров и магистров рабы и отпущенники, по большей части имевшие знатных господ и патронов, были достаточно обеспечены, чтобы тратиться на нужды культа, а значит, были лояльны к новому режиму, оплотом которого в широких массах и стали эти коллегии. Ремесленные корпорации и коллегии «маленьких людей» также были широко распространены, но формироваться они могли лишь с дозволения правительства (организация недозволенной коллегии приравнивалась к вооруженному захвату общественного здания). Они уделяли много внимания императорскому культу и имели патронов из видных лиц, составлявших для них уставы и направлявших их деятельность.
Приведенные примеры, число которых можно было бы умножить, показывают, какая опасность таилась в социальной демагогии Августа (продолжавшейся н развивавшейся его преемниками) для основ психологин гражданина, отличающих ее от психологии подданного. Эта опасность заключалась в более или менее осознанной проповеди завершенности истории Рима, осуществления всего того, ради чего, начиная с Ромула, согласно «римскому мифу», римляне совершали неслыханные подвиги и несли огромные жертвы. Вместе с тем требования, за которые шла вековая борьба между сенатом и популярами, были как будто удовлетворены. Новые же лозунги выдвинуть еще не настало время, так как вся социальная система достигла или почти достигла своих лимитов, но еще себя не изжила. Не изжила себя пока и зиждившаяся на ней система ценностей и традиций, все более превращавшаяся в пустую форму, но еще не имевшая альтернативы. Начался еще незаметный в правление Августа, но постепенно все более обострившийся, хотя и не осознававшийся современниками, так сказать, кризис коллективных целей, а с ним и кризис больших идей и действий, к целям ведущих.
В сформировавшуюся при принципате систему можно было вносить некоторые коррективы, за которые могли бороться те или иные группировки, но никакие глобальные изменения, затрагивавшие интересы масс и соответственно формирующие их идеологию, еще не были возможны. Из динамичной история, как и жизнь парода, становится статичной, из исполненной перемен – стабильной. Линия, зигзагообразно, но неуклонно шедшая вверх, превращается в горизонтальную прямую. В таких условиях коллективная деятельность людей, направленная на решение важных для всего коллектива задач, теряла для них, если не теоретически, то практически, значение и смысл, что неизбежно вело κ преобладанию мелких личных целей и задач, к жизни, погруженной в рутину повседневности, при нараставшей потребности вырваться из нее в сферу необычайного, яркого, поражающего, а также к прогрессирующему чувству оторванности, растерянности, одиночества, отчуждения, т. е. в конечном счете – к психологии не органически связанного с коллективом сограждан гражданина, а подданного, стоящего в стороне, не желающего ни во что вмешиваться и не верящего, что такое вмешательство может быть результативно и полезно.
В исторической литературе нового и новейшего времени принято подчеркивать упадок античной культуры при Империи, обусловленный якобы подавлением «свободы». Утверждение это стало почти что общим местом. Но по существу оно необоснованно. Во-первых, понимание «свободы» римлянами вовсе не соответствовало ее пониманию в условиях буржуазной демократии. Во-вторых, если смотреть на дело даже с точки зрения последней, то свобода в первые века Империи не подверглась особенно серьезным ограничениям по сравнению с последними веками Республики. По-прежнему в сфере религии и философии при соблюдении установленных норм можно было открыто придерживаться любого мировоззрения. Такие факты, как сожжение при Тиберии сочинений Кремуция Корда, прославлявшего Брута и Кассия, а при Нероне – Фабриция Вейентона, обличавшего сенаторов и жрецов, были исключениями, да и то впоследствии эти произведения были разрешены и вызываемый ими интерес угас (Tac. Ann., IV, 34–35; XIV, 50). Не были изъяты ни «Фарсалии» Лукана, ни сочинения весьма критически отзывавшегося о современном положении дел Сенеки, героем которого был Катон Утический, ни «Сатирикон» Петрония, по слухам, высмеивавшего двор Нерона, хотя все эти авторы были приговорены к смерти, как участники заговора против Нерона.
Правда, мы знаем, что неуважительно отзывавшиеся об императоре могли подвергнуться репрессиям за «оскорбление величества» и что специальные соглядатаи доносили о тех, кто вел подобные разговоры. Так, Эпиктет советовал поменьше говорить, поскольку собеседником мог оказаться переодетый солдат, который, спровоцировав простака на осуждение императора, потащит его в тюрьму (Convers., IV, 13, 5). Но, с другой стороны, тот же Эпиктет, советуя не обращать внимание на злословие, приводил в пример императора, не карающего всех, кто дурно о нем говорит, поскольку, если бы он стал поступать иначе, ему скоро некем бы стало править (Ibid., I, 23–24). Достаточно известно, что киники, выступая публично, поносили все существующие порядки и моральные нормы, власть имущих и самого императора, не подвергаясь особым гонениям. Неуклонно преследовался организованный мятеж (lex Iulia de vi publica и lex Iulia de vi privata), а также некоторые виды предсказаний, гадания, магия, но все это преследовалось и при Республике, только менее эффективно ввиду слабости административного аппарата. Самое установление единоличной власти было, как мы пытались показать, достаточно идеологически подготовлено среди разных слоев, и необходимость ее признавали в общем и те, кто на словах тосковал по «нравам предков». Наконец, вряд ли можно всерьез считать свободой (якобы теперь подавленной) порядки Поздней республики, когда кучка нобилей и те граждане, которые имели возможность являться на народные собрания и сходки, считали себя вправе произвольно распоряжаться судьбами населения огромной державы.
Причины если не упадка культуры (поскольку такой «упадок» вряд ли можно доказать, отвлекшись от собственных субъективных суждений), то постепенно шедших в ней изменений следует искать не в ущемлении «свободы», а в перечисленных выше факторах, главными из которых было исчезновение больших коллективных целей и все растущая экономическая зависимость, коснувшаяся всех людей, на любой ступени социальной иерархии, начиная от колона, зависевшего от хозяина, до сенатора, имущественное положение и карьера которого часто зависели от императора. Материальная зависимость порождала и моральную, выражавшуюся в требовании со стороны вышестоящих услужливости от низших, почтительности и лести, становившейся со временем все витиеватей и пышнее. Не говоря уже об известных примерах восхвалений «тиранов», приводимых Тацитом и Светонием, стало обычаем, чтобы вступавший в должность консул произносил «панегирик» императору, расписывая его Добродетели, подвиги, счастье, принесенное им народу, противопоставляя его благотворное правление вредоносному правлению его предшественников, что, по замечанию Плиния Младшего в его «Панегирике» Траяну, всегда приятно принцепсу. Своей доли лести требовали высокопоставленные граждане городов от сограждан, военные командиры и чиновники разных рангов от населения провинций или городов, с которыми они соприкасались, патроны коллегий от коллегиатов, патроны частных лиц от своих клиентов. Все претендовали на статуи и надписи, перечислявшие их исключительные достоинства, благородство происхождения, благодеяния. Все это сказалось, между прочим, на историографии, что видно не только из известного сочинения Лукиана «Как следует писать историю», но и из письма Фронтона к Луцию Веру от 165 г. Фронтон сообщал, что собирается писать историю парфянской войны этого императора, противопоставляя его заслуги заслугам даже такого популярного принцепса, как Траян (Fronto. Ep., I, 15).
Различные социальные слои по-разному реагировали на создавшееся положение, но все они пытались ответить на вопросы: откуда берутся в гармоничном мире зло и несправедливость; как преодолеть чувство оторванности от мировой гармонии (так воспринималась оторванность от общественных интересов), т. е. отчуждения; как должны быть построены отношения господства и подчинения; как жить, чтобы сохранить хотя бы моральную независимость, дабы не опуститься до уровня раба, вынужденного лгать, изворачиваться, не говорить то, что думает (Cic. Pro Sylla, 17; Mus. Ruf. Reliqua, IX, 49, 3, 9), словом, вести себя не так, как прилично свободнорожденному.
Эти вопросы стояли так или иначе в центре внимания основных философских направлений времен Ранней империи – стоицизма, платонизма, пифагорейства. Видимо, хотя эти направления имели приверженцев среди всех высших сословий, стоицизм был ближе сенатской знати, платонизм – муниципальной. Как замечает Д. Диллон[23]23
Dillon J. The Middle Platonists. L., 1977, p. 198.
[Закрыть], существовала стоическая оппозиция императорам, по не существовало оппозиции платонической. Это и понятно, если учесть, что муниципальные верхи, сословие декурионов, выиграли от установления принципата и были его наиболее прочной опорой. Оба направления по-прежнему видели задачу философии в том, чтобы сделать людей добродетельными и счастливыми, но расходились в исходных принципах и некоторых выводах. Стоицизм времен Империи, сохраняя тезис о жизни согласно природе и добродетели как единственном истинном благе, которое не может быть отнято у человека внешними обстоятельствами, и признавая долг человека служить обществу, основной упор делал уже не на родном городе, а на человечестве в целом. Космополитизм ранних стоиков, модифицированный в эпоху Республики римским патриотизмом, снова возобладал, когда Рим утратил последние черты гражданской общины, обратившись в столицу мировой империи. Платоники считали целью жизни уподобление не природе, а богу. Вместе с тем, признавая приоритет духа над телом, они продолжали считать, что для счастья необходимы и внешние блага – хорошее происхождение, благосостояние, здоровье и т. п. Значительное внимание они уделяли роли в жизни человека его родного полиса, приспосабливая политические теории Платона κ идеологии муниципальной верхушки, постоянно вынужденной лавировать между требованиями императорской администрации, полисными традициями и противоречивыми течениями в родных городах, которыми они управляли, пытаясь в своей сфере деятельности «примирить принципат и свободу».
Стоицизм известен нам по сочинениям людей с разной судьбой, несомненно, повлиявшей на трактовку ими разных вопросов, – Сенеки, одного из богатейших людей, воспитателя Нерона, игравшего при нем ведущую роль, а затем впавшего в немилость; Эпиктета – фригийца, бывшего раба, затем отпущенника, ученика Музоння Руфа, приходившегося племянником Гельвидию Приску, одному из лидеров стоической оппозиции при Флавиях; Диона Хрисостома, грека из Прусы, терпевшего гонения при Домициане, выступавшего с речами в основном в греческих и малоазийских городах и живо откликавшегося на их интересы.
Главная задача философии, писал Сенека, – сообщить людям чувство гуманности, общности, единения, научить их жить согласно природе, предписывающей следовать добродетели (Ep., 5). Философия делает людей свободными, позволяет подняться над любым статусом, ибо возвышенный дух, дающий способность познавать, объединять мудрых людей друг с другом и с миром, может жить и в теле всадника, и в теле отпущенника или раба, так что среди свободнорожденных и знатных единственным свободным человеком может оказаться либертин (Ep., 31; 44). Не менее важна задача философии учить людей переносить несчастья, бедность, болезни, изгнание, преодолевать страх смерти (Ep., 18, 48). Те, кто приобщился κ добродетели, делающей дух несгибаемым, спокойным, цельным, бесстрашным, снисходительным, те, кто наделен способностью правильно мыслить (recta ratio), следует законам природы и добровольно им подчиняется, – это хорошие люди, viri boni. Они равны между собой и образуют некую новую общность, независимую от статуса и места рождения, ибо для мудреца родина – весь мир (Ep., 28, 66). Мудрый особенно ценит то, что благо для всех; своим он считает то, что у него общее со всем человечеством (Ep., 73). Правда, в человеческом обществе многое несовершенно. Некогда, в золотом веке, все было общим, не было ни бедных, ни скупых, все заботились друг о друге, жили свободно и просто, ибо только в золоте и мраморе живет рабство. Но затем жадность разорвала общность людей, побудив их желать иметь свое. Золотой век сменился бедствиями века железного. Люди, поселившись в городах, стали распущенны и порочны, и их сдерживает только страх перед законами. Они стали опаснее зверей, которые вредят, только когда голодны, тогда как человек вредит для удовольствия. Они опаснее поя?аров и наводнений, случающихся редко. Однако мудрому следует помнить, что в человеке все же добро – врожденное, и когда он поступает плохо, сознание вины мучает его больше, чем страх наказания. Поэтому мудрец не должен забывать о своем долге по отношению к другим людям, исправлять свои пороки, но не шарахаться от общества и его нравов (Ep., 90, 97, 103; Medea, 367 sq.; Phedra, 574–612). Мудрый и добродетельный человек считает себя гражданином и воином вселенной, принимая все, что согласно с природой, а потому упорядочение и прекрасно. О величии природы свидетельствует ее неизменность, ибо истинное постоянно, тогда как ложное недолговечно. В этом мире на отведенном ему посту мудрец ведет себя честно и деятельно, всегда знает, чего хочет, всегда верен принятому решению (Ер., 120).
Мудрый не должен гневаться на разнообразные мерзости, совершаемые людьми. Не обращая внимания на отдельных людей, он должен быть снисходителен к человеческому роду в целом, помнить, что все люди – сограждане мира, не мстить за обиды, а игнорировать их, как лев игнорирует лай собак. Человек, не выбравший твердого жизненного пути, колеблющийся между делом и безделием, между пороком и добродетелью, недоволен собой, а потому несчастен. Он сам не знает, чего хочет, то надеется, то отчаивается, то поступает плохо, то раскаивается. Совсем не так ведет себя твердый в выборе своего жизненного пути мудрец. Он служит родине на предназначенном ему посту, помогает согражданам и учит их – если не в публичных выступлениях, то в частных домах. Как друг и товарищ он вступает в общение со всеми, всем помогает, подает утешительный пример твердости, как некогда подавал гример афинянам Сократ. Помогает он людям не из сострадания (misericordia), ибо мудрый ие должен страдать ни из-за своих, ни из-за чужих несчастий, а из милосердия (dementia), зная, что помогать людям – значит трудиться для общественного блага (De clem., II, 5–6). Человек обязан быть полезен людям, если не всем, то близким: все равно это будет дело общественное (De quiet, philos., 30). II собственный дом, собственная фамилия могут быть ареной благодеяний для того, кто по-человечески обращается с рабами, видит в них своих скромных друзей, исправляет их своим примером, общением с собой. С другой стороны, и раб может оказать благодеяние господину, если дает ему больше, чем обязан, например спасает ему жизнь, как то делали некоторые рабы во время проскрипций (De benefic, III, 20–22; De vita beata, 24; Ep., 47, 107).








