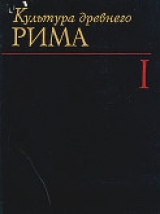
Текст книги "Культура древнего Рима. Том 1"
Автор книги: Елена Штаерман
Соавторы: Михаил Гаспаров,Н. Позднякова
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 38 страниц)
Некоторым шагом вперед по пути превращения суда в орган государства было учреждение в 149 г. до н. э. заменивших суд народного собрания постоянных судов – quaestiones perpetuae – наряду с ранее существовавшими, но не игравшими особой роли decemviri stlitibus iudicandis. решавшими дела о грал<дапстве и свободе, и центумвирами – 105 судьями, выбиравшимися по трибам (по 3 человека от трибы) и занимавшимися главным образом делами о наследстве. Quaestiones perpetuae были учреждены в связи с принятием закона Кальпурния о вымогательствах и злоупотреблениях в провинциях (crimen repetundarum), затем в их ведение перешли дела об «оскорблении величества римского народа» (государственной измене), казнокрадстве, подкупе на выборах, убийствах, насилиях, подлогах. Впоследствии Сулла в связи с изданными им суровыми законами против ряда уголовных преступлений организовал отдельные суды – quaestiones publicas de falso, de parricido, de sicariis (Dig., 1, 2, 32).
Первоначально судьями были сенаторы; Гай Гракх передал суды всадникам, после чего началась длившаяся до 70 г. до н. э. борьба сословий за участие в судах. В конце концов судьи, согласно ежегодно составлявшемуся претором списку в несколько сотен человек, стали набираться из сенаторов, всадников и эрарных трибунов. Согласно этому списку, магистрат назначал для каждого процесса несколько десятков приводившихся к присяге судей. Привлечение к суду по-прежнему оставалось частным делом. Обвинитель просил у претора или председателя суда – iudex quaestionis – разрешения выступить с обвинением того или иного лица. Обвиняемый вызывался и допрашивался. Через определенный срок (30—100 дней) назначался суд, на котором имело место расследование дела: выступление с речами за и против обвиняемого, допрос свидетелей, рассмотрение представленных документов, после чего большинством голосов выносился приговор. Если он был обвинительным, то по древнему нраву провокации осужденный мог апеллировать к народному собранию или же в самый процесс мог вмешаться народный трибун. Вследствие остроты политической борьбы на решение судов сильно влияло социально-политическое положение обвиняемого и обвинителя, симпатии и антипатии судей. Поэтому суды скорее играли большую роль в политических конфликтах, чем в выработке твердых правозащитных норм.
Немалое значение имело умножение источников нрава. Помимо законов, принятых народом или плебсом, и сенатусконсультов, к ним относились и эдикты преторов, эдилов, консулов, народных трибунов, решения судов (Rhet, ad Herren., II, 13). Все они имели целью приспособить право к новой по сравнению с эпохой XII таблиц ситуации. Развитие товарно-денежных отношений вызывало к жизни многочисленные различные сделки по купле-продаже, аренде, займам, залогу, ипотеке, по найму работников, поручениям по ведению чужих дел, по образованию деловых товариществ. Рост крупных состояний усложнил дела о наследстве; использование рабов и отпущенников в качестве деловых агентов господ требовало какого-то оформления. Приток в Рим провинциалов и переселение римлян в провинции сделали необходимым регулирование деловых отношений между римскими гражданами и Перегринами, для чего в 247 г. до н. э. был назначен специальный praetor peregrinus. По словам Цицерона, такое обилие источников права, никак не обобщенных, хранящихся в разных местах, создавало большие трудности при изучении права. Право, говорит он, еще не превратилось в искусство – ars, хотя было бы нетрудно сделать его таковым, методично объединив его отдельные части. Для этого следовало бы все гражданское право разделить на немногие категории (gênera), затем разделить их на составные части (membra) и дать им дефиниции. Тогда гражданское право превратилось бы в совершенное искусство (ars perfecta), великое и плодотворное, а не темное и трудное (Cic. De orat., I, 42–43).
Пока же такая работа не была проведена, многие ораторы, по словам того же Цицерона, не знают права, не разбираются в таких вопросах, как usucapio, опека, права сородичей (gentilitas), родства (agnatio), положений о nexi (т. е. кабальных), о намытой рекой земле, о предельной высоте стен, о дождевой воде, стекающей с крыши соседа, о признании недействительным завещания и бесчисленных других положениях нрава. Они не умеют отличить свое от чужого, гражданина от перегрина, раба от свободного. Они ничего не понимают в запутанных делах о разного рода договорах и обязательствах (pacta, conventa, stipulationes), в декретах и их толкованиях, в жизни тех, чьи дела рассматривают (Ibid., I, 24; 38). Хотя кое-что из древних установлений вышло из употребления, например: о правах сородичей на наследство человека, умершего без завещания, и близких родственников, однако, указывает Цицерон, надо знать законы, относящиеся и к таким установлениям. Он сам (Тор., 6) счел нужным дать определение термина «сородичи» (gentiles) как лиц, носящих тот же nomen, происходящих от свободнорожденных, предки которых не были в рабстве и не подвергались изменению статуса (capite deminutio), и упомянул имевшую место в суде центумвиров тяжбу о наследстве, во время которой ораторам пришлось обсуждать все права рода – gens и родословия – stirps (De orat., I, 39). Он подчеркивал важность для рассмотрения дела точных дефиниций: так, если кто-то украл у частного лица нечто посвященное богам, то, чтобы установить, является ли это воровством или святотатством, следует определить оба эти понятия (De invent., I, 8).
В речи за Цецину Цицерон произносит панегирик гражданскому праву. Тот, говорит он, кто презирает гражданское право, низвергает совместную жизнь и общую пользу граждан. Гражданское право необходимо охранять, ибо, если оно будет уничтожено, нельзя будет знать, что свое, а что чужое, не будет равных для всех прав, никто не будет уверен в том, что сохранит полученное им от отца имущество, которое рассчитывает оставить детям. Какая польза будет от приобретения без уверенности в том, что его сохранишь по праву собственности, какая польза обладать имением без установленного предками права границ, права владения? Ведь в большей степени граждане получают наследство благодаря праву и закону, чем благодаря тому, кто его завещал (Pro Cecina, 25–26).
Вместе с тем и Цицерон, и его современники выступали против слишком скрупулезного понимания закона, Цицерон считал, что следование букве закона может привести к несправедливости, и цитировал известную поговорку: Высшая законность – высшая несправедливость – summum ius – summa iniuria (De offic, I, 10). Настаивая на знании законов, он не пренебрегал и иного рода доказательствами, чтобы выиграть дело. Так, по его словам, защищая Опимия, убившего Гракха, следовало доказывать, что это убийство было законно, так как было совершено в интересах республики (Cic. Do orat., II, 30).
Автор «Реторики к Гереннию» рекомендует оратору не отступать от текста закона, но, толкуя закон в интересах выигрыша дела, советует сказать, что в нем указано лишь необходимое, остальное предоставляется Вашему пониманию, что надо следовать не букве закона, а воле законодателя, который, несомненно, хотел, чтобы все делалось самым правильным образом, тогда как написанное в одном законе не может быть исполнено из-за несоответствия с другими законами, обычаем, природой, справедливостью и добром – aequo et bono (Rhet, ad Herren., II, 9—10). По словам Цицерона, Антоний, отрицавший необходимость досконального знания законов, особенно блестяще умел доказывать превосходство смысла перед буквой и выигрывал дела у противников, опиравшихся только на право, выступая против написанного за справедливое и доброе (contra scripturain pro aequo et bono. – Cic. Brut., 39).
Противоречие между обоими направлениями было столь актуальным, что даже в школах, где учились будущие судебные ораторы, упражнявшиеся в произнесении речей на темы предложенных им казусов, одним поручалось защищать букву закона – scripturam, другим справедливость – aequitatem (Cic. De orat., I, 57). Такое на первый взгляд странное противоречие между высоким уважением к закону и противопоставлением его справедливости отчасти, видимо, объясняется тем значением, которое получили судебные процессы в жизни Рима III–I вв. до н. з. Сплошь да рядом они приобретали политический оттенок, даже когда речь шла о частных делах, поскольку стороны принадлежали к разным группировкам, а в речах ораторов затрагивались общезначимые для республики вопросы. Тем больший резонанс приобретали процессы, в которых оказывались замешанными видные политические деятели. Поскольку суд происходил публично, собравшийся народ живо реагировал на речи обвинителей и защитников. А найти путь к сердцу слушателей можно было скорее не толкованием малопонятных законов, a обращением к их пониманию добра и справедливости, к их эмоциям. Ораторы же стремились не только выиграть дело в суде, но и приобрести популярность, позволявшую им добиваться магистратур на выборах.
Кроме того, частично под влиянием греческих мыслителей, частично в связи с конкретной ситуацией в Риме начинает формироваться если не абстрактная система права, то некая теория его истоков и составных частей. До нас, к сожалению, не дошли обоснования точки зрения, согласно которой право всецело определяется законами и постановлениями, принятыми народом, но что такая точка зрения существовала, видно из возражений против нее Цицерона, естественно, не одобрявшего ряд принятых народом постановлений и опасавшегося еще более радикальных, например о переделе земли, что, с его точки зрения, было совершенным беззаконием (De offic, I, 7; III, 5). Чрезвычайно глупо, говорит он, считать законным (iusta) все то, что заключается в установлениях и законах, принятых пародом или даже изданных тираном. Если законность – Lustita – состоит в повиновении таким законам и если мерить их меркой полезности, то всякий, имеющий такую возможность, будет нарушать закон для своей выгоды, а правом может стать разбой, прелюбодеяние, подлог, если все это будет одобрено голосами большинства (De leg., I, 14–16).
Таким произвольно принятым людьми законам Цицерон противопоставляет закон природы, право, проистекающее из естественного сообщества людей – naturalis societas. Это – всеобщее право и закон, основанный на человеческой природе, которой присуща любовь к людям, это высший истинный разум, подсказывающий, что надо приказывать, а что запрещать, и справедлив лишь тот, кто его знает. Гражданское право занимает в этом всеобщем праве лишь небольшое место. Зло и добро мы различаем не по закону, а по мерилу природы – naturae norma (Ibid., I, 4–6; 14–15). Неистинные законы, какими были, например, законы Апулея и Ливия, сенат может отменить, истинный закон отменить нельзя (Ibid., II, 6). Началом нрава Рыла природа, так как понятие права зиждется не на мнении, а является врожденным, как религия, pietas истина, почтение к лучшим, чувство самозащиты. К таким врожденным установлениям Цицерон, между прочим, относил империй магистратов ибо без империя немыслимы ни дом, ни civitas, ни народ, ни весь человеческий род, ни самый мир. Из врожденных представлений возник обычай, по воле всех апробированный издревле, а затем обычай был закреплен законом (De invent., II, 22; De leg., III, 1). Закон для Цицерона справедлив и соответствует природе, когда он защищает собственность, так как обогащение за счет других противно и природе, и основанному на природе общему для всех народов праву – ius gentium, а также законам отдельных городов и республик, утверждающих, что нельзя для своей выгоды вредить другому, что тот, кто подрывает сообщество людей, карается смертью, изгнанием, оковами, штрафом. Так подсказывает разум природы, который и есть закон божеский и человеческий (De offic, III, 5).
В другом месте Цицерон рисует соотношение между ius gentium и ius civile: есть обширное сообщество, соединяющее всех людей; внутри него другое, объединяющее людей, принадлежащих к одному народу, к одной civitas. Поэтому предки различали ius gentium и ius civile. То, что содержится в гражданском праве, может пе содержаться в ius gentium, по то, что есть в последнем, должно содержаться и в гражданском нраве. Основой и того и другого должна быть верность слову – fides, взаимное доверие, такие формулы, как: «Да не буду я обманут и привлечен к ответственности из-за тебя и твоего слова» или: «Среди хороших людей подобает поступать хорошо и без обмана». Ссылаясь на Кв. Сцеволу, он пишет, что подобные суждения имеют наивысшее значение в делах, основанных на честности, добросовестности – bona fide: опеке, товариществах, ведении чужих дел, купле, продаже, аренде, т. е. делах, которые скрепляют общество и в которых судья решает, что кому должно быть предоставлено. Естественное право предписывает быть справедливыми и к рабам, с которыми следует обращаться как с вечными наемниками, требуя от них работы и давая им то, что им причитается (Ibid., III, 17). Право должно быть равным и справедливым, так как оно было установлено для защиты низших от высших; и те и другие равны перед правом и равно им обуздываются (Ibid., II, 12). В «Реторике к Гереннию» право делится на несколько частей: природа, законы, обычаи, прецеденты, справедливое и доброе – aequum et bonum, договоры. Согласно природе соблюдается то, что вытекает из родства и pietas. Законы – это то, что утверждается повелением народа. По обычаю соблюдается то, что справедливо и без санкции закона. Прецеденты – это то, о чем был вынесен приговор и о чем говорится в декретах магистратов; опираясь на них, приходится учитывать, кто были судьи и когда были вынесены приговоры. Справедливость и добро должны соблюдаться, так как право имеет в виду добродетель и общую пользу. Наконец договоры – pacta – соблюдаются в соответствии с законами, а иногда и просто по соглашению (Rhet ad Herren., Il, 13).
Таким образом, хотя во времена Республики право еще не было приведено в стройную систему, ему не были чужды некоторые теоретические построения, обобщения и дискуссии на тему о том, что же такое право, каковы его истоки и каким образом можно примирить право и естественную справедливость. Несомненным для всех было понятие «общей пользы» (как бы она ни толковалась) как основы права, идея равенства граждан перед законом и тезис suum quiqiie, т. е. воздаяние каждому по его достоинствам и недостаткам, заслугам, возможностям, положению.
Однако, несмотря на множество принимавшихся разными органами власти законов и обилие судейских коллегий, правозащита была в плачевном состоянии. Связано это было с отсутствием действенных санкций законов и неразвитостью государственного аппарата. Обеспечение явки ответчика в суд и исполнения приговора оставались частным делом, так что «маленький человек» практически был бессилен против могущественного. Немалое значение имел и принцип абсолютной автономии главы фамилии. Самовластие лиц из высших сословий практически не обуздывалось. В результате, как мы знаем из отрывков речи Цицерона за М. Туллия, господа вооружали своих рабов и отправляли их захватывать чужие земли, причем попытки бороться с такой практикой оставались безуспешными. Не соблюдался закон Петелия, дававший право должнику отказаться от имущества и сохранить свободу; долговая кабала процветала, и с кабальными обращались не лучше, чем с рабами. Известно (особенно из перипетий процесса Милона, обвиненного в убийстве Клодия), что господа, опасаясь показаний своих допрашивавшихся под пыткой рабов, спешно отпускали их на волю, так как свободного римского гражданина нельзя было пытать.
Искусство судебных ораторов типа Антония, апеллировавших пе столько к праву, сколько к «естественной справедливости», т. е. к эмоциям, пуская в ход приемы, способные растрогать слушателей и судей (например, в суд приводились старики-родители и малолетние дети обвиняемого, демонстрировались рубцы от полученных им на войне ран и т. п.), часто приводило к оправданию несомненных негодяев, как, например, Сульпиция Гальбы: он был привлечен в 149 г. до н. э. к суду за предательское избиение во время войны в Испании лузитанского племени, сдавшегося ему под честное слово сохранить сдавшимся жизнь, и этим поступком Гальба подорвал величие римской fides.
Нередки были случаи подкупа судей, несмотря на все принимавшиеся против этого меры, так же как и против подкупа при домогательстве магистратур – ambitus. Против последнего с IV по I в. до н. э. было принято минимум 12 законов (de ambitu), причем наказания становились все более суровыми – от штрафа до пожизненного изгнания, по искоренить ambitus было невозможно, и он принимал все более уродливые формы. Такая же судьба постигла законы против роскоши (с 215 г. до н. э. до Цезаря включительно их известно семь), все более распространявшейся, законы против ростовщичества, ограничивавшие проценты по ссуде – не более 10–12 в год. Практически беззащитными оставались перегрины, несмотря на некоторые попытки оградить их от злоупотреблений. Хозяйничание наместников и римских дельцов в провинциях достаточно известно. А каждый отдельный перегрин всегда мог стать жертвой насилия, чему яркой иллюстрацией служит приобретший широкий резонанс случай, когда Домиций, дабы показать, что он не признает дарования Цезарем римского гражданства Цизальпинской Галлии, высек гражданина города Кома. Пропасть, отделявшая римского гражданина даже из числа либертинов, со всеми его правами и свободами, от хотя бы и высокопоставленного на своей родине негражданина, была огромна, и униженные подданные Рима, всячески льстя своим господам, их отпущенникам и рабам, по признанию Цицерона, ненавидели самое имя римлян.
Право, возникшее и развивавшееся как право гражданской общины, с наступлением ее кризиса, с одной стороны, и в условиях недостаточного развития государственного аппарата – с другой, перестало удовлетворять требованиям жизни, теряло свою эффективность, что в известной мере сознавалось современниками. При некоторой демократизации оно тем не менее оказывалось неспособным защитить низшие слои граждан, пе говоря уже о негражданах. Оно становилось орудием в руках борющихся клик, что вызывало противопоставление гражданского права естественному праву и ius gentium, хотя последние два практически еще весьма слабо учитывались.
Новый мощный импульс развитию права был дан установлением империи с повсеместным распространением товарно-денежных отношений, с усилением класса-сословия не только италийских, по и провинциальных декурионов, со становившимся все более разветвленным военно-бюрократическим аппаратом, с переходом власти народного собрания как высшей законодательной и апелляционной инстанции в руки императора, на которого, по принятой фикции, были перенесены власть и величество римского народа.
Постепенно стал меняться самый характер суда и наказания. Все большее количество дел стало разбираться не назначенным магистратом судьей, а самими магистратами (процесс extra ordinem).
Умножалось число магистратов, имевших право суда. Помпоний называет 10 плебейских трибунов, 18 преторов, 6 эдилов, которые судили в Риме (Dig.. 1, 2, 34). В провинциях судили президы и их помощники. По некоторым делам, связанным с фиском, могли судить управлявшие казенным и императорским имуществом чиновники.
Права дуумвиров – судей в городах – урезывались в пользу правительственных чиновников, хотя право выступать обвинителями сохранялось и за частными гражданами, за исключением солдат и лишенных чести (famosi); солдаты, так же как женщины и рабы, могли выступать обвинителями только в делах «об оскорблении величества» (Dig., 48, 4, 7, 1–2; 8). Известный римский юрист конца II в. приводит примерную формулу письменного обвинения: При таких-то консулах, у такого-то претора или консула Л. Титий заявляет, что он обвиняет Мевию по закону Юлия о прелюбодеяниях, так как она в таком-то городе, в таком-то доме, в такой-то месяц, при таких-то консулах совершила прелюбодеяние с Гаем Сеем (Dig., 48, 2, 3).
По мере углубления классовых противоречий все более суровыми становились наказания даже для римских граждан, причем равенство их перед законом исчезало с разделением граждан на honestiores и humiliores. Так, бедняку, имевшему менее 50 золотых, запрещалось выступать обвинителем (Dig., 48, 2, 10). Не мог «маленький человек» вчинить иск высокопоставленному лицу за злонамеренный обман (dolo malo. – Dig., 4, 3, И). Заключить ли в тюрьму обвиняемого или оставить на свободе до начала процесса, решалось в зависимости от его богатства и достоинства (Dig., 48, 3, 1). Декурионов и «первых людей в городе» в противоположность простому человеку нельзя было приговорить к казни и изгнанию, пе сообщив императору, в чем состоит их преступление и какой вынесен приговор (Dig., 48, 19, 27, 1–2). Разными стали и наказания. Простых людей бросали на растерзание зверям, сжигали, бичевали, отдавали на рудники или на государственные работы; «благородным» отрубали голову, изгоняли с конфискацией имущества и потерей гражданства или высылали без потери гражданства на острова. Телесные наказания и пытка, которой теперь стали подвергать не только рабов, но и humiliores, к ним не применялись. Такие жестокие наказания полагались по изданным Августом и ого преемниками законам: по закону об оскорблении величества (по Ульпиану, подобного святотатству, – Dig., 48, 4, 1–2), включавшему теперь не только государственную измену, но и действия и слова, направленные против императора; по законам о насилии против общества (de vi publica) и против частных лиц (de vi privata), направленным против лиц, собравших в целях мятежа вооруженных свободных и рабов или изгнавших кого-либо из его имения или дома; по законам о разбое, убийствах, угоне скота, чародействе, подлогах, подкупах, злоупотреблении властью, обмане налогового ведомства, смещении межевых камней с целью захвата чужой земли, поджогах, «жестоком оскорблении», включавшем насилие над личностью (atrox iniuria), о разврате, изнасиловании мальчика или девушки, похищении и продаже свободного человека или чужого раба. Даже тела казненных теперь стали выдаваться родственникам для погребения лишь со специального разрешения, в котором могли отказать (Dig., 48, 24, 1). Тяжелым наказанием считалось и лишение чести (infamia), дополнительно налагавшееся за клевету, оскорбление, грабеж, кражу, злонамеренный обман (dolus malus), за брак, заключенный против воли тех, под чьей властью находились брачующиеся, за сводничество, двоеженство, двоемужество (Dig., 3, 2, 1).
Суд перестал быть публичным зрелищем, процессы при единовластии утратили политическую значимость, и, соответственно, все меньшую роль играли эмоции и все большую – тонкое и всестороннее знание права, умение его истолковать и приложить к конкретному случаю. Между тем право все более усложнялось. К прежним его источникам (из которых, естественно, исчезли новые законы народного собрания, поскольку таковое не созывалось, и плебисциты) прибавились законы императоров, их рескрипты, ответы на обращенные к ним прошения, комментарии и сочинения виднейших юрисконсультов. Пользовались и обычаем (longo consuetidine), приравнивавшимся к закону, потому что, как поясняет Юлиан, источником права является воля парода и безразлично, выражена ли она в писанном законе или неписаном, принятом всеми обычае (Dig, 1, 3, 32). С увеличением императорского имущества и практическим отождествлением его с казной возникло право фиска, пользовавшегося рядом привилегий перед частными лицами (Dig., 48, 14; Ulpian. De iure fisci). Особо разрабатывалось право военное, трактовавшее права и обязанности солдат и ветеранов и устанавливавшее наказания, налагавшиеся на военных (Dig., 49, 16). Изучались все тонкости права в особых юридических школах.
Право и суд, таким образом, становились централизованными, превращались из дела гражданской общины в дело государства.
Характерны в этом плане изменения, коснувшиеся фамилии. С развитием рабства и обострением классовой борьбы власти pater familias для подавления рабов стало недостаточно, и эту функцию чем далее, тем более брало на себя государство. Его политика здесь шла в двух направлениях. С одной стороны, оно принимало суровые меры против любого проявления рабами сопротивления, с другой стороны, стремясь не обострять отношения до крайности, оно постепенно ограничивало злоупотребление господ их властью. Решительным шагом в первом направлении был знаменитый Силанианский сенатусконсульт Августа, согласно которому в случае убийства господина все рабы, находившиеся с ним под одной кровлей или на расстоянии окрика, так что имели возможность прийти ему на помощь, но не пришли, подвергались пытке и казни. До казни рабов запрещалось вскрывать завещание убитого, дабы наследник, опасаясь за свое имущество, не попытался спасти обреченную фамилию. С течением времени действие Силанианского сенатусконсульта расширилось, распространилось на малолетних рабов, на рабов родственников, живших имеете с убитым, наконец на отпущенников. В том же направлении шло запрещение отпускать на волю рабов, когда-либо закованных господином, т. е. неблагонадежных, и усиление мер по розыску солдатами и чиновниками беглых рабов.
Вместе с тем господа постепенно лишались права применять к рабам крайне суровые меры. Еще в относящейся ко времени Августа или Тиберия надписи из Путеол. содержащей правила для подрядчиков, бравших на себя организацию похорон, предусматривалось, что они же по требованию муниципального магистрата или господина производили порку или распятие рабов (An. ep., 1971, № 88). С конца I, а особенно во II и III вв. господам (а также муниципальным магистратам) запрещалось казнить рабов, отдавать их в гладиаторы или бестиарии, навечно заковывать, заточать в эргастулы. За преступления, предполагавшие тяжелые наказания рабов, теперь карал суд. Рабы, писал Ульпиан, могут привлекаться по всем преступлениям, кроме влекущих в виде наказания конфискацию имущества, поскольку имущества они не имеют. (Dig., 48, 2, 12, 4). Любопытно, что, уточняя обязанности префекта Рима, Септимий Север упомянул, между прочим, разбор жалоб господ на рабов, совершивших прелюбодеяние с их женами (Dig., 1, 12, 5). Даже такое, с точки зрения римлян, тяжелое преступление раба господин уже не мог покарать сам. За преступления, совершенные с ведома или по приказу господ, теперь несли ответственность сами рабы. Таким образом, несмотря на неоднократное повторение юристами тезиса о нерушимости власти господ, замкнутость мира фамилии была в значительной мере преодолена. Рабы в какой-то степени становились подданными не только господ, по и государства, тем более что оно стало принимать жалобы рабов на плохое обращение господ, недостаточное содержание, и если жалоба подтверждалась, рабов принудительно продавали другому господину. В связи с появлением значительного слоя рабов, наделенных пекулиями и ведущих собственные дела, государство начинает регулировать и имущественные отношения не только между рабами и посторонними контрагентами, но и между держателями пекулиев и их господами. Регулировались и взаимоотношения между отпущенниками и патронами.
В этот же период окончательно складывается и знаменитый принцип favor libertatis, по которому, если по той или иной причине вопрос о статусе человека либо о праве раба на свободу доходил до суда и дело оказывалось сомнительным, его следовало решать в пользу свободы. По тому же принципу, если раб должен был получить свободу по исполнении какого-нибудь условия, а ему это условие мешали выполнить, он все равно получал свободу. Если наследник скрывал завещание, по которому раб освобождался, раб мог подать на него в суд, хотя вообще раб с господином судиться не мог. Не отнималась свобода, данная по завещанию, и в том случае, если завещание оказывалось недействительным. Хотя часто favor libortatis считают результатом влияния гуманистических идей философов, он скорее обусловливался нежеланием раздражать людей и вызывать какие-нибудь эксцессы, отказав им в свободе, на которую они надеялись. Впоследствии Диоклетиан именно так формулировал причину, по которой он автоматически предоставлял свободу рабам, в течение 20 лет с ведома господина жившим как свободные (CI, VII, 22, 2). Вместе с тем в фамилию стали включаться свободные слуги, власть над которыми господина мало чем отличалась от власти над рабами (Dig., 21, 1, 25, 2). Особенно примечательно, что во изменение права гражданской общины, не признававшего возможным превращение римского гражданина в раба, теперь (видимо, в конце II в.) законом была санкционирована самопродажа гражданина, достигшего 25 или даже 20 лет. Так юридически оформлялось разложение класса-сословия рабов, некоторые из которых становились владельцами средств производства, а также humiliores, значительный слой которых деградировал до уровня рабов.
Вообще в отношении фамилии мы видим в законодательстве известную двойственность. С одной стороны, рабы получали известную правоспособность, с другой, в плане экономическом власть pater familia оставалась прежней. Не только раб, но и находившийся под отцовской властью сын юридически не мог чем-либо владеть. За заключенные им сделки отвечал отец, все им приобретенное становилось собственностью отца. Исключение составляло только то, что сын приобретал на военной службе и благодаря военной службе – так называемый «лагерный пекулий». Но если солдат, например, получал наследство от какого-нибудь частного лица, оно, как и наследство, оставленное рабу, принадлежало pater familias. По Ульпиану, не мог хотеть (velle) или не хотеть (nolle) тот, кто подчиняется власти отца или господина (Dig., 50, 17, 4). Когда перегрину даровалось римское гражданство, он получал и patria potestas – таким неотъемлемым компонентом прав римского гражданина она считалась. Видимо, как и прежде, здесь действовало отношение к фамилии как к основной производственной ячейке, все ресурсы которой должны были быть сосредоточены в руках главы, ответственного за добросовестное хозяйствование, не только для своей, но и для общей пользы, для пользы своих детей; дети считались при жизни отца как бы латентными владельцами – quasi domini, поэтому вступление в права наследования для них было продолжением господства, когда они получали свободное распоряжение имуществом (Dig., 23, 2, 11). Соответственно, составление завещания относилось не к частному, а к публичному праву (Dig., 28, 1, 3); общественной повинностью было опекунство, а магистрат, назначивший малолетним недобросовестного опекуна, отвечал по суду (Dig., 27, 1; 8). «Общей пользе» соответствовало не только сохранение и приумножение имущества для наследников, но и наделение приданым дочерей, дабы они могли вступить в брак и рождать новых граждан (Dig., 23. 3, 2). О значении фамилии говорит и тот факт, что коллегии иногда именовали себя фамилиями; юристы признавали, что наименование фамилии относится также и к корпорациям, имеющим свой особый устав (Dig., 50, 16. 197).








