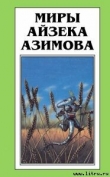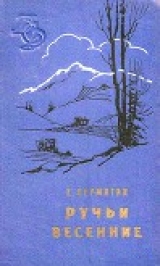
Текст книги "Ручьи весенние"
Автор книги: Ефим Пермитин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц)
Глава тринадцатая
Общеколхозное собрание назначили в полдень, но народ повалил в сельсовет с утра.
– Верный признак – жаркое будет собрание, – сказал за завтраком Василий Николаевич.
– Я предвещал, я предвещал… – тотчас же вступил в разговор всезнайка Павел Егорович.
Молодой Костромин и инструктор райкома Семен Рябошапка ушли тоже до завтрака.
Старик жадно припал к окну.
– Смотрите, смотрите, Варварка Фефелова! Ускребается – пар из ноздрей… Не иначе, дернула для храбрости. Коренник это у него! Одним словом, закоперщица: язык – бритва. Не вдовенка – яд. Одним словом, жгучая крапива! Я б на вашем месте, товарищ секретарь, по причинности дикого карахтеру, удалил ее с собрания. У ней – вот не дожить мне до светлого праздника! – в пазухе пол-литры припасено…
– Удалять с собрания заранее мы никого не можем, Павел Егорович, – строго сказал Леонтьев.
– И напрасно! Она, ежели чего, на любую рогатину, как ведмежица, полезет. Кто-кто, а уж я-то знаю Варварку: от нее покойничек Евстигней Емельяныч с первого часу женитьбы и до самой смертыньки навзрыд плакал… – Бегающие глазки старика остановились, как бы замерев в испуге, потом опять зашмыгали. – Да ведь она же не постыдится… Ничего не постыдится!.
– И что это вы, папаня, такой неприличный страх на людей загодя нагоняете. Дивлюсь я, отчего это вас, старичка преклонного, на такие склизкие вопросы потягивает? Ведь совестно же со стороны: диви бы молодой, а то… – Аграфена Парамоновна, застыдившись, махнула рукой. – Ну, допустим, любят они Константина Садоковича, стоят за него, так он-то тут при чем? А стоят они и за него и за справедливость. Это только ваш дружок Колупаев все сваливает на бабью любовь к нему… – Как показалось Андрею, Аграфена Парамоновна говорила теперь, обращаясь не к свекру, а к секретарю райкома.
Молодой агроном изумился этому новому повороту дела с Боголеповым. Фамилия какого-то Колупаева, неожиданно примешанная к ясному для него вопросу, смутила его, он растерянно посмотрел на Леонтьева и поразился: секретарь был не только спокоен, но, казалось, уже совершенно утратил всякий интерес к неудержимой болтовне старика.
– А ты, дочка, помалкивай, я дело говорю. Удалить ее надо, эту Варварку, раз тут вопрос отечественного интереса касается. Она – будь испрепроклятая! – одного нервенного инструктора, начавшего наводить крытику на ферму, с трыбуны за галстук сдернула. А тут сколько их, тигриц, соединится… Удалить, непременно удалить! А то хватишься шапки, как головы не станет… – Старик забавно схватил себя за желтую удлиненную головку. – Одним словом, поопасайтесь, товарищ секретарь. Наши дуры хоть и без пастуха пасутся, а в стаде сурьезны, – ох, сурьезны!
– Папаня у нас наговорит, только слушай. А мне Митя и Семен Рябошапка совсем другое про Боголепова сказывали. Да и сама я не дура – вижу, как и что. Не в Боголепове тут дело…
Леонтьев с интересом, посмотрел на Аграфену Парамоновну и еще больше нахмурился. Андрей заметил: насколько вчера Василий Николаевич жадно слушал старика, настолько сегодня не обращал на него внимания.
А Павел Егорович, казалось, ничего не замечал.
– Эх, дочка, дочка! И ты, товарищ районный секретарь. Мне на восьмой десяток перевалило, но я таких женщинов, как наши… – Старик огорчительно покачал головой. – Ни в одном лесу нет столько поверток, сколько у них, у отпетых, уверток. На мой бы крутой карахтер, будь я у власти, я б их, эдаких распробесстыжих, на медленном огне сказнил, чтоб не застрамляли честное женское сословие. Стыд они еще в зыбке потеряли. А бесстыжая баба… – Старик презрительно плюнул и вышел из горницы.
– А может, и впрямь, Василий Николаевич, надо что-нибудь предпринять, пока не поздно? – осторожно спросил Андрей.
Леонтьев вскинул на агронома глаза с каким-то незнакомым ему осуждающе-строгим выражением. Видимо, он хотел сказать Андрею что-то поучительное, но раздумал. И не ответить было неудобно. Леонтьев отделался, как показалось тогда Андрею, общими фразами.
– В жизни, как и в искусстве, – заговорил он минуту спустя, – умение мешать правду с ложью тонкое дело. Попасть на эту удочку горячему человеку – дважды два. До седых волос вот дожил, а попался, как мальчишка… Бойтесь, как огня, предвзятых суждений о человеке. Предвзятость понуждает нас видеть человека не таким, каков он есть, а таким, каким заставили вас его видеть.
Леонтьев вынул записную книжку, нервно полистал ее и, отыскав фамилию «Боголепов», жирной чертой перечеркнул слова: «Бугай», а ниже крупно, четко написал: «Механизатор».
…Появление секретаря райкома в переполненном помещении сельсовета было встречено аплодисментами. Особенно дружно хлопали женщины. Плечом к плечу они сидели и стояли перед самым президиумом и отчаянно били в ладоши. Леонтьев поморщился: он не считал эти аплодисменты заслуженными.
«Коноводки» Варвара Фефелова и Парунька Лапочкина были, вопреки предсказаниям Павла Егоровича, трезвы и ратовали за порядок на собрании. Особенно старалась Варвара Фефелова. Еще до прихода Леонтьева эта здоровенная сибирячка с широким квадратным лицом вскочила на скамью и закричала:
– И это где такое, как у нас, делается? На собраниях шум, крик, прямо гусиное займище… Чтобы этого не было сегодня!
Леонтьев и Андрей сняли шапки и пошли по узкому проходу между скамеек. Василий Николаевич входил на собрания всегда со сдержанным волнением. Казалось, он готовился к самому серьезному, ответственнейшему выступлению.
Молодой агроном озирался по сторонам и видел только множество незнакомых лиц, с любопытством рассматривающих его. «Что потребуется, то и сделаю», – решил он и, сев на кромку скамьи в президиуме, как-то сразу успокоился. Лишь тогда невдалеке от себя он увидел Боголепова.
Василий Николаевич был прав – нарисовал он бледную копию. Помимо огромной физической силы, помимо редкой красоты лица и глаз, была в этой фигуре какая-то беспокойная другая сила, привлекающая внимание окружающих, может быть рвущаяся наружу энергия. Боголепов напоминал Андрею клокочущий под парами, наглухо завинченный котел. «Направь горячую его силу куда нужно, и он гору свернет. Упусти – натворит бед…»
И как-то сразу настроение «громить» этого человека у Андрея прошло. По глазам колхозников, смотревших на своего председателя с надеждой, он понял, что и они не собираются его громить. Андрей ощутил в душе недоверие ко всему, что он слышал о Боголепове. «Что-то тут не то, не то!»
Как и большинство молодых людей, Андрей Корнев был высокого мнения о своей проницательности. Сейчас он пытливо взглядывал то на Боголепова, то на колхозниц. Среди женщин, сидевших в первом ряду, выделялась одна – высокая, черноволосая, с тонким одухотворенным лицом. Она неотрывно смотрела на Боголепова, ловила малейшие его движения и, видимо, сильно волновалась за все, что произойдет тут сегодня. Женщина была одета по-городскому. На матово-бледном удлиненном лице ее выделялись большие карие печальные глаза. Что-то матерински чистое было во всем ее облике.
Андрей нагнулся к соседу и, указывая глазами на красивую женщину, тихонько спросил:
– Кто эта в черном, пятая с краю?
Сосед, немолодой колхозник, негромко ответил:
– Жена Константина Садоковича, Елизавета Матвеевна, учительница здешней школы. Замечательная учительница! – добавил он.
«Какая же она маленькая и перепелесо-безбровая? – чуть не воскликнул Андрей. – Это же явная клевета!» – ему вспомнились слова из рассказа Леонтьева. Андрей невольно повернулся к секретарю. Леонтьев о чем-то горячо говорил с Рябошапкой и председателем сельсовета Костроминым. Почувствовав на себе недоуменный, спрашивающий взгляд Андрея, он обернулся в его сторону, но ничего не сказал, только улыбнулся и стал писать в блокноте.
Андрей вновь уставился на высокую черноволосую женщину, и перед ним почему-то возник образ Веры. Казалось, это она сидит и смотрит преданными глазами, но не на Боголепова, а на него, Андрея Корнева.
«И какая же это славная пара!» – думал он о чете Боголеповых, а видел себя с Верой. «Какая пара, какая пара!» – шептал Андрей. «Говорите, говорите, Андрей Никодимович! Вы так изумительно, так поэтично рассказываете обо всем…» – почему-то припомнились вдруг слова Веры. Тогда они показались ему ненатуральными, а теперь… Теперь, глядя на Елизавету Боголепову, Андрей видел Веру Стругову. То видел, как она, склонившись с седла, доставала горсть земли, то, как, стоя во весь рост в кошевке, управляла Курагаем, когда они мчались за раненой лисицей. Что-то новое, волнующе-горячее зарождалось в его душе.
Он уже не мог не думать о Вере:
«А как она всегда внимательно слушает… Как смотрит…»
Что-то невыразимое словами, какая-то счастливая немота, доходящая до сладкой боли, все подступала в подступала к сердцу Андрея, властно заслоняя все его другие ощущения и мысли.
– Слово для отчетного доклада предоставляется товарищу Боголепову…
Боголепов поднялся, молодцевато тряхнул глянцево-черными волнистыми волосами, большой и быстрый, и легкой походкой направился к трибуне.
– Хвалиться нам в этом отчетном году, я буду прямо говорить, нечем, – густым, сочным, действительно темно-малиновым басом начал Боголепов. – Осенью мы повесили себе на шею добавочный нищий кошель: к нам влился еще более высокогорный, чем мы, колхоз имени Крупской. Этот нищий, буду говорить прямо, потянул нас на три года назад… По закрепленной за этим колхозом огромной, погектарно облагаемой продуктами полеводства и животноводства площади земли он из года в год не оправдывал себя перед государством: был всегдашним его должником. Урожаи в четыре-пять центнеров ржи собирали вручную. Из-за этого недозаготовляли корма, и животноводство хромало на все четыре ноги. И вот этот-то, буду прямо говорить, кошель нам и надели в добавку к трехлетней засухе…
– Эдак, эдак, Кистинтин Садокович! – слабеньким голосом подтвердил поднявшийся подслеповатый седенький старичок. – Мы спокон веку хлебов не сеяли, а с равнинных деревень его завозили, и намного это нам дешевле обходилось. А теперь допахались до тюки, что ни хлеба, ни муки… – Старичок заморгал выцветшими слезящимися глазами. – Планы на посев спущают непосильные, а на гору один мешок семян на седле лошадь еле везет. Сеем вручную, жнем серпами, как при Николашке, вот и заедают нас эти самые, будь они прокляты, ржаные планы…
Старичок сел, и Боголепов продолжил:
– За границей, в сходных с нами горных местах, давно перешли на высокопродуктивное животноводство. Возьмите альпийские хозяйства Швейцарии, Баварии и некоторые части северного побережья Франции. Я, буду прямо говорить, узнал об этом из учебника, когда готовился к зачету в техникуме механизации.
С каждой минутой Андрей проникался все большим и большим уважением к докладчику: «Оказывается, он и в техникуме механизации учится!»… А тот говорил уже о никому не нужных, разорительных посевах по горным склонам, приводил разительные цифры, называл и обобщал факты…
Доклад открыл Андрею глаза на земледелие в горных районах. Такое «земледелие» под корень рубило животноводство и не давало хлеба.
Андрей стал записывать мысли по этому поводу, но сидевший справа колхозник дотронулся до его плеча и передал ему записку от Леонтьева: «Обратите внимание на крайнего слева в президиуме. Это заместитель председателя колхоза – Колупаев. Метит в председатели. Талантливый клеветник. Коварный Яго. Вместе с безвольным счетоводом-пьяницей Кривоносовым, как лилипуты Гулливера, они опутали Боголепова тысячами нитей».
Андрей отыскал глазами Колупаева. Он сидел, поставив локти обеих рук на стол и подперев ладонями большую голову на тонкой шее. Казалось, не поддерживай Колупаев свою голову, она непременно свихнулась бы набок. «Живые мощи», – подумал о нем Андрей.
Голый череп Колупаева с сильными западинами на висках был туго обтянут пергаментно блеклой кожей. Острый сморщенный подбородок и большие хрящеватые уши напоминали увеличенное изображение летучей мыши. Ни усов, ни бороды на лице Колупаева не росло. С одинаковым успехом ему можно было дать и под сорок и за шестьдесят. В провалившихся глазницах сверкали желтые лисьи глаза с расширенными зрачками.
Колупаев бесстрастно смотрел куда-то поверх голов сидящих и, казалось, не слышал ни слова из того, что говорил докладчик. Но так только казалось. В действительности он весь был напряжен до чрезвычайности. Мефодий Евтихиевич (так звали Колупаева) подсчитывал своих сторонников и с секунды на секунду ждал ошарашивающих реплик с их стороны, чтобы, сбив докладчика, затеять обычный галдеж, подтверждающий справедливость многочисленных сигналов в райком о пьянстве и распутстве Боголепова, о буйстве его сторонниц.
«Сейчас, вот сейчас ахнут его обухом между глаз».
Но Боголепова никто не прерывал.
«Неужто слова, оброненные мной на собрании актива о тройной итальянской бухгалтерии в правлении, отнесены Леонтьевым не к Боголепову? – с напряжением думал Мефодий Евтихиевич. – Все может быть! Но ведь бабы-то налицо! Они и сегодня ему в рот смотрят… С кормами труба: скот падает… Неужто и с кормами разнюхали?»
Доклад близился к концу. Боголепов говорил о перспективах быстрого роста колхоза при условии, если новому правлению удастся добиться снижения плана посевов ржи и пшеницы.
– Я буду прямо говорить: трижды по этому вопросу ездил в район, один раз – в край. Набил шишек на лбу, а ничего не добился. Но, товарищи, во что бы то ни стало, а добиваться этого надо…
Докладчик повернулся к президиуму и говорил теперь, глядя в лицо Леонтьеву:
– Арифметика тут, товарищи, я буду прямо говорить, простая, и рано или поздно, а мы докажем это плановикам… Уборка ржи вручную и лобогрейками сокращает и без того короткие сроки заготовки кормов по крайней мере на три недели. А сколько отрывает прополка! Да выбросьте всегдашние июльские наши дожди и посчитайте… Что остается на сенокос? Остаются рожки да ножки. А рожь подпирает уборка пшеницы, и выходит, что за сенокос мы снова беремся лишь в конце сентября – в октябре. Ну, а какая уж в ту пору трава, я буду прямо говорить, это не трава – дрова…
– Эдак, эдак, Кистинтин Садокович! Дрова, перерослые дудки! – вставил опять знакомый уже Андрею старичок с выцветшими глазами. – С них, с этих дудок, только навоз, а молочка – шильцем хлебать. Обязательно унизить надо ржаные планы!
Боголепов хотел было продолжать, но поднялся рослый колхозник с окладистой бородой цвета монетной меди, Фрол Седых, по прозванию Наглядный факт.
– Я, товарищи, скажу только один наглядный факт, – начал он. – Справедливо говорит Садокович: засекает нас эта самая пустоколосая рожь… – Фрол ребром ладони, как ножом, полоснул себя по дремучей бороде. При этом глаза его закрылись на мгновение, точно и на самом деле он получил смертельный удар. – Комбайн ее, завсегда полеглую, дуром выбуревшую, завсегда сорную, в наших чертоломных крутиках не берет – это же наглядный факт! А попробуй-ка скосить ее косами! И еще наглядный факт, товарищ секретарь райкома: какой мы заготовляем силос? – Фрол уставился на Леонтьева. – Силосуем мы, как нищий кусочки под окнами собирает Христа ради, по логам, по сограм, за много километров от фермы, по невыездному крутоложью, топчем силос в земляные ямы, и получается у нас в сводках центнеров много, а силос дрянь – наглядный факт! И главное еще, что не под руками он, а у черта на куличках – по логам, и забивает его зимами снегом до пяти метров, не докопаешься. Я, товарищи, три года работал в совхозе «Горный скотовод». И там ученые зоотехники пшеницы и ржи этой на зерно горсти не сеют – это же наглядный факт! А сеют они только ячмень и овес на фураж, рожь – на зеленку да корнеплоды. Эдакую агромадную вкусную кормовую овощу, что ее при нужде и сам бы ел… Так у них кормов, – Фрол поднял руку выше головы, – завались!
Седых говорил увлекательно, собрание слушало его «во все уши».
– А мы каждый год, – бородатое лицо Фрола болезненно скривилось, – с марта свистим в кулак: роняем скотину. И захудает она у нас, сердешная, так, что половину лета только свое потерянное тело набирает. Совхозовцы берут от своей коровы-барыни – на середыш – двадцать пять – тридцать центнеров молока за год, а мы от нашей захлюстанной бедолаги – двенадцать. Это же наглядный факт!
Бородач сел, довольный, что его не прервали, и снова с тем же страстным убеждением заговорил Боголепов:
– С высоты птичьего полета, я буду прямо говорить, сплошная ерунда получается. Партия решениями сентябрьского Пленума поставила задачу об улучшении сельского хозяйства, о достижении скорой зажиточности колхозников, а наши плановики в крае и в районе решили всюду одинаково увеличивать посевные площади. Я прямо скажу: ничего не понимают в деле такие горе-плановики. С таким «планированием», буду прямо говорить, не будешь богат, а станешь горбат. Мед, молоко, масло, сыр и мясо нам так же нужны, как и хлеб… Увеличивайте, товарищи плановики, посевы на равнинах, а мы в горах будем развивать скотоводство и увеличивать пасеки. С медом, с мясом, с сыром и хлеба человеку меньше потребуется.
За кого считают нас эти канцеляристы? За детей? Почему они связывают нам руки в делах, в которых мы заинтересованы кровно? А им во что бы то ни стало сей, а что получишь от жилетки рукава – это их не касается. Если же себестоимость одного пуда хлеба, при нашей дьявольской уборке, буду прямо говорить, мы вгоним в непосильную денежку, а из-за этого недодадим государству сотни центнеров меда и масла, мы ни сельского хозяйства не поднимем, ни скорой зажиточности колхозника не добьемся!
Что стране нужен хлеб – это верно, но пора же, наконец, понять, что и не просто хлеб, не любой ценой, а дешевый!..
– Правильно!
– В самую точку! – закричали со всех сторон колхозники. А женщины вскочили с мест и начали так дружно аплодировать, что даже и могучего боголеповского баса стало неслышно.
Андрей невольно взглянул на жену Боголепова. От переполнявшей ее любви, от счастья за мужа из больших печальных ее глаз катились слезы, а полные нежные губы что-то шептали.
Окончив доклад, Боголепов сел рядом с Леонтьевым, вытер платком раскрасневшееся лицо и откинул со лба взмокшие черные кудри.
Первой попросила слова лучшая доярка колхоза Анна Михайловна Заплаткина. На трибуну вышла худенькая, скуластая женщина в ватнике, повязанная серой шалью. Большими темными руками она поправила шаль и робко улыбнулась собранию. Потом сняла шаль и положила ее на трибуну.
– Жарко будет, – объяснила она, волнуясь и не зная, очевидно, с чего начать.
Притихшее собрание следило за каждым ее движением. Анна Михайловна открыла рот, но слова потерялись. Она сделала глотательное движение. Многие дружески заулыбались ей. Все отлично понимали, как непривычно и трудно говорить с трибуны простой женщине.
– Ей легче сотню коров передоить, – сказал кто-то негромко.
– И вот, товарищи, – сдавленным голосом начала, наконец, Заплаткина, – я так думаю: уж если сказывать, так только чистую правду. Я никогда перед народом речей не говорила, а вот сегодня решилась. Константин Садокович не побоялся выложить правду в глаза районному начальству: что нас держит в бедности, что мешает работать, особенно после слияния… – Заплаткина облизнула сухие, рано выцветшие губы. – А какой же колхозник не мечтает? И вот я тоже мечтаю…
Анна Михайловна взяла шаль с трибуны и, помяв ее, снова положила. Она думала, как лучше выразить необыкновенно важную мысль, пыталась найти какие-то особенные слова и не нашла.
– А сильно еще тоже мешает зажиточной справности колхозников распроклятая наша пьянка. Посудите сами: запили вы нынче, Мефодий Евтихиевич, – Заплаткина повернулась к президиуму и в упор уставилась на побледневшего вдруг заместителя председателя, – с вечера пятого ноября. Так ведь, Мефодий Евтихиевич?
– Не знаю, тебе видней, с какого ты числа запила. Меня никто никогда не видел пьяным! – отрезал Колупаев.
– В том-то и дело, что ты и пьешь скрытно, как монах. Это верно, тебя никто не видел пьяным, кроме меня. Но я-то, твоя соседка, знаю, что и в этом году и в прошлом, когда Константин Садокович был в заочном техникуме, ты самовольно хозяйничал, пьешь вмертвую у себя дома, а через закадычного своего дружка, беспутного Кузьку Кривоносика, спаиваешь кого тебе надо для обделки разных дел…
– Это клевета! Это что же такое?! – исступленно закричал Колупаев, но его остановил председательствующий Костромин:
– Не мешай, Мефодий Евтихиевич. Мы и тебе дадим слово.
– Какая уж тут клевета, когда я тебя самолично не один раз чуть тепленького со двора в избу затаскивала.
Анна Михайловна вновь взяла шаль в большие темные руки, подержала и опять положила на трибуну.
– Так вот, запили вы, значит, пятого. Приходим с зоотехничкой Надеждой Васильевной, – вот она здесь, не даст соврать, – приходим на ферму: никого! И давай мы вдвоем с ней и корма возить, и скот кормить, и поить, и доить… И так до десятого! А вы подумайте, раздорогие товарищи, каково скотинке шесть дней без хозяев! И главное – каких дней! Скотина только что с пастбища, а дворы без крыш, корма не подвезены, дороги – ни на санях, ни на телеге… Коровушки голодные, злые, порются. И вот выголодается, вымерзнет скот за неустроенное это время, и весь летний нагул собакам под хвост. Настанет март, и коровы будут шататься, как пьяные, и падать, и мы их будем на веревки подвешивать…
Анна Михайловна выкинула свои темные узловатые руки.
– Вот они, мозоли от проклятых этих веревок! Закостенели! Сами подумайте: лежало у нас нонче весной двадцать пять коров. Корова не овца: ну-ка, понадувайся, поподнимай их! Поднимешь, подвесишь на веревках к матицам – они стоят, едят; наедятся – и снова похилятся на бок. За утро наподнимаешься, к полудню разогнуться не можешь… Так ли я говорю, бабочки?
– Так! В точности так.
– А раз так, то таких руководителей, как запивошка Мефодий Евтихиевич и близко к колхозному управлению допускать нельзя! Вот это я и хотела сказать.
Дрожащими руками Анна Михайловна долго не могла накинуть на голову шаль, а накинув, повернулась лицом к бледному, с посиневшими губами Колупаеву и сказала:
– Хоть ты и ловко хоронишь концы, да от народа не скроешься. Не нами сказано, Мефодий Евтихиевич: неправдой свет пройдешь, да домой не воротишься. – И пошла с трибуны.
Казалось, ветер ворвался в рощу, качнул высокие деревья: зашумели, закачались они.
– Ай да Анна Михайловна!
– Как она его измочалила!
– А что, на самом-то деле, наглядный же факт! Он хочет и с неба упасть, и на дыбки встать! Знаем мы его: он вечно исподтишка клинья вбивает. Плут, наглядный факт!
Андрей различал отдельные голоса и радовался посрамлению Колупаева. Он больше не сомневался, что это Колупаев оклеветал Боголепова.
Мефодий Евтихиевич внешне казался совершенно спокойным. Выдавали его только тонкая длинная шея и хрящеватые уши: они налились кровью, как петушиный гребень. Должно быть, Колупаев знал за собой эту особенность и потому отвернул воротник поддевки, как будто ему вдруг зябко стало.
А к трибуне уже шла грузная, сутулая, немолодая, решительного вида женщина.
– Настасья Тихоновна… – вполголоса заговорили кругом. – Калабушиха… Ну, эта сейчас беспременно что-нибудь про свиней отмочит!
– И отмочу! – сказала Настасья Тихоновна Калабухова, утвердившись на трибуне и оглядывая собравшихся веселыми проницательными глазами.
Все тот же сосед по скамье склонился к Андрею.
– Горя перевидела на своем веку эта женщина – на десятерых хватило бы… А веселая! И в партизанах была. В двадцатых годах они с мужем первые вошли в коммуну. Пахали с винтовкой за плечами. Убили Игната белобандиты как раз под пасху, и осталась она с четырьмя сынами. Всех подняла, а в первый год Отечественной двух старшаков в одну неделю потеряла, танкистами были. Никто не видел слез у Калабушихи. Только сгорбилась, а все еще, видите, какая могутная… А уж хозяйка! А свиней любит!.. Она у нас фермой заведует…
Заговорила Настасья Тихоновна громко, весело, слова произносила с расстановкой, точно один к одному речные голыши укладывала.
– Кто-то распустил слух, будто нашего Константина Садоковича хотят сместить и на его место – Колупаева. Кому только в ум такое взбрело? Если нам поставят преподобного Евтихиевича, тогда, бабочки, и свиньи мои захохочут… – И Калабухова первая засмеялась своей шутке. – Да ведь он куда ни приходил до этого, так всюду раздор пустил. У него, как тут говорил Наглядный факт, чесотка на языке: он не может терпеть, когда люди дружно живут. Ему обязательно надо клин вбить, смуту пустить. Евтихьич как мизгирь – из себя нитку тянет, клевету разную… А так как я была при его председательстве свинаркой, то скажу, что у нас тогда было. Не свиньи, а борзые собаки! С ними только на охоту ездить, лисиц травить. Поросят они рожали по одному, по два, и тех съедали. Ну, сами посудите, как ей, длиннорылой свинье, справной быть, раз она этим рылом траву скусывать не может?.. А кто купил на приплод борзых свиней? Колупаев! А Константин Садокович первым долгом тупорылых свинок завел. И стали они нам по двенадцать, по одиннадцать и восемь десятых поросенка на свиноматку давать.
Калабухова повернулась к Андрею Корневу.
– Теперь метеесовскому главному агроному тоже выложу правду-матку… Одно горе нам с такой «механизацией»…
Андрей покраснел, но не отвел глаза от строгого лица Калабушихи.
– Горе горькое нам с подобной нашей метеес: никакого облегченья от нее в заготовке кормов. На равнинах, сказывают, все машинами; даже по целой копне зараз на стог поднимают. Мы же на плечи, на руки, на деревянные вилы наговариваем. Скажите там этим городским ученым: пусть они к нам в покос хоть на один жаркий денек под стоговые вилы в сеноуборку припожалуют, тогда узнают, на чем свинья хвост носит. Вот и все мое слово! Понимайте, как хотите. – И с чувством исполненного долга, тяжело ступая, она не спеша пошла с трибуны.
Колупаев беспокойно заозирался, ища союзников, но они точно провалились. Даже всегдашний непременный оратор, дедок Костромин, припасший, как было известно Колупаеву, «камень за пазухой» для Боголепова, не только не подавал едких реплик и не просил слова, а спрятался так добросовестно, что его и не отыскать.
А в зале уже смеялись и кричали:
– Подколупнула Колупая Калабушиха!
– Пусть теперь Колупай почухается!
О, как понимал эти насмешки Мефодий Евтихиевич! Больше он уже не мог выдержать и поднял руку.
– Слово Мефодию Евтихиевичу, – объявил председатель, и в помещении разом стало тихо.
В окна с мягким дробным стуком билась снежная крупа. На улице разыгрывалась очередная пурга.
– Выходит, виноват во всем один Колупаев! – тонким голосом заговорил Мефодий Евтихиевич. – Выходит, скот малоудойный – виноват Колупаев, кормов недостача – виноват Колупаев, свиньи захудали – Колупаев…
– Да, ты, шкура, ты! – перекрывая фальцет Колупаева, тоже пронзительно-тонким голосом закричал неизвестно откуда появившийся вблизи трибуны маленький мужичишка с опухшим от пьянства лицом, с вывалянными в птичьем пуху нечесаными волосами.
Незабываемое лицо было у этого колхозника. Андрей смотрел на него, как на сказочного Карлу. Самым же примечательным в лице этого Карлы был нос – крошечный, круглый и совершенно красный, похожий на редиску.
– Кто это? – спросил Андрей своего соседа.
– Счетовод Кривоносов. Бобыль безродный, пьяница, но в счетном деле собаку съел.
Кривоносов был одет в затёртый до глянца коротенький полушубок и в не по росту большие растоптанные валенки.
Изъяснялся он какими-то донельзя изуродованными словами, казалось. Кривоносов и не произносил их, а они самосильно вылетали из его огромного рта.
– И ты лучше смывайся с дебета! – кричал он Колупаеву. – Тебя давно надо списать в расход, потому что ты распроарчибил египетский! Ты липовые сводки о кормозаготовках принуждал меня! И ты людей против председателя наканифоливал. Незамедлительно испаряйся, а не то я такие преступно-уголовные твои фуговки расконспирую, что все ахнут. И сам очищу баланс!
Кривоносов выкрикивал устрашительные слова так громко, рот его был раскрыт так грозно; что Колупаев, стоя на трибуне, онемел. Всего ожидал он, но только не предательства со стороны твоего закадычного дружка.
– И ты разинкассируйся, исчезни! Я хоть маленько и приверженный к спирто-водочному тресту; но еще не пропил совесть. Нет, не пропил! И я в последний раз предъявляю тебе окончательный счет: ух-хо-о-ди!
Маленький, взъерошенный, полупьяный счетовод; ринулся с кулаками на онемевшего Колупаева.
Только что решивший «драться до последней капли крови», приготовивший убедительное опровержение Заплаткиной и Калабушихе, готовый от обороны перейти к наступлению, Мефодий Евтихиевич при словах Кривоносова откровенно испугался: «Он может! В горячности все может!» На голом черепе Колупаева росинками проступил пот. Он стал пятиться от разъяренного счетовода.
Поднялся смех. Женщины схватили Кривоносова за руки и посадили на скамью.
– Продолжайте, Мефодий Евтихиевич! – предложил председатель.
Но Колупаев с оскорбленным видом нахлобучил шапку и медленно пошел к выходу. Перед ним расступались.
Он шел, не глядя ни на кого, запнулся о чью-то подставленную ногу и чуть не упал.
– Держись за землю! Находку – пополам!
Обвальный хохот, как освежающий гром, прокатился по переполненному помещению. Когда же дверь за Колупаевым закрылась, кто-то крикнул:
– Духота! Перерваться бы!
– Переры-ыв!.. Перерыв!
Во время перерыва Леонтьев подошел к Андрею. По лицу секретаря райкома было видно, что он доволен ходом собрания.
– Ну, а ваше мнение, Андрей Никодимович, по вопросу, всплывшему совершенно неожиданно?
– Вы это об основном направлении хозяйства ждановцев? – радостно встрепенувшись, подался Андрей к Леонтьеву.
Василий Николаевич, смеясь, положил руку на плечо молодого агронома.
– Пока не надо… Давайте-ка лучше я познакомлю вас с Боголеповым. По всей вероятности, вам с ним близко работать придется… Константин Садокович! – крикнул он Боголепову, стоявшему с Рябошапкой и Костроминым.
Боголепов в два шага очутился рядом с Леонтьевым.
– Познакомьтесь, Константин Садокович: главный агроном МТС Андрей Никодимович Корнев, рьяный ваш сторонник в вопросах животноводства и… вообще, – устремив хитровато-улыбающиеся глаза на Андрея, отрекомендовал его секретарь.
Андрей с удовольствием протянул руку, показавшуюся ему вдруг такой маленькой по сравнению с боголеповской. Он с нескрываемым восхищением смотрел на геркулеса: юношеское преклонение перед физической силой еще прочно властвовало над душой Андрея.
Боголепов бережно взял руку молодого агронома, как подушкой накрыл ее сверху левой рукой и обласкал его и дружеским касанием рук и взглядом черных глаз.