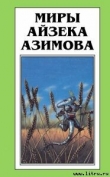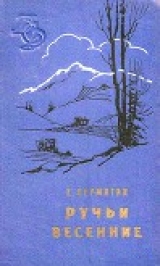
Текст книги "Ручьи весенние"
Автор книги: Ефим Пермитин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 24 страниц)
Глава тринадцатая
«Косовица!» Слово это мечтательнице Груне Ворониной напоминало почему-то «сечу». Большую сечу, в которой она, Груня, выйдет на решающую битву.
В канун косовицы плохо спали девушки бригады Маши Филяновой. Выверенные, приспособленные для круглосуточной работы даже на полеглых хлебах машины, стояли на стогектарке наспевшего овса. Размеченные поровну загонки, отведенные для групповой работы четырех комбайнов, обкошены и осмотрены председателем, Лойко, Машей Филяновой и комбайнерками. На концах каждой загонки далеко видный над белесыми метелками овса красный флажок.
Груня лежала с закрытыми глазами и ясно видела, как трактористка включает скорость, как первые удары лопастей мотовила по высокому, кудрявому, чуть зеленоватому овсу пригнут первые колосья, как застрекочет нож и загрохочет молотилка комбайна.
С вечера Груня вплотную придвинула свою койку к койке Поли Цедейко. И хотя Маша Филянова запретила разговоры («чтобы все хорошенько выспались и были в форме»), Груня шепнула подруге:
– Хоть глаза коли, не могу уснуть. Ты уж, Полюха, постарайся завтра, а?
– Спи… – негромко ответила Поля и отвернулась к стене.
Груня слышала, как повариха Половикова начала растапливать печь – уже готовила завтрак. «Помочь бы ей, да Маша со света сживет…»
Чтобы отвлечься, Груня пробовала думать о Саше, но сегодня даже и на нем мысли не могли сосредоточиться. Тишина. Слышно, как на столике Маши тикал будильник да за полотняными стенами палатки немолчно скрипели кузнечики.
«После вчерашнего дождя утром роса будет, не стало бы накручивать на битер… Хорошо бы ветерок качнул хлеба перед утром…» Груня еще плотнее закрыла глаза и, чтобы утомиться, стала считать до ста. Но и это не помогало.
«А вдруг шоферы проспят? У меня полный бункер, даю сигнал, а грузовика нет… Ужас!»
Разбудил звонок будильника в ту самую минуту, когда, казалось, сон только-только смежил ей веки.
В полутьме в палатке, как по тревоге, Груня безошибочно хватала приготовленную с вечера одежду. К умывальнику поспела первой. Ей первой Катя налила миску пахучей лапши со свежей жирной бараниной. Но, как ни вкусна была лапша, Груня вернула миску почти нетронутой, – торопилась. Ей была непонятна медлительность подруг и особенно бригадира. «Фасонят… А у самих сердечко тоже прыгает…»
Наконец завтрак кончился. Маша окинула девушек взглядом и поднялась.
Восток розовел. Густой пахучий ветерок тянул с юга. Было в нем и августовское тепло наспевающих хлебов, и горечь полыни, и родниковая свежесть мятной душицы, и еще что-то волнующее с детства, вечное, как земля.
– Девушки! – негромко, с хрипотцой, точно простуженная, произнесла Маша. – Говорить мне вам нечего… Дождались! Будем начинать… По машинам!
И вот Груня Воронина поднялась на мостик и положила руки на штурвал. Трактористка включила скорость, махина комбайн качнулся и пошел. Качнулась и загонка. Лопасти мотовила закрутились, подминая первые волны бегущего навстречу ножам овса. Срезанный, он навзничь падает на движущееся полотно и, увлеченный им, уносится под штифты барабана. Ухо тотчас же уловило изменившийся, точно загустевший, рабочий ритм комбайна.
Груня уже не видела ни зарозовевшей от зари загонки, ни самой зари. Она, казалось, срослась с огромной машиной. Девушка напряженно следила за тем, как по полотну хедера бежит срезанный овес и скрывается в приемной камере. Она, не оборачиваясь, спиной ощущала, как бункер наполнялся зерном. «Пора? Нет, рано… Пора? Пора!».
Груня обернулась и тотчас же дала длинный позывной сигнал. «Так я и знала: нет!» Но навстречу комбайну уже катилась грузовая машина, и у девушки отлегло от сердца.
Трактористка сбавила скорость, шофер, развернувшись, подогнал кузов точно под выгрузной шнек. Быстрым взглядом Груня схватила эту величественную картину: толстая струя золотого в лучах утреннего солнца зерна хлынула в кузов. Покачиваясь, точно на волнах, комбайн сановито плыл по хлебному морю, а рядом с ним, будто пришитый к шнеку, катился и наполнялся искристыми брызгами овса грузовик.
Густой, высокий, местами наклонившийся, местами упавший овес поразил Груню умолотом: бункер наполнялся до краев каждые тринадцать-четырнадцать минут. Как будто машина черпала зерно из вороха.
В жизни каждого человека бывают незабываемые мгновенья, когда все, все до мельчайших подробностей врезается в память и бережно сохраняется ею до конца дней.
Так запомнился Груне ее первый приход в большой, сплошь застекленный заводской цех. Грохот, звон, басовитый гуд, заполнившие все. Синий, густой, сладковато-маслянистый воздух, и в нем, как в дыму, ажурные краны, виадуки. Вдоль стен станки, станки, а у станков люди в комбинезонах… На пороге большого цеха – беспомощно-жалкая в скрежещущем железном аду – маленькая Груня Воронина.
И вот теперь – сыплющееся толстою золотой струей зерно и плывущий по безбрежному океану колышущихся хлебов комбайн рядом с бегущим грузовиком. А на мостике за штурвалом – она, Груня, управляет послушной, умной машиной…
Еще так недавно недоступная горожанке Груне Ворониной радость земледельца при виде переливаемого с загонки в грузовики богатства с такой силой охватила ее и такой увлекательно-поэтичной показалась ей новая профессия, что хотелось как-то выразить эту радость, поделиться ею с Сашей, с девушками, написать своим прежним друзьям, заводским комсомольцам… Груня крепче сжала штурвал и расширенными, увлажненными глазами смотрела на мотовило, на мелькающий нож, который валил все новые и новые волны овса, исчезающие в ненасытной, гулкой пасти машины.
«Как хорошо! И это на всю жизнь! На всю жизнь!»
Груня не думала и не могла думать о том, что вместе с нею, вчерашней горожанкой, тысячи таких же, как она, вставших за штурвалы комбайнов, переходили на положение сельскохозяйственных рабочих, что отныне они связывают свою судьбу не с заводом и городом, а с землей, с новой деревней. Груня ощущала только, как ей хорошо, и понимала, что это на всю жизнь.
Полоса, как казалось Груне, на глазах уменьшалась. «Так пойдет – перевыполню!» Она видела, как с каждым кругом словно вырастал из массива овса трепещущий на ветру красный флажок. «Мой! Будет мой!».
Она не знала, сколько времени работает, не чувствовала ни усталости, ни голода. Легкость во всем теле такая, что, казалось, прыгни с мостика – и полетишь, как чайка, над этим зыбким хлебным морем в синюю даль, где ее ждет Саша…
Комбайн отбивал ритмическую, ликующую гамму, свитую из шумов срезанного ножами овса, шорохов на полотне соломы, из стука решетных станов, гула молотильного барабана, из рокота моторов. Сложная, слаженная симфония эта не только не мешала Груне думать а, наоборот, настраивала на самые увлекательные мечты.
«А что, если с первого дня я вырвусь вперед? Ведь изучила же я машину как свои пять пальцев!» Груня с опаской взглянула на далекий соседний массив, где работала спокойная, неторопливая, но упорная Валя Пестрова, так же как и она, впервые вставшая ныне к штурвалу.
Комбайн Вали, идущий, как было договорено, на первой скорости трактора, почему-то показался Груне плывущим много быстрее, чем ее, Грунин, и загонка уменьшилась значительно больше, чем у нее. «Обходит! Обходит Валька!».
Ликующее настроение Груни сменилось тревогой. Ей показалось, что она, осторожничая, косит чересчур долго, на половину хедера и на замедленных оборотах. «Пора увеличить и захват и скорость…» Увеличила Ритм машины остался тем же, но, казалось, заурчала она еще сытней, довольней. «Давно бы так: не отстала бы от Вальки!»
Неожиданно в высоких, густых овсах вывернулась площадка с полеглым и каким-то особенно завихренным хлебом. Груня только что хотела уменьшить захват и перейти на первую передачу, как в привычный ритм машины, подобно грому в ясном небе, ворвался треск. Еще не понимая, в чем дело, она дала тревожный сигнал, и агрегат замер. Груня сбежала с мостика. Навстречу ей – трактористка и девушка с копнителя.
– Что случилось?!
– Еще не знаю, – стараясь говорить спокойно, ответила Груня и поспешно стала осматривать комбайн.
К агрегату с тяжелой сумкой запасных деталей уже мчалась на мотоцикле Маша Филянова, а с соседней загонки бежала опытная комбайнерка Фрося Совкина.
«Полетевшую» цепь Груня нашла у переднего колеса и там же нашла расколотую звездочку транспортера.
– Вот… – дрожащими губами выговорила Груня обращаясь к Маше.
– Так что же ты стоишь, деваха? – спокойным и как бы даже шутливым тоном спросила Филянова.
Фрося Совкина тоже с деланным равнодушием сказала:
– Ну, Груня, дело это, как говорится, грошовое…
С заменой цепи и звездочки провозились, как показалось Груне, очень долго. Наконец вместе с Фросей они поднялись на штурвальный мостик, а Маша, оседлав мотоцикл, умчалась на стан.
– Овес – стена. Как метелка – так горсть. К вечеру отволгнет, и шнеки забиваться будут. На завихреньях обязательно переводи на первую передачу, слышишь? – наклонившись к самому уху Груни, советовала Совкина.
Груня ничего не ответила, она нервничала. «Это Маша контроль поставила… Не доверяет…» Груня уже убавила и обороты и ширину захвата, во все глаза следила за прокосом и вела машину с таким напряжением, с каким не умеющий плавать одинокий путник переходит незнакомую ему реку. В ушах стоял звон, сердце билось громко и часто.
Фрося, понимая состояние Груни, вскоре покинула ее комбайн. А та, напуганная аварией, косила теперь на уменьшенном захвате даже по чистому стоялому овсу. Груня чувствовала, что уже далеко отстала от подруг и что они вот-вот кончат и уедут на другую загонку, а она останется здесь и с первого дня косовицы будет тянуться в хвосте.
«До утра проработаю: сдохну, а докошу!» – упрямо твердила она себе. От нервного ли напряжения или от непривычки, но руки, ноги, спина так гудели, словно проработала она, не сходя с мостика, несколько смен подряд.
А заветный красный флажок все еще был далеко. Да и куда теперь ей до флажка!..
Солнце село, и от овса потянуло свежестью. Девушки заканчивали свои загонки. Груня видела, как Валя Пестрова сбежала с мостика, и у ее штурвала затрепетал красный флажок.
«Счастливая! Сейчас повернет на дальний массив и до шабаша объедет еще круга два».
Стало быстро темнеть. Из нависшей тучи начал накрапывать дождь. «Этого еще недоставало!» – сердито проворчала Груня и включила свет. Включила свет и Поля на тракторе. Задняя фара бросала яркий сноп зыбкого света на хедер, на мотовило и на гриву радужно сверкающего намокшего овса.
Скошенный мокрый овес густыми, плотными валиками забивал горловину, заклинивался между штифтами молотильного аппарата. По изменившемуся рокоту машины Груня поняла все и снова дала короткий аварийный сигнал. Ей так хотелось, чтобы этого нового сигнала не услышал никто, кроме трактористки! Сбежав по лесенке и направив подачу, со стремительностью белки Груня взлетела обратно на мостик, и агрегат опять тронулся. В этот – момент она и увидела идущие с ярким светом на ее загонку комбайны Вали Пестровой и Маруси Ровных. «На выручку! Милые, какие же они милые!» – зашептала Груня. Горячий клубок подступил к горлу. Она крепилась, но слезы против воли текли и текли по пропыленному, черному ее лицу.
В колхозе «Красный урожай» на все лады обсуждали случай с «выбеженцем» братом Никанора Фунтикова плутоватым Елизаркой и его женой Фенькой-ворожейкой.
Недобрая гуляла слава о супругах Фунтиковых.
– Дальше от Фени – греха мене. Она своими картами да бобами не одну уж на бобах оставила, – говорили односельчане.
– Легкачи! Всю жизнь кнуты вьют да собак бьют.
Два года тому назад заколотили Фунтиковы избу в селе И ушли (или, как тут говорят «выбежали») из колхоза в город. Елизарка устроился дворником в Барнауле, Фенька занялась цыганским ремеслом – гаданьем. Жили они в каком-то полуподвале и прожились, «прогадались». Узнав из газет о необыкновенном урожае в родных местах и о том, что члены артели, из которой они вышли, получили авансом по два кило пшеницы и по пять рублей деньгами на трудодень, супруги Фунтиковы явились на родное пепелище.
Елизарка такой же рябой и рыжий, как его брат Никанор, только не по-деревенски рано облысевший. («Конишка гнед, а шерсти на нем нет», – говорил о Елизарке старик Беркутов). Одела Фенька своего супруга в праздничный пиджачок, подвязала ему галстук, сунула в карман поллитровку, перекрестила:
– Иди, Елизарушка, поклонись, – с поклону голова не заболит, и все, как я обсказывала: рвись к зерну – сыты будем. – А сама с поллитровкой же – к бригадиру Кургабкину.
Дело было вечером. Председатель колхоза Высоких только что вернулся с поля. Встреча, как рассказал о ней старик Беркутов Уточкину, произошла в таком виде.
– Здрасьте, Максим Васильич! – сказал, лебезя, Елизар председателю. – Натурально, такой резонт, к вам, можно сказать, до вашей милости… – И из кармана на стол пол-литра. – Братуха Никанор писал – с хлебушком не справляетесь. Вот мы с Феней, такой резонт, и пожалковали за родной колхоз, взяло нас за сердце: помочь надо!
Максим Васильич молчит, а сам красным глазом на пол-литра косится. Елизарка, конечно, это заметил и – раз под донышко, пробка в потолок, а председательша соленые огурцы на стол. Ну и заговорили!
Ушел Елизарка от председателя обнадеженный – в кладовщики выпросился. А кладовщик, по-старинному, приказчик. А уж этот приказчик – гривну в ящик, а рупь в карман.
– Вот и вникните, Тимофей Павлович, – жаловался Беркутов Уточкину. – Прибежали в колхоз из города – это хорошо, а что плута в кладовку колхозную пустили – плохо. Этих Фунтиковых надо бы теперь во весь гуж запрягать, а председатель их, плутов, к народному добру припустил.
Уточкин выслушал старика и спросил:
– Так, значит, «выбеженцы» обратно в колхоз собираются?
– Начинают собираться, Тимофей Павлович. Учуяли улучшение, назад потянулись. Как говорится, тому виднее, у кого нос длиннее. Только и вы, товарищ секретарь райкома, политику поддержите: к кладовой Фунтиковых и близко не допущайте.
– Политику, Агафон Микулович, поддержим. Самое главное то, что «выбеженцы» домой возвращаются. Вернулись плохие, вернутся и добрые.
Глава четырнадцатая
Рдели бронзовые закаты. Утренниками на несжатых хлебах серебрился иней. Ночами полная луна плавала в холодном звездном небе. Близилась зима. Тревожно ревели комбайны, надрывно гудели грузовики, содрогались горы. Горько и остро – полынью и хлебной пылью – пахли пронизывающие ветры. Дыхание зимы умыло зеленя всходов, нарумянило осины, зазолотило березы.
Андрей был в колхозе «Путь Ленина», когда его вызвал к телефону Боголепов.
– Андрей Николаевич, сегодня собираемся вручать переходящее Красное знамя бригаде Маши Филяновой. Первыми в районе закончили косовицу и сдачу хлеба. Уточкин, буду прямо говорить, запарился в отстающих колхозах. Пожалуйста, приезжай! Леонтьев звонил, обещал быть на торжестве с женой… А я, видать, опоздаю, так что без меня начинайте. Подскачу уж к танцам, к песням. Прямо скажу, поплясать – ноги зудят… – И, как бы оправдываясь за предполагаемое опоздание к торжеству, Боголепов добавил: – Хочется привезти девчонкам два подарка. Да, не забудь, передай благодарность Павлу Анатольевичу Лойко. Скажи, что на его механизированный ток, как на выставку, будем посылать экскурсии.
И вот Андрей вновь в угодьях «Костанжогло».
Он ехал обширными пойменными лугами, скошенными и убранными так чисто, со скирдами, так хорошо заметенными, огороженными и окопанными, что уже по одному этому можно было судить о заботливой хозяйской руке.
«И МТС одна и машины те же, а другой руководитель, и вот результат», – думал Андрей.
Дул северо-западный ветер; по небу плыли белые и черные тучи. Холодом веяло от них. Под тучами, испестрив небо, с тревожным криком шли косяки отлетной птицы. Обгоняя всех, со свистом неслись чирки, расчерчивая горизонт четким пунктиром; выше их широким рассыпным строем шла зажиревшая кряква. Сухой треск крыльев и немолчное кряканье еле улавливались с земли. Длинными, как распущенные по небу плетеные вожжи, изгибающимися клиньями валила казара, а вверху, под самыми тучами, словно серебряные слитки, с нежными перезвонами вымахивали табуны лебедей. Андрей остановил коня у перелеска и смотрел на переполненное движением живое небо. Ехавший в луга на незаседланной кобыле в охлюпку русоволосый парень, поравнявшись с Андреем, сказал:
– Мяса-то, мяса-то летит, батюшки! Навести бы орудию и хряснуть сразу по всем, вот бы наварил каши!
Андрей с удивлением посмотрел на парня и ничего не сказал. Взволнованную величавым потоком отлетной птицы охотничью его душу ранили слова парня. Очарование пропало. С тоской Андрей взглянул на оголенные плечи рощи. С вершины тополя сорвался дряблый, отживший лист и тихо упал: вернулся в землю.
Агроном тронул коня. «Лебедь пошел, а уж лебеди, как говорит дед, всегда на крыльях зиму несут. Теперь нельзя терять ни часа…» И им снова завладели привычные мысли о спасении урожая, о покончивших с уборкой колхозах и бригадах, о хозяйственном Лойко. Вспомнил, как целинник Аристарх Златников, приехавший на Алтай с одного из крупнейших московских заводов, где он был руководителем хора самодеятельности, заявил Андрею, что возвращается в Москву. Этого высокого, узкоплечего, с бледным лицом, длинноволосого парня, всегда кутавшего в шарф длинную шею, Андрей раза два или три видел прежде в колхозе «Путь Ленина».
– Хватит! – сказал Златников трагическим тоном. – Отдал дань романтической глупости, наломал спину на току под кулями. Ни обещанных клубов, ни художественной самодеятельности…
Андрей пробовал урезонить его: «Клуб начали строить, построим и самодеятельность организуем…»
Но Златников и слушать не стал. Андрей понял: толку из него не будет.
– Уезжайте – хлюпики на целине не нужны. Здесь место только сильным! – разгорячился Андрей.
Златников стал оправдываться:
– Я не тракторист, не комбайнер, не агроном, которым все равно где работать. Наконец, я и не бездарная, неуклюжая девчонка, энтузиазмом мечтающая поймать себе жениха, как ваша пресловутая Грунька Воронина…
Андрей физически страдал, слушая этого прощелыгу. А когда тот оскорбительно заговорил о Груне, не выдержал и закричал:
– Убирайся, мерзавец, или я тебе бока намну!
«Конечно, было глупо так горячиться, – думал Андрей. – Ужасно глупо! Главный агроном, секретарь комсомольского комитета и – истерика! Стыд! Разве Уточкин унизился бы до такой горячности? Ни за что!»
Андрей ехал шагом. Ему не хотелось спешить: уж больно хорошо думалось в этот пасмурный день в угодьях колхоза-миллионера о будущем тех колхозов, которые пока еще были бедными.
Все радовало его здесь: и широкая равнина и укатанная после дождей до глянца дорога с телефонными столбами, убегающими к горизонту. «Святая истина: о колхозе можно судить по подъездным путям к нему…»
Колхоз «Знамя коммунизма» показался издалека. Только Андрей поднялся на увал, и перед ним открылось большое село Отрадное со знаменитыми на весь район березовыми рощами и светлыми рыбными прудами.
Андрей знал, что у Лойко и фруктовый сад, и пасека, и птицеферма, и пилорама, и маслобойный и кирпичный заводы. Скотоводческие фермы, выметнувшиеся на окраину села, обозначились силосными башнями и скирдами уже свезенного на зиму сена.
Направо и налево от тракта шло жнивье. Густое, колкое, такое ровное и чистое, что самый придирчивый глаз не мог бы обнаружить ни оставленных комбайнами на заворотах кулижин, ни неубранных копен соломы, ни зияющих плешин от весенних просевов – всего того, что давно стало во многих колхозах признаком безрукости, бесхозяйственности, на которую все махнули рукой: «Где пьют, там и льют», «Лес рубят – щепки летят».
Размышления Андрея были прерваны донесшимся откуда-то с полей многоголосым гоготаньем. Приподнявшись на стременах, в полукилометре, на сухом золотистом жнивнике, Андрей увидел дымчатое стадо гусей. «На кормежку опустились», – подумал было он, но в ту же минуту в центре стада разглядел женщину с хворостиной. «Колхозные! С птицефермы, по жнивью пасут…»
Ближе к дороге, на бровке неглубокого оврага, тоже на жнивье, паслись куры. Точно хлопья снега, они усыпали большое пространство поля. «И куры на жнивнике! Да как же они доставляют их сюда с фермы? Неужто гоном?»
Андрей решительно направил коня к оврагу.
Нет, право, этот пасмурный холодный день выдался на редкость радостным!
…Из просторного домика на колесах, покрытого легкой дранкой, выпрыгнул заведующий птицефермой Ксенофонт Дмитриевич Дроздов. Высокий, тонкий, лет тридцати пяти, с быстрыми черными глазами, с удлиненным лицом, он был удивительно подвижным. Казалось, Дроздов не мог и секунды оставаться в спокойном состоянии. Зоркие глаза его одновременно и наблюдали за пасущимися по жнивью курами и за воздухом (нет ли там ястреба?) и рассматривали Андрея, а ловкие загорелые руки все время обстругивали ножом какую-то дощечку. Он и наблюдал, и работал, и говорил в одно и то же время.
– Лошадку, товарищ главный агроном, вот за эту скобку привяжите. А вы, – он обернулся на свое левое плечо, на которое только что взлетели две белые курицы, – вы отправляйтесь на попас. Нечего вам тут… – и осторожно ссадил кур на землю. – Это мои ударницы, – пояснил он Андрею. – Им еще и полгода нет, а уже кладку начали. И яйца по шестьдесят-семьдесят граммов.
Через пять минут Андрей уже знал, что Ксенофонт Дмитриевич окончил птицеводческий факультет в Казани, что Лойко переманил его из соседнего совхоза…
– Вцепился в меня, как бульдог. «Птица, – говорит, – при излишке у нас всяких отходов да при прудах наших – несметный капитал! А я, – говорит, – не могу спать спокойно, если вижу, что где-то чего-то колхоз недобирает. Мне, – говорит, – хочется, чтобы все волчком крутилось…» Ну, вижу, человек трезвый, умный, не нашим пустомелям чета, согласился. И не жалею.
У ног Ксенофонта Дмитриевича появилась крупная белая курица с рубиновыми глазками.
– Это моя старушка, баловница номер тринадцать. Видит, посторонний, – а экскурсанты у нас частенько, – вот и торопится блеснуть своим образованием. А ну, покажи номерочек!
Курица, казалось, только и ждала этой команды: взлетела на протянутую руку к Дроздову. Он взял ее за окольцованную лапку, подержал, угостил конопляным семенем и отпустил.
– Дрессирую по методу Дурова. На редкость способны. У этой вот несушки высшее достижение – двести два яйца за прошлый год. Мы ведем строгий отбор. Куры, несущие меньше пятидесяти штук, убыточны. До меня яйцо колхозу обходилось – поверите! – в тридцать рублей штука. Сейчас – сорок пять копеек. Недооценивают еще многие председатели птицеводство. А ведь это самая скороспелая отрасль животноводства и меньше всего требует капиталовложений. Это такая…
Договорить Дроздову не довелось: истошно закричал петух, залаяла собака, захлопали, зашелестели крылья, и куры снежной бурей со всех сторон понеслись к домику. Это ястреб упал на отбившуюся молодку.
Сторожевой петух подал сигнал бедствия, и остроухая собака – помесь овчарки с лайкой – помчалась к налетчику. Схватка была короткой. Когда Дроздов подбежал к месту происшествия, истемна-серый ястреб-перепелятник конвульсивно перебирал черными когтистыми лапами, а пораненная, перепуганная молодка, распушив крылья, отползла в сторону.
– Молодчага, Тучка! – Дроздов потрепал по спине собаку и всунул ей в пасть кусок сахару.
– И собаку тоже по методу Дурова дрессировали, Ксенофонт Дмитриевич? – спросил Андрей.
– Тоже. Тучка хозяйка на птичнике. Затей драку петухи или гуси – сейчас же растащит их в разные стороны. Ну, кое-чего она и недопонимает: петуха с курицей тоже растаскивает, глупая…
Вернулись к домику. Залив раны помятой молодки йодом, Дроздов посадил ее в лечебное отделение.
– Оправится. На кладке это, конечно, отзовется, а раны заживут.
Дроздов знал «в лицо» любую курицу, безошибочно называл номер каждой и номер «родительницы»; петухов и гусаков различал по голосам.
– Видно, от фамилии у меня мои способности, – пошутил Дроздов. – С детства я до птицы охотник. Бывало, отец ворчит: «Топор под ногами валяется, ты не заметил, а всякую пичугу за версту различишь, сизаря по шелесту крыльев угадаешь».
При воспоминании об отце Дроздов улыбнулся так светло, что строгое, суховатое лицо как-то вдруг обмякло и похорошело.
– Не скрою, и отец любил птицу. Только он больше гусей и индюшек водил: увесистость прельщала. От каждой гусыни приплод – два пуда мяса… Мы тоже начали с гусей. Видели наше стадо?
– Как же! Вначале за диких принял: уж больно далеко от села.
– В нашем колхозе и зернышко не пропадет. Сначала школьники колоски подберут, а вслед за ними куры и гуси. От пастьбы на жнивье – тройная польза: пропащее зерно перегоняется на мясо, на яйца и на пух-перо, уничтожаются сельскохозяйственные вредители, удобряются поля пометом…
Андрей обратил внимание на то, как говорил Дроздов: очень быстро, но каждую фразу произносил отчетливо. И всякое слово к месту. Быстрота в движениях дополнялась быстротой речи. Но ни в движениях, ни в словах не было той бестолковой суетливости, которая характерна для людей легкомысленных. Андрей слышал, что «куриный день» Дроздова нередко начинался с двух часов ночи, что, кроме управления обширным птичьим хозяйством, он успевает вести опыты. И на все у него хватает времени. «Вот откуда у него эта быстрота в движениях и словах!» – думал Андрей.
– А сколько же вас на птицеферме, Ксенофонт Дмитриевич?
– Двое.
– И справляетесь?
– Трудновато, но перемогаемся. Третий невыгоден. Мы ведь с яйца, с птичьей головы, с экономии кормов трудодни получаем. – И снова заговорил об исключительной выгодности птицеводства. – С птицей никакие отходы не пропадают. В прошлом году одну полоску овса у нас градом побило: двадцать процентов зерна на земле очутилось. Пропащее дело! А мы выпустили кур и гусей и до последнего зернышка с земли подобрали. «Птица, – говорит наш председатель Лойко, – все равно, что собака у хорошего хозяина, каждую кроху, каждую косточку на дворе подберет».
От дурного настроения Андрея не осталось и следа.
«Сколько же можно сделать, если всюду подобрать вот таких Дроздовых и Лойко? А какая неотразимая, наглядная агитация – такое хозяйство», – думал он.
Справа вдоль дороги потянулся завороженный осенней тишиной первый в районе фруктовый сад. Утративший былые краски, точно полинявший, полный глубокого покоя, с сладковатыми запахами запревших листьев, широко раскинувшийся на южном склоне гривы, сад по-своему был хорош и поздней осенью. Яблони заботливо укутаны колючим вереском, подсохший золотой лист кое-где еще уцелел и трепетал на ветру. Грустно поцвинькивали в нем синицы да поквохтывали дрозды, перелетая с кроны на крону.
За садом блеснул большой пруд, обсаженный точно погруженными в раздумье ивами вперемежку с тополями и березами. На пруду – колхозная мельница, с ее таким знакомым шумом, с табунами воробьев и голубей, с запахами теплого, только что раздавленного жерновами зерна. А за мельницей – «животноводческий городок» с длинными каменными дворами, построенными на века.
Радостно взволнованному сытым колхозным достатком, Андрею весело было подъезжать к селу Отрадному. И в его памяти всплывало почему-то есенинское:
Каждый труд благослови, удача!
Рыбаку – чтоб с рыбой невода,
Пахарю – чтоб плуг его и кляча
Доставали хлеба на года.
Андрей проехал мимо новенького, построенного этим летом колхозного клуба и, в стороне от центральной площади увидев амбары, повернул к ним. Ему хотелось прежде всего взглянуть на гордость колхоза – крытый механизированный ток с раздвижной крышей.
У въезда, под высокой аркой, – автовесы: все поступающее сюда и увозимое отсюда взвешивается. Территория «зерновой фабрики», как называют свой ток лойковцы, обнесена штакетником. «Чего доброго, паспорт в проходной потребуют!» – с улыбкой подумал Андрей.
У ворот ему повстречалась садившаяся на мотоцикл Маша Филянова. Пожимая загрубелую сильную руку девушки, Андрей внимательно смотрел на нее: перед ним была и та же и словно бы иная Маша. Те же светлые, родниковой чистоты глаза, но и что-то в них новое, серьезное; те же припухлые губы, но и что-то в них строгое, озабоченное. «Не легко, видно, досталась ей победа».
– Ну, что вы на меня так смотрите, Андрей Никодимович? Постарела? Подурнела? – смутившись, спросила Маша.
«Похорошела!» – хотел было сказать Андрей, но Маша опередила его:
– Старушонкой становлюсь, Андрей Никодимович. Только что седины на висках не хватает, а морщины уж появились… – Никаких морщин, конечно, на ее лице не было. – Я как мать большущей семьи – хлопот полон рот с утра до ночи. И личная жизнь и заочный институт – все кувырком. Из-за горячки со спасением урожая не смогла поехать сдавать зачеты… – Маша тяжело вздохнула и, как раненая птица, печальными глазами посмотрела на Андрея. – Как там Иван-то Анисимович? – тихо спросила она.
– Давно я его не видел, Машенька. Мы ведь в хорошие бригады редко заглядываем, больше на отстающие жмем.
– Та-а-ак… – протянула Маша. – А теперь у вас время есть? Присядем… – Она указала на скамеечку вблизи весов.
Присели.
– Вот, Андрей Никодимович, – заметила Маша, – читала я и о моих девчатах статейки в газетах… Пишут будто бы правильно, а мне почему-то все думается: «Не то, не то…» Ну, как бы это сказать: не о главном пишут… Наши девчонки, что были прежде, совсем не те. И писать о них надо бы не так…
– А как? – спросил Андрей.
Но Маша не ответила на его вопрос и продолжала:
– Вы, конечно, знаете, как Груня Воронина стала комбайнеркой и, соревнуясь с самой Фросей Совкиной, выполняла по две нормы… А качество уборки такое, что даже Лойко ни к чему придраться не мог. Груня все мечтала о том, как она, кончив свою работу, поедет к Сашке на подмогу. Признаться, и я мечтала помочь Ивану Анисимовичу… И вот завтра поедем. Понимаете, Андрей Никодимович, и радостно и боязно… Ведь Сашке это с Иваном обидно будет, что девчонки их на буксир берут. Зубы до десен поизгрызут. Вы только представьте Поля Робсона, когда я со своими девчатами подъеду к его стану! А мне ведь обижать-то его не хочется! Ну, как тут быть, Андрей Никодимович?
Андрей рассмеялся.
– Да он же… Да Иван-то Анисимович ошалеет от… – хотел сказать «от злости» и невольно сказал, – от счастья.
Маша залилась румянцем.
– Думаете, не обидится? Ну, пойдемте на ток, полюбуйтесь на нашу механизацию! – И, сорвавшись со скамейки, потянула Андрея за руку к току.
Механизированный ток колхоза «Знамя коммунизма» изумил главного агронома: большой лагерь машин – «зерноочистительный цех» – раскинулся на забетонированной площадке размером около гектара. По двум сторонам открытого тока – северной и западной «глаголью», большие, под одну крышу, амбары, а дальше – крытый ток с тремя зерносушилками. Кажется, более всего поразила Андрея «веялка-гигант», построенная местными плотником и механиком из частей отжившей свой век молотилки.