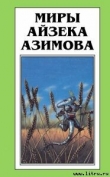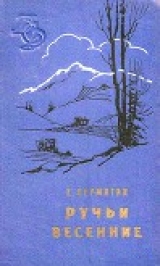
Текст книги "Ручьи весенние"
Автор книги: Ефим Пермитин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц)
Вышли на простор широкого двора и остались одни.
– Вы что-то и семью до сих пор не выписали… Каждую неделю в город к жене ездите? Суббота, воскресенье и до полудня понедельника МТС без директора? И это перед тако-о-ой весной!
– Прежде всего, Василий Николаевич, я не директор, а врид директора.
– Ну, это совсем неважно, Илья Михайлович.
– Нет, очень важно, Василий Николаевич. Еще в первый наш разговор я сказал вам, что я инженер, а не хозяйственник и не земледелец. Мне уже поздно переквалифицировываться. Душой и телом прирос к заводским цехам. В кабинете я сдохну через полгода. Вы мне тогда сказали: «Хотя бы временно, покуда подыщем». Ведь сказали?
– Сказал, но…
– Ну вот, я семью и не перевожу.
– Пойдемте к вам в кабинет и там будем ругаться, – предложил Леонтьев.
Глава двенадцатая
В Войковской МТС и в колхозах, обслуживаемых ею, секретарь райкома пробыл десять дней. Андрей сопровождал его.
Многое дали эти десять дней Андрею Корневу. Только позже он узнал, что Леонтьев в каждую свою поездку по району всегда кого-нибудь с собой прихватывал, чтобы и человека нужного узнать поближе, и научить его кое-чему, и у него поучиться.
За эти десять дней у Андрея было столько встреч с разнообразными людьми, столько интересных бесед с Леонтьевым в машине и на ночевках!
«Да, учиться у него есть чему!» – с радостью думал молодой агроном. В числе других хороших качеств Леонтьева Андрей заметил и умение признавать свои ошибки. А что секретарь, несмотря на его большой жизненный опыт, иногда ошибался, в этом Андрей убедился еще в МТС.
– Поспешил я с рекомендацией Огурцова и Ястребовского, – с горечью сказал секретарь райкома за вечерним чаем. – Уж больно у вас тут плохо было, вот и поторопился. Правда, и выбирать не из кого было, и край напирал: «Назначай специалистов с высшим образованием…» Между прочим, против рекомендации Ястребовского меня очень отговаривал предрика Гордей Миронович. Он советовал послать Ястребовского главинжем. Кстати, Гордей Миронович не родственник ли вам?
– Дед.
– Неплохой у вас дед! – сказал Леонтьев и уже больше к этой теме не возвращался.
– Завтра покажу вам примечательного председателя, Андрей Никодимович. Такого ни в литературе, ни в жизни я еще не встречал. Мне о нем сигналили не раз, но я не верил. «Сказки, – думаю, – из зависти люди чернят». Но сигналы все поступали, и, наконец, получил я большое письмо.
Секретарь посмотрел на насторожившегося Андрея и, словно предчувствуя его удивление, продолжал, улыбаясь глазами:
– «Бугай» – значится он в моей записной книжке. Фамилия его Боголепов, звать – Константин Садокович. Вырваться мне в дальние эти края никак не удавалось: район огромный, запущенный, увяз я по маковку в ближних колхозах. – «Дай, – думаю, – вызову, посмотрю». Вызвал, посмотрел… – Василий Николаевич замолк, словно испытывая разгорающееся нетерпение Андрея. – Да, это, я вам доложу, мужчина! Голос Боголепова я услышал еще в приемной. Эдакий, знаете, малиново-бархатный басище… Мне почему-то всегда казалось, что такой голос непременно темно-вишневого цвета, – густой, пахучий и крепкий, как медовуха, настоянная на малиновом соку… Открыл он дверь и вошел. Я как сидел, так и прирос к креслу. Видели ли вы, Андрей Никодимович, скульптуру Самсона? Так вот, у порога стоял Самсон – колосс двух метров роста, из тех, о которых говорят и пишут – «косая сажень в плечах». С крупной лепной головой, величественно посаженной на мускулистую шею, с вьющимися сизо-черными, как вороново крыло, волосами, с прямым, греческим носом и такими огромными жгучими глазами, что позавидовала бы и записная персидская красавица. «Здравствуйте, товарищ секретарь райкома!» – И повел в мою сторону собольей бровью. Поднялся, отвечаю: «Здравствуйте, товарищ Боголепов», – и протянул ему руку. Подшагнул он как-то пружинно-легко, быстро и бережно-бережно взял мою руку в свою. Я невольно взглянул на его ручищу, а она по меньшей мере в три моих будет. «А ну, – думаю, – если давнет?» Нет, подержал и выпустил. «Садитесь, – говорю, – Константин Садокович», – и указал на кресло у стола. Но он только посмотрел на кресло и остался стоять. «Да садитесь!» – повторил я. Он еще раз опасливо покосился на кресло и тем же хмельным, медовушно-малиновым басищем: «Боюсь, товарищ секретарь, не выдержит креслице: во мне почти полтора центнера». О себе он сообщил застенчиво и даже покраснел по-девичьи. «Почти полтора центнера?!» Я поразился: геркулесище не только не казался уродливой громадиной о семь-восемь пуд весу, но выглядел стройным, легким и быстрым. Нет, ни до, ни, после не видывал я подобной мужской красоты»! И одет просто: в темно-синие суконные штаны, заправленные в смазные сапоги, и в обыкновенную, как у меня, суконную гимнастерку, перетянутую наборным, черненого кавказского серебра поясом. Стоим. И я первый раз в жизни словно бы растерялся, даже не знаю, как приступить к нему. Ну как эдакого богатыря, с такой классической головой и как наковальня грудью, начать крыть за половую распущенность?
– Неслыханную, – усилил Леонтьев, – чудовищную распущенность! Мне сообщили, что в его донжуанском списке, как образно выразился писавший, чуть ли не все одинокие женщины» колхоза: вдовы, девки-вековуши… И всех этих «сильфид» он якобы ублажает, хотя у самого семья: двое ребят-погодков и маленькая рыжевато-перепелесая, – как тоже сообщил мне мой обстоятельный корреспондент, – безбровая жена Елизавета (Боголепов ее нежно зовет «Лизок»), беременная уже третьим. «Лизок» якобы знает о всех похождениях своего мужа и не только не скандалит с «сильфидами», но даже и виду не подает, будто бы даже с гордостью говорит: «Моего Костеньки на всех хватит». Смотрел я, смотрел на него и спрашиваю: «Ну, как в колхозе, Константин Садокович?» А он отвечает: «Буду прямо говорить, хвалиться нечем, но в общем как у людей: хлебушко, сами знаете, погорел, собирать было нечего, со скотом тоже неважненько…» И так это сказал беспечно и успокаивающе и даже с каким-то, как мне показалось, ликованием в голосе, что по его выходило: «Чего же тут огорчаться, когда надо радоваться, раз «хлебушко погорел от засухи и со скотом неважненько…» Чувствую, начинаю закипать: уж очень оскорбил меня этот его ликующий тон. «А с кормами?» – спрашиваю и смотрю ему прямо в глаза. Не отводит глаз, не юлит, а, как показалось мне тогда, издевательски-нагло смотрит на меня, на новичка, и тем же своим успокаивающе-беспечным тоном ответствует: «И с кормами, товарищ секретарь, буду прямо говорить, как у всех: если зима не затянется, как-нибудь доживем… Есть еще и листовник первоиюньского укосу, для телят оставлен, не сено – овес!..»
Как сказал он о листовнике, я и сорвался. Мне, видите ли, доложили, что колхозный их счетовод, из пьянчуг пьянчуга, из плутов плут, вместе с обольстительным председателем гнилую осоку высококачественным сеном в сводке показали. А в действительности хорошего сена в колхозе было заготовлено всего лишь десять процентов… Сверх всего эти деятели приписали в сводке две тысячи семьсот центнеров сена, которого вообще не было. Спросите – зачем? А чтобы выскочить в передовые по заготовкам кормов! Можете представить, как я накинулся на геркулеса, – пух и перья из него полетели!
Леонтьев замолчал. Улыбка против воли выплыла откуда-то из самой глубины и затопила все лицо секретаря: очевидно, он вспомнил, как все это происходило у него в кабинете.
– Видели бы вы, как изменился вдруг сей Дон-Жуан! Как вскинулся, как закричал: «Я трижды в райкоме был, в краевой центр ездил, доказывал – и ничего не добился! Как в стенку! Думал, – говорит, – вы свежий человек, а вы туда же!» Тут я окончательно взбесился. «Да что, – говорю, – вам район или край корма заготовлять будет?» А он как оглушенный бык смотрит на меня и глазами хлопает. А когда разошелся я из-за кормов, тут уж заодно и ухажерские его дела поднял: раскипелся, как самовар, рта ему раскрыть не даю. И уж совсем готов был ударить кулаком по столу и крикнуть: «Поплатишься партийным билетом!», как увидел, что какая-то усталая безнадежность и озлобленность проступили у него на лице. Ни с того ни с сего он вдруг резко взмахнул рукой и крикнул: «А ну вас всех! Измазали грязью по самый воротник! До чего вы меня довести хотите?!» Повернулся и в один миг исчез из кабинета. Как я ни разыскивал его в тот день – не нашел. Вот и еду теперь все выяснить. Если подтвердится, буду рекомендовать колхозникам другого председателя.
Дорога все поднималась. Поднимались к облакам и колхозные поля. «Как же они завозят семена на такие кручи? Наверное, верхом! А сеют, конечно, вручную…»
Бедный колхоз, как и колхоз-миллионер, тоже видится издалека. Колхоз имени Жданова был действительно слаб. Необычная для этих мест многолетняя засуха и ежегодно меняющиеся председатели доконали неплохое до войны хозяйство. Лишь Константин Боголепов на председательском посту держался прочней других: «ходил в председателях» уже четыре года. До войны он был хорошим бригадиром тракторной бригады.
До войны же на околице села тогдашний хозяйственный председатель Архип Грач построил каменные дворы ферм и обсадил их тополями и американскими кленами. За войну их начисто вырубили, и теперь дворы заваливало снегом по кровлю.
Близ деревни, у закопченной колхозной кузницы, свалены ржавые конные плуги и деревянные бороны – немые свидетели первых лет коллективизации. Тут же валялись рассохшиеся колеса, разбитые телеги. За кузней, в глубокой узкой долинке, начиналась деревня.
С тяжелым чувством смотрел Леонтьев и на «инвентарь» у кузницы и на убогие избенки. Секретарь думал о возможном кандидате в председатели колхоза имени Жданова бывшем агрономе, инструкторе райкома Семене Рябошапке, пожелавшем работать в самом отдаленном колхозе. Андрей думал о своем. Его раздражали поля. Разбросаны на крутых склонах гор, не поля – заплатки.
Андрею очень хотелось заговорить с секретарем об этих «несподручных» массивах, но Леонтьев был мрачен. «Поговорю потом», – решил главный агроном. И снова стал смотреть на крутые карнизы, по которым были разбросаны разнообразные заплаты. «По этим полатям только овец и коз пасти. В крайности, рогатым скот, но пашня…»
Занятый своими мыслями, молодой агроном не заметил, как подъехали к центру деревни и остановились у опрятно побеленного домика с новыми тесовыми воротами, где жил присланный сюда неделей раньше инструктор райкома Рябошапка. Домик принадлежал председателю сельсовета Михаилу Павловичу Костромину.
Гостей встретила жена председателя Аграфена Парамоновна, видная, подбористая женщина в новых калошах на босу ногу. Она только что помыла полы, и они сияли желтой краской.
– Мы натопчем вам, – сказал Леонтьев, осторожно ступая на половичок у порога.
– Руки свои, подотрем, – кротко улыбнулась миловидная молодая женщина.
Русую ее голову оттягивала заплетенная по-девичьи, в кисть толщиною коса. Большие серые, как показалось Андрею, очень правдивые глаза женщины и какая-то осанистость рослой фигуры напомнили ему Веру.
Из горницы вышел свекор Аграфены – краснощекий, будто нарумяненный старичок Павел Егорович Костромин. У него была голая, желтая, удлиненная, как дынька, голова и быстрые, мечущиеся глаза. Смотреть на него без улыбки было невозможно. Казалось, эти беспокойные глаза все время пытливо высматривают у собеседника что-то, чтобы незаметно стащить и спрятать. И небольшой остренький нос старичка был тоже какой-то неспокойный. Он будто все время принюхивался к чему-то и определял: «Откуда дует?»
Дед оказался из тех говорунов, которые языком и «капусту шинкуют, и тарелки трут, и рубли куют». В один миг он поведал, что сын и «постоялец-инструхтор» с утра где-то мыкаются, что невестка – из донских казачек, «бабочка хозяйственная, только вот почему-то деток нет…». Сообщил, сколько у сына оставлено на зиму кур и что две овцы объягнились, а корова налила вымя – вот-вот будет… Казалось, старик никогда не остановится. Его перебила вошедшая в горницу сноха:
– Папаня, людям, может, отдохнуть с дороги… Вы бы в кухню вышли…
– Ужо, ужо, дочка, – нехотя отозвался старик, но не тронулся с давки.
Молодая женщина, словно извиняясь за свекра, с той же милой улыбкой обратилась к Леонтьеву и Андрею:
– Боюсь, заговорит он вас. Он всегда больше всех знает. А чего не знает, придумает и за правду выдаст. Ой, боюсь!
– Что вы, что вы, хозяюшка! Напротив, нам все это очень интересно, – успокоил ее Леонтьев.
Завивший было старичок оживился.
– Разве я не знаю, дочка, как с хорошими людьми… Я с кем на своем веку… Я с самим…
– Папаня, с дороги-то спокой бы дать… А то начнете опять про генерала Покровского, у которого вы в драбантах служили…
– А ты не бойся, не бойся, доченька! Я разве не знаю, об чем с ними… – и старик умоляющими глазами посмотрел на сноху.
Аграфена Парамоновна безнадежно махнула обнаженной полной рукой и вышла на кухню, а старик одернул рубаху, беспокойно задвигал носом.
– Так, значится, товарищ секретарь, наслышан я, вы подлегчать, извиняюсь за выражение, выхолостить хотите нашего бугая? Хорошее дело! А прежний-то, значится, районный секретарь с нашим-то председателем дружок был. Как, бывало, приедет, и сразу же категорически требует: «Вези меня развлекаться!» И обязательно с гармонью, с Фотькой-бубначом, подале от села, к дояркам, на молочную ферму… И еще счетоводишка Кузька Кривоносов увяжется с ними. И чего там у них вытворяется!
Слово «вытворяется» старичок сказал как-то особенно значительно и при этом сделал широкий взмах рукой.
– Чего вытворяется, – продолжал он, – одному господу известно! Из любопытства, прости ты меня, матушка пресвятая богородица, выйдешь вечерком за околицу – сыздалька слышны песни, пляс, бубен: гук-гук-гук… – Старик, взмахивая кулачком, показал, как гукал бубен. – Песни, музыку прежний-то секретарь шибко любил. А председатель наш – гармонист, песенник, плясун… Одним словом, обоюднай! На всю губернию обоюднай! Ему спеть, сыграть, как орех раскусить… – Старик раскрыл рот и с чаканьем зубов быстро закрыл его. – Сам, значится, играет, сам поет, а бубнач Фотька троегубай (верхняя губа у него заячья, раздвоешка), из пропьяниц пьяница, в бубну бьет… Пропляшут, ой, пропляшут колхоз! Кто их усчитывает, на чьи гуляют – учет ведет черт… А секретарь, сказывают, подопрет голову и смотрит и слушает, а у самого слезы в три ручья текут. И правильно: есть на что посмотреть и есть кого послушать. Пляшет наш председатель – до земли не дотыкается, запоет – мурашки зачепят тебя от пяток до самого затылка, заиграет – слеза просекет… «Я, – говорит, – в этой глуши, глядя на тебя, Боголепов, только и отдыхаю, как в московском киятре…» И действительно, – старичок прищелкнул пальцами, присвистнул губами и изобразил на лице восхищение. – Жизнь прожил, а другого такого красавца, песенника, гармониста и плясуна не видывал и не слыхивал. Огонь и дым! Мужика опаляет и с ног валит, а бабу… – старик презрительно махнул рукой. – Доярки, телятницы подобрались одна к одной – без мужиков, вдовы да старые девки, Христовы невесты… Ну, они тоже и пьют, и пляшут, и коленца разные вывертывают…
Старик покосился на кухню, где гремела самоваром невестка, и, чуть умерив безудержный говорок, продолжал:
– А уж до бабьего полку наш председатель – стыд сказать, грех умолчать – солощ! Ну тут, значится, корпусность Боголепову дозволяет… Одним словом, кряж! – Старик с явным восхищением закрыл глазки. – И они, значится, бабенки эти самые, не потаюсь, тоже до него желанны. Ух, желанны!..
Леонтьев и Андрей с удивлением слушали старика: у него был бесспорный талант рассказчика. Помимо слов, у дедка не менее убедительно живописали и глаза, и лицо, и руки. И если в речь его порой впутывалось что-то маловероятное, то прыткие, бегающие глазки в этот момент были полны такого простосердечия и подкупающей детской искренности, что закравшееся у слушателей сомнение исчезало само собой. Единственный заметный недостаток этого сказителя происходил от его темперамента: старик часто переметывался с одного на другое. Чувствовалось, что избыточный талант его перехлестывает через край.
– Набаловался наш председатель с войны. С войны, судари мои, с войны! Тогда он молодым еще парнем был. И вдруг, значится, призыв. Садок Созонтыч (это его отец) – головастый мужик, ничего не скажешь, безграмотный, а дальнего ума человек – тайком от сына налил бадейку меду и в район, к докторице. Была в те времена такая белая-пребелая, словно крупчаточная, вдовица-докторица Гусельникова, в обхват толщиной. Но смелая! Ух, смелая! За взятку – зрячего слепым сделает, без взятки – калеку в строй направит. А покойничек Садок Созонтыч и прознал про эту ее смелость, ну и того, не выдержало родительское сердце… Да хоть бы и до меня доведись. Значится, и подмазал он по губам Гусельничихе. Медком подмазал, ну и, как водится, еще посулил «чего-нибудь»… Конечно, посулил. Не иначе, как посулил!
Старик на мгновение умолк, и бегающие глазки его тоже остановились. Потом вдруг вспыхнули и засияли подкупающим детским восторгом.
– Растелешился Кистинтин вместе с другими новобранцами и стоит среди них, как дуб. Стоит, значится, и ладони в горстку держит… А в комиссии Гусельничиха и с ней другая докторица, помоложе, потоньше, по фамилии Сивякова. Ладно. Дошла очередь до Кистинтина. И увидела Гусельничиха, значится, юную натуральную его наготу. – Старичок дробненько захихикал, затрясся, увел белки под лоб. – И подступила к Кистинтину… Щупает его, как цыган коня, а потом и говорит: «Плоскоступие, Ольга Максимовна… Ослушайте сердце». Сивякова подставила табуретку, вскочила на нее и тогда только вровень с грудью Кистинтина оказалась… А там грудь! – рассказчик развел обе руки до отказа… – На ней только камни дробить! Положила ручку на шею – на шее ободья гнуть! Держится за него, слушает в трубочку. Послушала, послушала – соскочила: «Не годен! Явно выраженный порок!» Тут Костёнка и рявкнул на всю комиссию: «Да вы что, с ума сошли? Я же совершенно здоров!»
– Так он, значит, рявкнул все-таки? – не выдержал Леонтьев.
– Как перед господом, рявкнул! – старик истово перекрестился. – А они две в один голос: «Одевайся! В этом деле мы больше тебя понимаем». Вылетел Костёнка от них как пуля: еще бы, голому перед бабами! Выбежал, значится, Кистинтин, а Гусельничиха в спину ему: «Завтра зайди!» Ну, зашел, да с тем и остался: месяц с неделей в районе и выжил…
Глазки и лицо старика опять изобразили простосердечие ребенка.
– Вернулся – глаза да нос… Одним словом, высший курц сдал. А война тянется год, два, три; вдовух молодых – полдеревни. Потихоньку, помаленьку и стал он им утирать слезки. «Агашенька, не тоскуй!», «Фелицатушка, не убивайся», а голос у него, как у змея, что совращал в раю Еву… У баб, видно, слушок прошел, и началась карусель. Спохватилась мать, оженила Костёнку. А после войны явился нашему Кистинтину Садоковичу другой сомуститель… – Старик сокрушенно вздохнул, посмотрел на слушателей затуманившимися глазками; – Районный секретарь! Н-да… Вдовец, а молодой еще. Судите сами, при положении, при деньгах… А при таком высоком положении, хоть бы и до меня довелись, что человеку в первую очередь требовается? – Павел Егорович выжидательно посверкал хитренькими глазками. – Разгульность… Веселье требовается…
Тут старик упустил нить рассказа и, замолкнув, растерянно забегал глазками. На оживленном еще секунду назад лице его изобразилось страдание. Он мучительно вспоминал, о чем говорил только что.
– Да! – обрадовавшись, что вспомнил, продолжал он. – Да так вот, значится, пондравился секретарю наш Кистинтин, а он уже тогда бригадёром тракторным был: с детства Костёнка к машине рвался. И такой до нее смышленый, что, кажется, все ее нутро навылет видит… Пареньком еще у сенокосилок и лобогреек крутился… Как его, бывало, ни гонят, как уши ни рвут, а он все у машин. Попозже, когда первый трактор в наши горы пришел, парнишка и вовсе с ума спятил… Бывало, дозволит ему тракторист, и он разбросает весь трактор на части, вычистит, смажет и соберет с превеликой радостью. Просит только об одном: дать ему кружок объехать, в крайности хоть за баранку подержаться…
Да, так, значится, пондравился районному секретарю Кистинтин, и, как он ни упирался, как ни отбивался, секретарь его из метееса в председатели… А сам чуть не каждую неделю к нам. И вот, значится, стал Костёнка опять прихватывать на стороне… И то, скажите, как он только ладит с бабами? Не иначе, слово такое знает. Все за него стеной стоят. Как перевыборы – ихняя большина! Есть у него что-то такое, у пса, – старик перешел на таинственный шепот, все время опасливо поглядывая на дверь кухни. – Вот не дожить мне до светлого воскресенья – есть! – И, поймав недоверчивую улыбку Леонтьева, покачал головой. – Не знаю, как вы его теперь и сымать будете. Ой, не знаю!
Самовар поспел: его бурное клокотание было слышно в горнице. Павел Егорович, опасливо взглянув на дверь в кухню, снова завелся:
– Одним словом, тяжелая, тяжелая положения в нашем колхозе. Возьмите в твердый разум рассуждение трезвого мужика: председатель – распутник, секретарь – бабощуп. Кому будешь жалиться? Попробуй с длинным языком высунуться: под корень отрежут! Из печеного яйца живого цыпленка выведут… А теперь, – старик высоко вскинул лысую голову, – теперь многие приободрятся… Большая завтра будет битва!
На пороге появилась Аграфена Парамоновна, и свекор заторопился.
– Я беспременно первый явлюсь. Я ему, Кистинтину-то Садоковичу, хороший гостинчик приготовил… Я его этим гостинчиком, как быка молотом, по кучерявому затылку хлобыстну…
– Кушать пожалуйте, дорогие гости! – пригласила хозяйка. – И дед-то вас замучил, и я заморила… Извиняйте.
Огорченный старик тяжело вздохнул и тоже поднялся с лавки.
– Папаня, а вы малость повремените, дайте людям чайку спокойно попить. Наказание с вами…
Павел Егорович сконфузился было и забормотал Привычное «ужо, ужо», но скоро оправился и заспешил к столу вслед за гостями.
Аграфена Парамоновна свела черные брови и раскраснелась.
– Ему дело, а он – собака съела! Вот так у нас каждый раз. Знающие люди уж избегают и заезжать к нам: никому слова вымолвить не даст!
– А ты, дочка, не серчай. У меня теперь одна, может, эта сладость только и осталась! Поговорю – и как меду напьюсь.
Но отходчивая сноха, очевидно, уже перестала сердиться на свекра и, взглянув на него с обычной своей милой улыбкой, сказала:
– Садитесь, папанюшка, и вам налью. А не то, не приведи бог, умрете, всю жизнь каяться буду: не дала наговориться старичку.
После чая Андрей отправился в колхозные амбары проверить хранение семян и провозился там до вечера. Когда вернулся, Леонтьева на квартире не было.
– Партийный актив приказал собирать, – сообщила Аграфена Парамоновна.
С актива секретарь райкома пришел поздно. Был молчалив и зол. От ужина отказался. Хмуря брови, долго ходил по горнице.
Андрею хотелось поговорить с ним о полях колхоза, но решил отложить. «У него, кажется, с этим колхозом и без моей брани неприятностей хоть отбавляй…»