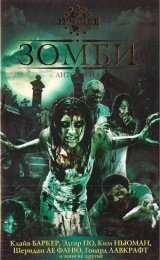
Текст книги "Зомби"
Автор книги: Эдгар Аллан По
Соавторы: Говард Филлипс Лавкрафт,Роберт Альберт Блох,Клайв Баркер,Джозеф Шеридан Ле Фаню,Брайан Ламли,Дж. Рэмсей Кэмпбелл,Ким Ньюман,Лес Дэниэлс,Чарльз Грант
Жанры:
Ужасы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 42 страниц)
В фойе он наткнулся на Таллулу – старуха еще бодрствовала, хотя ей давно уже было пора спать.
– Вы сегодня закроете театр? – спросил он, больше ради того, чтобы сказать что-нибудь, чем из любопытства.
– Я всегда закрываю, – ответила она.
Ей было хорошо за семьдесят; она была уже стара для работы, но слишком упряма, чтобы от нее можно было так легко избавиться. Хотя все это уже не важно. Кэлловэй подумал: а что она скажет, узнав о закрытии? Возможно, это разобьет ее хрупкое сердце. Хаммерсмит как-то говорил, что Таллула служит в театре с пятнадцати лет.
– Ну ладно, спокойной ночи, Таллула.
Билетерша, как всегда, коротко кивнула режиссеру. Затем дотронулась до его локтя.
– В чем дело?
– Мистер Личфилд… – начала она.
– Что такое с мистером Личфилдом?
– Ему не понравилась репетиция.
– Он сегодня был в зале?
– Конечно, – ответила старуха таким тоном, как будто Кэлловэй сказал несусветную глупость. – Конечно был.
– Я его не видел.
– Ну… не важно. Он остался не очень доволен.
Кэлловэй попытался говорить равнодушным тоном:
– Ничем не могу помочь.
– Он принимает вашу пьесу очень близко к сердцу.
– Я это знаю, – ответил Кэлловэй, стараясь избегать укоряющего взгляда Таллулы. У него было достаточно проблем для бессонницы и без ее замечаний.
Он выдернул руку и направился к выходу. Таллула не пыталась его остановить. Она лишь сказала:
– Жаль, вы не видели Констанцию.
Констанцию? Где он слышал это имя? Конечно же, это жена Личфилда.
– Она была замечательной Виолой.
Кэлловэй уже устал от болтовни о мертвой актрисе; она ведь умерла, так? Старик вроде сказал, что она умерла, или нет?
– Замечательной, – повторила Таллула.
– Спокойной ночи, Таллула. Завтра увидимся.
Старуха не ответила. Наверное, обиделась на его тон, ну и пусть. Он вышел на улицу.
Был конец ноября, было довольно холодно. В воздухе не веяло никакими ароматами – несло асфальтом от недавно проложенной дороги, ветер осыпал прохожих пылью. Кэлловэй поднял воротник пиджака и поспешил в свое сомнительное убежище – гостиницу Мерфи.
Оставшаяся в фойе Таллула повернулась спиной к холоду и тьме внешнего мира и побрела обратно в храм грез. Теперь здесь пахло неприятно: затхлостью, старостью, так же как от ее тела. Пора предоставить событиям идти своим чередом; нет смысла пытаться продлить отмеренный срок.
Это относится в равной степени и к людям, и к зданиям. Но «Элизиум» должен умереть так, как и жил, – со славой.
Таллула почтительно задернула алыми занавесями портреты в коридоре, ведущем из фойе в зал. Бэрримор, [5]5
Джон Бэрримор (1882–1942) – американский актер театра и кино, известен исполнением шекспировских ролей.
[Закрыть]Ирвинг, [6]6
Джон Генри Ирвинг (1838–1905) – английский трагик, исполнял крупные драматические роли в шекспировских произведениях.
[Закрыть]: великие имена, великие актеры. Может быть, их изображения выцвели и покрылись пятнами, но воспоминания о них были еще свежи и наполняли ее радостью, как глоток родниковой воды. И на самом почетном месте, в конце вереницы, висело изображение Констанции Личфилд. Лицо необыкновенной красоты; фигура, которая заставила бы рыдать анатома.
Конечно, она была слишком молода для Личфилда, частично в этом заключалась ее трагедия. Личфилд-Свенгали [7]7
Свенгали – зловещий гипнотизер, герой романа английского писателя и художника Джорджа Дюморье "Трильби" (1894); в переносном смысле – сильный человек, подчиняющий своей воле других.
[Закрыть]был вдвое старше ее, но он в состоянии был дать своей прекрасной супруге все, что она только могла желать: славу, деньги, любовь. Все, кроме того, что ей нужно было больше всего, – жизни.
Она умерла, не дожив до двадцати, – рак груди. Умерла так внезапно, что до сих пор трудно было поверить, что ее нет.
Глаза Таллулы наполнились слезами, пока она вспоминала этот утраченный и забытый талант. Так много осталось ролей, которые Констанция могла бы блестяще исполнить. Клеопатра, Гедда, Розалинда, Электра…
Но этому не суждено было произойти. Она ушла, погасла, как свеча на ветру, и для тех, кто остался, жизнь превратилась в томительную и безрадостную зимнюю дорогу. Теперь бывали рассветы, когда Таллула не желала подниматься с постели и молилась о том, чтобы умереть во сне.
Она уже с трудом видела из-за слез, заливших ее лицо. О боже, здесь кто-то есть, наверное, мистер Кэлловэй вернулся зачем-то, а она рыдает, как глупая старуха, – она знала, что он считает ее глупой старухой. Молодой человек вроде него – что ему известно о бремени прожитых лет, о невыносимой вечной боли утраты? Это сознание придет к нему не скоро. Скорее, чем он думает, но все же не сразу.
– Талли, – произнес кто-то.
Она поняла, кто это. Ричард Уолден Личфилд. Она обернулась: он стоял футах в шести от нее, такой же безупречный джентльмен, каким она его помнила. Он, должно быть, лет на двадцать старше ее, но годы не согнули его. Старуха устыдилась своих слез.
– Талли, – ласково произнес он, – я знаю, что уже поздновато, но я чувствовал, что ты обязательно захочешь поздороваться.
– Поздороваться?
Вытерев слезы, Таллула разглядела спутницу Личфилда, стоявшую чуть позади него. Эту ослепительную, совершенную красавицу Таллула узнала сразу же, как узнают собственное отражение в зеркале. Время словно разбилось на куски, и мир лишился рассудка. Любимые лица неожиданно возвращались, чтобы заполнить пустоту ночи и дать надежду тому, кто устал от жизни. Почему она должна сомневаться в том, что видит?
Это была Констанция, прекрасная Констанция – она взяла Личфилда под руку и молча кивнула Таллуле.
Дорогая умершая Констанция.
Репетиция была назначена на следующее утро на девять тридцать. Диана Дюваль, как это было у нее принято, явилась на полчаса позже. Выглядела она так, словно не спала всю ночь.
– Извините за опоздание, – произнесла она, и звук ее голоса вяло потек со стороны задних рядов к сцене.
У Кэлловэя не было настроения с ней сюсюкать.
– Завтра премьера, – рявкнул он, – а ты задерживаешь нас всех!
– Правда? – пролепетала она, пытаясь изобразить сногсшибательную красотку. Но было слишком рано, и старания ее пропали даром.
– Итак, все сначала, – объявил Кэлловэй, – прошу всех держать под рукой роль и ручку. У меня здесь список реплик, я хочу их все повторить до обеда. Райан, у тебя есть экземпляр суфлера?
Последовало торопливое перешептывание с ассистентом и извиняющееся «нет» от Райана.
– Так раздобудь его! И я не желаю сейчас слушать никаких жалоб, осталось слишком мало времени. Вчера у нас были поминки, а не спектакль. Я собираюсь кое-что выкинуть, и не всем это покажется приятным.
Так оно и случилось. Несмотря на предупреждение, посыпались протесты, произнесенные вполголоса оскорбления, начались споры, уступки, появились кислые гримасы. Кэлловэй скорее согласился бы сейчас быть подвешенным за ноги, чем управляться с четырнадцатью взвинченными людьми, игравшими в пьесе, которую две трети из них едва понимали и которая оставшейся трети была глубоко безразлична. Нервы у него были на пределе.
Ситуацию ухудшало еще и то, что все это время его не покидало чувство, будто за ним наблюдают, хотя зал был пуст – от галерки до передних рядов. Может быть, у Личфилда где-то проделан глазок, подумал Кэлловэй, затем отбросил эту мысль как первый признак приближающейся паранойи.
Наконец наступил перерыв на ланч.
Кэлловэй знал, где искать Диану, и был готов к предстоящему спектаклю. Обвинения, слезы, утешения, снова слезы, примирение. Стандартный сценарий.
Он постучал в дверь гримерной примадонны.
– Кто там?
Она что, уже плачет или приняла стаканчик чего-нибудь подкрепляющего?
– Это я.
– О.
– Можно войти?
– Да.
Перед ней стояла бутылка дорогой водки и бокал. Слез пока не было.
– Я безнадежна, так? – начала Диана почти сразу же, не успел Кэлловэй закрыть дверь. Глаза ее молили о возражении.
– Не глупи, – уклонился он от ответа.
– У меня никогда не получалось играть Шекспира, – надула губы звезда, словно виноват в этом был сам Шекспир. – Всё эти чертовы разговоры.
Истерика была близко, Кэлловэй уже, казалось, видел, как разражается гроза.
– Да все нормально, – солгал он, обнимая ее. – Тебе просто нужно еще немного времени.
Диана помрачнела.
– Завтра премьера, – без выражения сказала она. Спорить с этим было трудно. – Меня на кусочки разорвут, ведь так?
Он хотел было возразить, но у него язык не поворачивался лгать.
– Да. Если ты не…
– Меня больше никуда не возьмут, да? Это Гарри, проклятый тупоумный еврей, уговорил меня связаться с театром. «Это пойдет на пользу твоей репутации, – сказал он. – Придаст тебе больше веса». Да что он знает? Берет свои треклятые десять процентов и бросает меня одну все разгребать. Я одна-единственная здесь выгляжу полной идиоткой, правда?
Мысль о том, что она выглядит идиоткой, послужила толчком к истерике. Просто слезы здесь не годились: или буря, или ничего. Кэлловэй сделал все, что мог, хотя это было нелегко. Она рыдала так громко, что остатки разума покинули его. Он слегка поцеловал ее, как обязан был сделать любой уважающий себя режиссер, и – о чудо! – казалось, это помогло. Он повторил прием с несколько большим жаром, причем руки его каким-то образом оказались у ее груди, нашли под тканью соски и принялись ласкать их.
Это произвело магическое действие. Среди облаков сверкнули лучи солнца; Диана часто задышала и принялась расстегивать Терри ремень, чтобы жар его тела высушил остатки дождя. Он нащупал кружевную отделку ее трусиков, и она страстно вздохнула, когда он начал ласкать ее мягко и в то же время не слишком мягко, настойчиво, но не слишком настойчиво. Где-то в процессе Диана опрокинула бутылку, но никто из них не позаботился подхватить ее; водка разлилась по столу и закапала на пол, словно аккомпанируя шепоту женщины и вздохам мужчины.
А затем проклятая дверь открылась, и между ними пронесся сквозняк, охлаждая предмет, над которым трудилась Диана.
Кэлловэй уже развернулся было к двери, затем вспомнил, что костюм его не совсем в порядке, и вместо этого уставился в зеркало позади Дианы, чтобы разглядеть незваного гостя. С бесстрастным выражением лица прямо на Кэлловэя смотрел Личфилд.
– Прошу прощения, мне следовало постучать.
Голос его был мягок, словно взбитые сливки, в нем не слышалось ни удивления, ни смущения. Кэлловэй высвободился, застегнул брюки и обернулся к Личфилду, внутренне проклиная свои пылающие щеки.
– Да… Это было бы более вежливо, – сказал он.
– Еще раз приношу свои извинения. Я хотел поговорить с… – его глаза, так глубоко посаженные, что они казались бездонными, остановились на Диане, – с вашей звездой.
Кэлловэй буквально почувствовал, как раздулось при этих словах это Дианы. Ответ Личфилда привел его в замешательство: он что, внезапно изменил свои взгляды? Неужели он явился сюда в качестве раскаявшегося воздыхатели, чтобы преклонить колени у ног божества?
– От души надеюсь, что леди сможет уделить мне минутку. Если это возможно, разумеется, – продолжал медоточивый голос.
– Вообще-то, мы как раз…
– Разумеется, – перебила его Диана. – Подождите минуточку, хорошо?
Она сразу почувствовала себя хозяйкой положения; слезы были забыты.
– Я подожду снаружи, – ответил Личфилд, закрывая за собой дверь.
Не успел он выйти, как Диана уже уселась перед зеркалом, чтобы промокнуть салфеткой потекшую тушь.
– О, – ворковала она, – как приятно встретить доброжелателя. Ты знаешь, кто это?
– Его зовут Личфилд, – сообщил ей Кэлловэй. – Раньше он был доверенным лицом хозяина театра.
– Может быть, он хочет мне что-то предложить?
– Сомневаюсь.
– Да не будь ты таким занудой, Теренс! – раздраженно воскликнула актриса. – Ты просто терпеть не можешь, когда я уделяю внимание кому-то, кроме тебя, так?
– Прошу прощения.
Диана придирчиво осмотрела макияж.
– Как я выгляжу? – спросила она.
– Отлично.
– Прости за то, что было.
– А что было?
– Ну, ты сам знаешь.
– Ах да.
– Увидимся в пабе, ладно?
В общем, она его буквально вытолкала – в нем не было больше необходимости ни как в любовнике, ни как в утешителе.
Личфилд терпеливо ждал снаружи, в холодном коридоре. Здесь было светлее, чем на плохо освещенной сцене вчера вечером, и старик стоял сейчас ближе, но Кэлловэй по-прежнему не мог как следует разглядеть лицо, скрытое под широкими полями шляпы. В мозгу режиссера зажужжала странная мысль. В чертах Личфилда было что-то искусственное. Плоть на его лице не двигалась, как обычно движется переплетение мышц и сухожилий, она была словно застывшей, подобно ткани, наросшей на поверхности раны.
– Она еще не готова, – сообщил старику Кэлловэй.
– Какая прелестная женщина, – промурлыкал Личфилд.
– Да.
– Я вас не виню…
– Хм…
– Однако она не актриса.
– Вы же не собираетесь вмешиваться в это дело, Личфилд? Я вам не позволю.
– У меня и мысли такой не возникало!
Личфилд явно получал извращенное удовольствие от смущения Кэлловэя, и мнение режиссера о старике изменилось не в лучшую сторону.
– Я не позволю вам портить ей настроение…
– Мои интересы совпадают с вашими, Теренс. Все, что мне нужно, – это чтобы спектакль прошел в лучшем виде, поверьте мне. Неужели я позволю себе тревожить вашу звезду? Я буду мягок, как ягненок, Теренс.
– Кем бы вы ни были, – грубо ответил тот, – вы отнюдь не ягненок.
На лице Личфилда снова появилась улыбка, но кожа в уголках рта лишь слегка растянулась, чтобы изобразить ее.
Пока Кэлловэй шел в паб, перед ним все стояла эта хищная усмешка, и он встревожился, сам не зная отчего.
В увешанной зеркалами каморке Диана Дюваль приготовилась играть свой спектакль.
– Можете войти, мистер Личфилд, – объявила она.
Старик появился на пороге еще до того, как его имя замерло у нее на губах.
– Мисс Дюваль. – Он слегка поклонился в знак уважения. Она улыбнулась: какие манеры. – Еще раз прошу прощения за свое вторжение.
Диана приняла вид скромницы; это всегда действовало на мужчин неотразимо.
– Мистер Кэлловэй… – начала она.
– Очень настойчивый молодой человек, как мне кажется.
– Да.
– Но не настолько, чтобы навязывать свое внимание звезде?
Она нахмурилась, и на лбу, над выщипанными бровями, возникла морщинка.
– Боюсь, что вы ошибаетесь.
– В высшей степени непрофессионально с его стороны! – воскликнул Личфилд. – Но, простите меня, его порыв понятен.
Актриса отошла от него поближе к горевшим у зеркала лампочкам и повернулась к ним спиной, зная, что в таком свете ее волосы смотрятся более выгодно.
– Итак, мистер Личфилд, чем я могу быть вам полезна?
– Откровенно говоря, это очень деликатный вопрос, – ответил тот. – Как это ни прискорбно, но – не знаю, как это выразить, – ваш талант не совсем подходит для роли Виолы. Вам недостает тонкости.
На несколько секунд в комнате повисла тишина. Диана фыркнула, обдумала его слова и шагнула вперед, к двери. Ей не понравилось, как началась эта сцена. Она ждала встретить поклонника, а вместо этого столкнулась с критиком.
– Убирайтесь! – резко выкрикнула она.
– Мисс Дюваль…
– Вы что, глухой?
– Вам не очень комфортно в роли Виолы, верно? – продолжал Личфилд, словно звезда ничего не сказала.
– Не ваше собачье дело! – выплюнула она.
– Ошибаетесь, это мое дело. Я присутствовал на репетициях. Вы играете слабо, неубедительно. Комические эпизоды плоски, сцена воссоединения, которая должна тронуть зрителя до глубины души, никуда не годится.
– Благодарю, я не нуждаюсь в ваших оценках.
– У вас нет стиля…
– Убирайтесь к дьяволу!
– Ни таланта, ни стиля. Я уверен, что в телесериалах вы само совершенство, но сцена требует особого дарования, которого вам, к сожалению, не хватает.
Обстановка накалялась. Диане хотелось ударить обидчика, но у нее не было для этого подходящего повода. Она не могла принять всерьез этого выцветшего позера. Он скорее походил на персонажа музыкальной комедии, чем мелодрамы, со своими аккуратными серыми перчатками, аккуратным серым галстуком. Ядовитый старый дурень, да что он знает об актерской профессии?
– Убирайтесь, пока я не позвала помощника режиссера, – крикнула Диана, но Личфилд загородил ей путь к двери.
Сцена изнасилования? Неужели у него насчет нее грязные намерения? Боже упаси.
– Моя жена, – говорил он, – когда-то играла Виолу…
– Рада за нее.
– И ей кажется, что она сможет вдохнуть в эту роль немного больше жизни, чем вы.
– Завтра премьера, – невольно произнесла Диана, словно защищая свое право играть в спектакле.
Какого черта она вообще с ним спорит? Вломился сюда, несет кошмарную чушь. Может быть, потому, что она немного боится? Он был совсем близко, она чувствовала на себе его дыхание – пахло дорогим шоколадом.
– Она знает роль наизусть.
– Эта роль моя. И я буду исполнять ее. Я буду играть, пусть я самая худшая Виола за всю историю театра, ясно вам?
Диана пыталась сохранить спокойствие, но это было нелегко. Она не боялась насилия, и все же он вселял в нее страх.
– Боюсь, что я уже пообещал эту роль своей жене.
– Что?! – Она даже вытаращила глаза от подобной наглости.
– И Констанция сыграет эту роль.
Она рассмеялась, услышав имя. Может быть, в конце концов, все это лишь комедия? Что-нибудь из Шеридана или Уайльда, небольшое, игривое. Но он говорил с такой непоколебимой уверенностью. «Констанция сыграет эту роль» – как будто это был общеизвестный, неоспоримый факт.
– Я не собираюсь больше обсуждать это с тобой, фраер, так что, если твоя жена хочет играть Виолу, ей придется, дьявол ее забери, делать это на улице. Понял?
– Она будет играть ее завтра.
– Ты что, оглох, или ты псих, или и то и другое?
«Следи за собой, – подсказал Диане внутренний голос, – ты переигрываешь, теряешь контроль над сценой. Какова бы та ни была».
Личфилд шагнул к ней, и лампочки полностью осветили лицо под шляпой. Диана не рассмотрела посетителя как следует, когда он появился, но теперь она разглядела глубокие морщины, словно выдолбленные вокруг его глаз и рта. Это была не живая плоть, она была в этом уверена. На нем была плохо подогнанная латексная маска. Рука ее дрогнула – так сильно ей захотелось сорвать покров и открыть его истинное лицо.
Разумеется! Вот оно что. Сцена, которую они разыгрывают, – «Разоблачение».
– Посмотрим, какой ты на самом деле! – воскликнула Диана, и, прежде чем Личфилд успел остановить ее, рука ее потянулась к его щеке.
Улыбка расплылась еще шире. Именно это ему и нужно, промелькнуло у нее в мозгу, но было слишком поздно сожалеть или извиняться. Кончиками пальцев Диана нащупала край маски рядом с глазницей, схватила покрепче и рванула.
Тонкий покров латекса соскользнул, и ей открылась его истинная внешность. Диана хотела было отстраниться, но Личфилд вцепился ей в волосы. Ей оставалось лишь смотреть. Кое-где виднелись клочки иссохших мышц, из кожистого лоскутка на горле торчали остатки бороды, но плоть давно уже распалась. От лица остались лишь кости, источенные временем и покрытые пятнами.
– Я не был, – произнес череп, – забальзамирован. В отличие от Констанции.
Но Диана не слышала его. Она не издала ни звука, хотя в этой сцене от нее явно требовался крик ужаса. Она смогла выдавить из себя лишь слабое хныканье, когда он крепче ухватил ее и откинул ее голову назад.
– Рано или поздно каждый из нас встает перед выбором, – произнес Личфилд; теперь от него пахло не шоколадом, а тленом, – кому служить: себе самому или своему искусству.
Она ничего не поняла.
– Мертвые должны выбирать более тщательно, чем живые. Мы не можем, так сказать, размениваться на мелочи; мы требуем чистых восторгов. Мне кажется, вам искусство не нужно. Я прав?
Диана закивала, моля Бога, чтобы этот ответ оказался верным.
– Жизнь тела вам дороже жизни воображения. И вы ее получите.
– Благодарю… вас.
– Если вы так сильно жаждете ее, получайте.
Внезапно рукой, которая больно тянула Диану за волосы, мертвец обхватил ее затылок и привлек ее к своему лицу. Женщина хотела закричать, но гнилые челюсти плотно прижались к ее губам и не дали ей вздохнуть.
Райан обнаружил Диану на полу ее гримерной примерно в два часа дня. Никто не понял, что произошло. На ее голове и теле не было никаких повреждений; она была жива, но находилась в коме. Решили, что она оступилась и при падении ударилась головой. Но, какова бы ни была причина, она явно выбыла из игры.
До последней репетиции в костюмах оставалось несколько часов, а Виола лежала в реанимации.
– Чем скорее это все снесут, тем лучше, – сказал Хаммерсмит.
Он пил в рабочее время, чего Кэлловэй прежде за ним не замечал. На его письменном столе стояла бутылка виски и наполовину полный бокал. На бумагах виднелись влажные следы от бокала, и рука директора заметно дрожала.
– Какие новости из больницы?
– Такая красивая женщина, – произнес Хаммерсмит, уставившись на бутылку.
Кэлловэй готов был поклясться, что тот сейчас разрыдается.
– Хаммерсмит! Как она?
– Она в коме. Но состояние стабильное.
– Думаю, это уже неплохо.
Хаммерсмит воззрился на режиссера, и его торчащие брови в гневном выражении сошлись над переносицей.
– Ты сопляк, – всхлипнул он. – Ты ее трахал, да? Воображаешь себя крутым, а? Так вот что я тебе скажу: Диана Дюваль стоит дюжины таких, как ты. Дюжины!
– Значит, вот почему вы позволили мне ставить этот последний спектакль, Хаммерсмит? Увидели ее и захотели прибрать к своим грязным куцым лапам?
– Ты этого не поймешь. Ты думаешь не головой, а яйцами. – Казалось, он искренне обиделся на истолкование, которое Кэлловэй дал его восхищению Дианой Дюваль.
– Ну хорошо, как хотите. Но у нас по-прежнему нет Виолы.
– Вот поэтому я все и отменяю, – произнес Хаммерсмит медленно, смакуя момент.
Да, это должно было случиться. Без Дианы Дюваль «Двенадцатой ночи» не будет; и, скорее всего, это к лучшему.
В дверь постучали.
– Кто там еще, мать твою, – негромко выругался Хаммерсмит. – Войдите.
Это оказался Личфилд. Кэлловэй почти рад был увидеть это странное, изборожденное рытвинами лицо. Хотя ему хотелось задать старику кое-какие вопросы: о том, в каком состоянии он оставил Диану, об их разговоре, но он не желал беседовать об этом в присутствии Хаммерсмита. А кроме того, появление Личфилда в кабинете директора опровергало обвинения, которые уже было сформировались у режиссера в мозгу. Если старик по какой-то причине попытался причинить Диане вред, неужели он вернулся бы в театр так скоро, с улыбкой на лице?
– Кто вы такой? – рявкнул Хаммерсмит.
– Меня зовут Ричард Уолден Личфилд.
– Это мне ни о чем не говорит.
– Прежде я был доверенным лицом «Элизиума».
– Вот как.
– Я сделал своей целью…
– Что вам нужно? – перебил его Хаммерсмит, которого раздражали манеры гостя.
– Я слышал, спектакль под угрозой, – ответил Личфилд, ничуть не выведенный из терпения.
– Никакой угрозы нет, – возразил Хаммерсмит, позволив себе слегка улыбнуться уголком рта. – Никакой угрозы нет, потому что спектакля не будет. Он отменен.
– Неужели? – переспросил Личфилд, взглянув на Кэлловэя. – Это сделано с вашего согласия?
– Его согласие не имеет значения, я имею право отменить спектакль, если того требуют обстоятельства; это написано в контракте. Сегодня театр закрывается навсегда, и спектаклей здесь больше не будет.
– Будут, – возразил Личфилд.
– Что? – Хаммерсмит встал из-за стола, и Кэлловэй вдруг понял, что он никогда не видел его стоящим. Директор оказался коротышкой.
– «Двенадцатая ночь» будет идти, как запланировано, – мурлыкал Личфилд. – Моя жена любезно согласилась заменить мисс Дюваль в роли Виолы.
Хаммерсмит рассмеялся; это был грубый, хриплый смех мясника. Однако он тут же смолк: в офисе повеяло лавандой, и вошла Констанция Личфилд в мерцающих шелках и мехах. Она была такой же прекрасной, как и в день смерти, и при виде ее Хаммерсмит задохнулся и смолк.
– Наша новая Виола, – объявил Личфилд.
После секундного замешательства Хаммерсмит обрел дар речи:
– Эта женщина не может выступать на сцене без предварительного объявления за полдня.
– А почему бы и нет? – произнес Кэлловэй, не сводя глаз с молодой актрисы.
Личфилду повезло: Констанция была необыкновенной красавицей. Кэлловэй едва осмеливался дышать, опасаясь, что видение вот-вот исчезнет.
Затем она заговорила. Она произнесла строчки из первой сцены пятого акта:
Голос у нее был негромкий, музыкальный, но он, казалось, шел из глубины души, и каждая фраза словно говорила о скрытой, бушующей в ней страсти. И это лицо. Оно было живым, одухотворенным, и черты его скупо, но точно передавали изображаемые актрисой чувства.
Констанция завораживала.
– Простите, – заговорил Хаммерсмит, – но на этот счет существуют строгие правила. Она состоит в профсоюзе?
– Нет, – ответил Личфилд.
– Ну вот, видите, это совершенно невозможно. Профсоюз строго запрещает подобные вещи. Они с нас кожу живьем сдерут.
– Да какая вам разница, Хаммерсмит? – вступил Кэлловэй. – Какого черта вы суетитесь? Когда это здание снесут, вы к театру и близко не подойдете.
– Моя жена наблюдала за репетициями. Она превосходно знакома с ролью.
– Это будет необыкновенной удачей, – продолжал Кэлловэй, глядя на Констанцию; с каждой минутой энтузиазм его разгорался все сильнее.
– Вы рискуете разозлить профсоюз, Кэлловэй, – проворчал Хаммерсмит.
– Я готов пойти на риск.
– Как вы совершенно правильно заметили, мне до этого мало дела. Но если им кто-нибудь шепнет словечко, вас размажут по стенке..
– Хаммерсмит, дайте ей шанс. Дайте нам всем шанс. Если профсоюз обольет меня грязью, это мое дело.
Директор снова сел.
– Да никто не придет, вы что, не понимаете? Диана Дюваль была звездой; они высидели бы весь ваш занудный спектакль, только чтобы посмотреть на нее, Кэлловэй. Но неизвестная?.. Ну ладно, это же ваши похороны. Идите, делайте что хотите, я умываю руки. Вы за все отвечаете, Кэлловэй, запомните это. Надеюсь, они вас за это распнут.
– Благодарю вас, – произнес Личфилд. – Очень любезно с вашей стороны.
Хаммерсмит начал наводить порядок у себя на столе, освобождая место для бутылки и стакана. Беседа была окончена: он больше не интересовался судьбой этих однодневок.
– Уходите, – велел он. – Просто уйдите отсюда.
– У меня несколько условий, – заявил Личфилд Кэлловэю, когда они вышли из офиса. – В спектакле необходимо кое-что изменить, для того чтобы моей жене было удобнее работать.
– И что именно?
– Ради комфорта Констанции я попрошу вас существенно уменьшить яркость освещения. Она не привыкла играть в свете таких ослепительных софитов.
– Очень хорошо.
– Я также хотел бы, чтобы вы установили ряд софитов на рампе.
– На рампе?
– Я понимаю, это необычное условие, но она чувствует себя гораздо лучше, когда на рампе горят огни.
– Они же слепят актеров, – возразил Кэлловэй. – Им трудно видеть зрителей.
– И тем не менее… Я вынужден настаивать на этом условии.
– Хорошо.
– И третье, я попрошу вас изменить все сцены с поцелуями, объятиями и другими прикосновениями таким образом, чтобы исключить любой физический контакт с Констанцией.
– Все?
– Все.
– Но ради бога, почему?
– Моей жене противопоказано учащенное сердцебиение, Теренс.
Кэлловэй на мгновение поймал взгляд Констанции. Он был подобен взгляду ангела.
– Может быть, следует представить нашу новую Виолу группе? – предложил Личфилд.
– Почему бы и нет?
И все трое отправились в зрительный зал.
Переустройство сцены и изменение всех эпизодов с прикосновениями к Виоле не заняло много времени. И хотя актеры сперва отнеслись к новой коллеге с опаской, ее сердечные манеры и природная грация быстро покорили их. А кроме того, ее появление означало, что спектакль все-таки состоится.
В шесть Кэлловэй объявил перерыв, сказав, что репетиция в костюмах начнется в восемь, и отпустил актеров часок отдохнуть. Все разошлись, переговариваясь с новообретенным энтузиазмом. То, что еще утром казалось хаосом, по-видимому, начало обретать форму. Конечно, оставалось еще множество мелких недочетов, но все это было нормальным для спектакля. На самом деле актеры сейчас впервые почувствовали себя уверенно. Даже Эд Каннингем снизошел до комплиментов новой Виоле.
Личфилд застал Таллулу за уборкой в Зеленой комнате.
– Сегодня…
– Да, сэр.
– Тебе нечего бояться.
– Я не боюсь, – ответила Таллула. – Как вы можете так думать? Как будто…
– Это может быть болезненно, о чем я сожалею. Для тебя, да и для всех нас.
– Я понимаю.
– Не сомневаюсь. Ты любишь театр, как и я: тебе известен парадокс актерской профессии. Играть жизнь… ах, Таллула, изображать живого человека – как это странно. Иногда, знаешь ли, я спрашиваю себя: а долго ли еще я смогу продолжать этот спектакль?
– Вы играете превосходно, – ответила она.
– Ты так думаешь? Ты действительно так думаешь? – Ее похвала подбодрила его. Он так устал постоянно притворяться: изображать человека из плоти и крови, дыхание, жизнь. Чувствуя благодарность к Таллуле за ее слова, он прикоснулся к ней. – Ты хотела бы умереть, Таллула?
– А это больно?
– Совсем чуть-чуть.
– Тогда, мне кажется, это будет прекрасно.
– Так оно и есть.
Личфилд прикоснулся губами к ее губам; она с радостью уступила ему и менее чем через минуту была мертва. Он положил ее на потертый диван и закрыл Зеленую комнату ее ключом. В прохладном помещении тело должно быстро окоченеть, и она встанет снова примерно в то время, когда прибудут зрители.
В шесть пятьдесят Диана Дюваль вышла из такси у дверей «Элизиума». Было темно и ветрено, однако женщина чувствовала себя превосходно: ничто не тревожило ее теперь. Ни темнота, ни холод.
Незамеченная, она прокралась мимо афиш, на которых красовались ее имя и лицо, и прошла через пустой зал в гримерную. Там она нашла своего возлюбленного – он пытался убить время, куря сигарету за сигаретой.
– Терри.
Диана на мгновение задержалась в дверях, чтобы ее появление произвело надлежащий эффект. При виде ее он сильно побледнел, и она слегка надула губы. Это оказалось непросто. Мышцы лица онемели, но ей удалось изобразить недовольную гримаску.
Кэлловэй потерял дар речи. Диана плохо выглядела, в этом не было сомнений, и, если она покинула больницу, чтобы принять участие в костюмной репетиции, ее следовало уговорить не делать этого. Макияжа на ней не было, пепельные волосы потускнели.
– Зачем ты пришла? – спросил он, когда она закрыла дверь.
– Мне нужно закончить одно дело, – ответила Диана.
– Послушай… Я хочу кое-что тебе сказать… – Боже мой, что сейчас начнется! – Мы нашли замену тебе. – Она непонимающе уставилась на него. Он продолжал, запинаясь на каждом слове: – Мы решили, что ты не в состоянии играть, то есть не вообще, но, понимаешь, по крайней мере на премьере…
– Ничего страшного, – ответила она.
У Кэлловэя даже отвисла челюсть.
– Ничего страшного?
– Какое мне дело до этого?
– Ты же сказала, что вернулась закончить…
Он смолк. Диана начала расстегивать пуговицы на платье. Она же не серьезно, подумал он, не может быть. Секс? Сейчас?
– За последние несколько часов я много думала, – произнесла она, повела бедрами, чтобы стряхнуть помятое платье, и перешагнула через него. На ней был белый бюстгальтер, который она безуспешно пыталась расстегнуть. – Я решила, что театр – это не для меня. Ты не поможешь?








